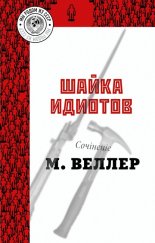Круги по воде Роз Мариэтта
– Я вот не верю, что мой сын просто так побил Вашего сына, – вежливо возразил дядя Лёша. – Толик – хороший мальчик. Он никогда раньше не дрался. Ни разу!
– Мы это учтем, – сказала фашистка. – Поэтому «двойку» за поведение в четверти не поставим. А вот остальным…
Ой, да подумаешь! «Двойка» за поведение.
– А я вот хочу знать, почему всё произошло, – не унимался дядя Лёша. – Толик! Толя! – позвал он сына.
Толик вздрогнул, посмотрел на отца.
– Вы, действительно, избили этого мальчика?
– Да, – ответил Толик.
Все загалдели.
– Тише! Тише! – прикрикнула Людмила Михайловна.
Родители замолчали, одна Колькина мама продолжала что-то сердито бубнить.
– Почему вы это сделали? – продолжил дядя Леша. Говорил он спокойно. Толик молчал. – Я просто хочу понять.
– Потому что он гад! – вдруг закричал Толик. – Фашист! Нет, хуже фашиста! Потому что вроде как товарищ! Будущий пионер! А из-за него Машка… – Толик закрыл лицо руками и заплакал.
Нас выставили в коридор.
Мы стояли, прислонившись к стене, молчали, прислушивались.
Взрослые громко спорили. Дядя Леша взвинчено говорил:
– Вы хоть понимаете, до чего довели девочку!!
– Было собрание, – оправдывалась учительница.
Все опять загалдели.
Наконец, двери распахнулись, и родители повели нас домой.
Дома мне влетело.
– Я думала, ты хорошая, послушная девочка! – на высоких нотах орала мать на кухне.
Я сидела за столом и размазывала по тарелке кашу. Отец пялился в телевизор.
– Как ты могла пойти на поводу у этого мальчика! Да он настоящий хулиган!
– Толик – не хулиган, – буркнула я.
– Отвратительный, гнусный хулиган! Вы избили товарища!!
– Он нам не товарищ…
– Да что ты говоришь!! Что ты вообще понимаешь в жизни!! Весь нос в соплях, а учить меня будешь!! Я запрещаю тебе общаться с этими гадкими детьми!!
– Это мои друзья, мама…
– Запрещаю! Ты слышишь, что я тебе говорю! Этот Вовка твой! Он без отца, а почему без отца, ты когда-нибудь спрашивала!! Где вообще его папаша!! А Купцов!! Он сын сантехника!! Его родители – быдло рабоче-крестьянское!!
– Ты говоришь о моих друзья, мама…
– А этот Калачиков Саша!! Явно какой-то придурок!! У него, наверное, была родовая травма!! Он недоразвитый!! И родители у него явно алкоголики!! А этот Толик!! Тоже мне вшивая интеллигенция!!
– Это мои друзья, мама!
– А ты что возникаешь!! И вообще, когда мы купим цветной телевизор!! – накинулась вдруг мать на отца. – У всех нормальный людей уже есть цветной телевизор, а мы все еще в черно-белый пялимся!!
– Это мои друзья, мама!
– А ты вообще молчи! Ничего ты не понимаешь! Сопля малолетняя!
– Не смей так говорить о моих друзьях!! – вдруг заорала я так громко, что чуть сама не оглохла.
Мать уставилась на меня, захлопала ресницами. Даже отец оторвался от телевизора.
Я встала.
– Это мои друзья, мама. И я буду с ними дружить. Они хорошие. А Кольку мы ещё раз отлупим. Ясно!!
Мать разревелась.
– Дожили! Родная дочь тыкает!
Я встала и ушла в свою комнату.
* * *
В конце четверти на линейке директриса объявила, что из-за драки нас пятерых не примут в пионеры в этом году.
– Исключение можно сделать только для Анатолия Рублёва, – сказала она. – Он отличник, и отец его – кандидат наук. Если ты, Толя, извинишься сейчас перед своим товарищем, то так и быть! в пионеры мы тебя примем.
И тогда Толик громко сказал:
– Отец мой ни причем! Это я Кольку бил! И не товарищ он мне! Извиняться я не буду.
После линейки к нам подошли Кеха, Лёнька и даже Иринка. Окружили нас.
– Ну, держитесь теперь! – Кеха обняла меня. При всех! – Пантелейщина спуску не даст. Всем вам.
Мы молчали. Нас было пятеро.
1988-1989 гг.
О том, что Вовка утонул ещё в начале августа, я узнала лишь в конце лета, когда вернулась из пионерского лагеря, куда меня на все три смены запихнули родители подальше от города, от асфальтовой жары и подальше от моих друзей.
Узнала во дворе. Вышла погулять, думала, кого позвать, прикидывала, кто может сейчас быть дома. Тут откуда-то выскочили оба Сашки, начали кричать, размахивать руками.
Я долго не могла понять, что они говорят.
Долго не могла поверить.
Вовка не мог утонуть! Он ведь Вовка! Наш Вовка! Шадрин! Маленький, самый маленький в классе! Рыжий, с конопушками!
Он ведь занимался плаванием! Он ведь был перспективным!
Он ведь так мечтал стать пионером, путешественником, спасти меня от хулигана-пятиклассника!..
Вовку унесла хитрая, коварная Обь. Он был на даче – на той самой даче, которой так завидовали наши родители: недалеко от станции, недалеко от большой реки, двухэтажный домик с электричеством, водопроводом. В тот день он решил порыбачить и вдруг увидел, как течение уносит надувной плот с двумя орущими малышами. Малышей он спас, а его самого затянула воронка, которых в Оби множество.
Его матери потом вручили маленькую желтенькую медальку в коробочке. Красиво, торжественно. Весь дом сбежался посмотреть!
Только вот Вовки уже не было…
Тут же оба Сашки огорошили еще одной новостью – в июле уехал Толик. Не просто в другой дом, другой район, а вообще в другой город. Куда – не известно! У соседей нового адреса семьи Рублёвых не оказалось. Самих Сашек в то время в городе тоже не было. Был ли Вовка дома – не известно, у него сейчас не спросишь…
Я – в слезах, с дрожащими губами – ринулась было на чердак, но увидела на двери огромный амбарный замок. Моих любимых неформалов выселили.
Постучалась к Иринке. Она сказала, что была драка, но устроили ее какие-то парни, лысые, в спортивных штанах. Кто такие – не понятно. Откуда и зачем пришли – тоже. Соседи, конечно, вызвали милицию. Патруль приехал быстро, забрал с чердака всех, кто не успел сбежать. Тёте Клаве, старшей по подъезду, строго-настрого наказали чердак закрыть, и вообще все чердаки в доме. Неформалов выселили.
Где их теперь искать?
– А кто его знает! – Иринка пожала плечами. – Лёнька говорит, что они сейчас за оперным театром собираются. Не знаю…
Дома родители любовно стирали тряпочкой мифическую пыль с нового цветного телевизора. Мать всё охала:
– Наконец-то, заживем, как люди!
Отец поддакивал.
Тогда я пошла к себе в комнату. Залезла под одеяло, долго ревела, зажав в руках красивого плюшевого кенгуру, его мне подарил Вовка на Новый год.
Кенгуру был смешным – лапы растопырены, большие блестящие глаза, а на животе кармашек. Раньше там была большая конфета. А под конфетой оказалась записка. Корявым Вовкиным подчерком на ней было написано: «Жека! Ты самая лучшая девчонка на свете!»
* * *
Первого сентября мы – уже трое – пошли в школу без особой радости. Даже, казалось, букеты у нас в руках завяли от нашей безрадостности.
Машка уехала, Толика нет, а Вовки больше никогда не будет.
Чему радоваться-то?
– Что стыдно? – заржали над нами третьи классы. Громче всех Колька Щелкин. – Все уже пионеры, а вы – октябрята!
Ой, ну и подумаешь!
На торжественной линейке произошел грандиозный скандал – Кеха явилась выкрашенная в черный цвет и короткой джинсовой юбке. Старшеклассницы чуть не умерли от зависти, а директриса и фашистка были готовы лопнуть от злости! Сама Кеха проигнорировала громкие высказывания и, гордо вскинув почерневшую голову, отправилась домой, в первый же день учебы.
Директриса разъярилась. Долго орала в микрофон, что не позволит нарушать принятую форму, принятые правила и так далее, и тому подобное.
Её не слушали. Все перешептывались.
– Ой, юбочка-то какая! юбочка! – сокрушались девчонки.
– А ноги-то! ноги! – вздыхали парни.
Уже в классе нас троих – меня, Сашку и ещё одного Сашку – наконец, приняли в пионеры.
Клятву мы пробубнили кое-как, все время запинались. Просто толком не выучили, вот и всё! Не верили мы больше в пионерскую клятву.
Людмила Михайловна слушала нас, то и дело поджимала губы. Колька демонстративно кривился. Но нас всё-таки приняли. Учительница лично повязала нам красные галстуки, что-то сказала, мы сняли октябрятские значки – и всё. Мы теперь пионеры.
(Позже я свой значок с маленьким кудрявым мальчиком положила в пенал. Там он у меня и остался на все школьные годы. Мальчика было жалко.)
Затем Людмила Михайловна проникновенно высказалась про подвиг Вовки, мельком упомянула Толика. Класс слушал равнодушно, словно никто из них не понимал, что Толик уехал, а Вовки больше никогда не будет!.. Нет, Горюша, кажется, понимал…
В тот же день, первого сентября, мы решили навестить знакомых неформалов. Пошли к оперному театру и обалдели.
Неформалов стало больше! В несколько раз больше! И откуда только они все взялись? Причем если раньше в основном среди них были старшеклассники, студенты, то сейчас – просто масса подростков лет тринадцати-четырнадцати! Но это были уже совсем другие неформалы. Не таинственные пришельцы, спокойные, внимательные – а наглые, злые, демонстративные. Бритые виски, ирокезы, серьги, цепи, заклепки. Тогда-то и появились фенечки – ниточки, увитые бисером, мелкими бусинками. Новые неформалы включали звук на полную мощность, говорили на странном, ломанном языке.
Таинственные пришельцы моего детства и наглые подростки сидели в скверике у театра на соседних лавочках и косились друг на друга – то с любопытством, то с презрением. Не перемешивались.
Впрочем, взрослые плевались вслед и тем, и другим. Они же – и пришельцы, и подростки – не обращали внимания или делали вид, что не обращают внимание.
Кое-как нашли знакомых. Нам обрадовались.
Мы долго говорили. Неформалы искренне, без лишнего пафоса жалели Вовку, его мать. Вспомнили Юрку, почему-то вздохнули. Тут же заговорили о Кехе, о том, как сильно она изменилась буквально за одно лето, о прочих делах.
* * *
Впрочем, изменилась не одна Кеха. Вообще весь окружающий мир менялся с невообразимой скоростью!
Кинотеатры наводнились зарубежными фильмами: сказки, фантастика, ужасы, эротика, мелодрамы. Мы ходили на всё подряд! Про возрастные ограничения бабушки-билетерши ещё не знали.
Откуда-то повсеместно появились записи, пластинки: Цой, Башлачев, Дягилева, Шевчук, Гребенщиков, Кинчев, Бутусов, Макаревич. Часть из них официально продавалась в музыкальных магазинах, но большая всё-таки переходила из рук в руки в виде потертых плёнок, кассет. Заговорили о квартирниках, рок-фестивалях. Их вроде как не одобряли, писали, что «подобная музыка только разлагает молодежь», да и не музыка это вовсе! Так! Визг, шум, грохот. Но русский рок не смотря на все запреты, возражения, возмущения упрямо прорывался наружу из той темницы, где был заключен долгое время.
И книги. В толстых литературных журналах появились имена, о которые раньше не то, что публиковать, вспоминать нельзя было. Солженицын, Булгаков, Есенин, Пастернак, Цветаева, Замятин. Книги, написанные много лет назад, многие даже до войны, украденные у нас – всё возвращалось. Номера с заветными романами свято хранились, переплетались. В библиотеках на них была очередь не хуже, чем за колбасой. В завершении ко всему – или символизируя начало? – некоторые маститые деятели искусств вдруг выдавали такие произведения, от которых холодели многие взрослые.
В школе (и не только в нашей девяносто девятке) всё чаще стали вспыхивать скандалы из-за внешнего вида. У дверей директорского кабинета теперь стояли огромные очереди – девчонки в брюках или коротких юбках, парни с длинными волосами, серьгами. А толку-то? У дверей школы выставили патруль, набрали из актива комсомола. В их обязанности вменялось снимать серьги с парней, мерить длину девчачих юбки специальной линейкой, а тех школьниц, что явились в брюках, отправлять домой переодеваться; у всех нарушителей отбирались дневники. Тоже не помогло. Наоборот, упала посещаемость, участились драки. Тогда директриса и фашистка вооружились линейками, ножницами – бегали по школе, мерили длину юбок девочек, пытались стричь волосы парням – провинившимся вносили соответствующие записи в дневники, ставили «двойки» за поведение, вызывали родителей. Нарушителей меньше не становилось.
Борьба за внешность отвлекла учителей оттого, что происходило в туалетах на втором этаже, где как раз учились мы, малыши, – старшеклассники там активно менялись кассетами, пластинками, торговали косметикой. Заметили лишь тогда, когда уборщица пожаловалась на неприличные рисунки и надписи на дверях кабинок. Ринулись было туда – обмен переместился во двор.
Но самым страшным ударом под дых всей школы стал фильм «Завтра была война».
Фашистка впала в ступор. Несколько дней ходила сама не своя, без линейки, ножниц.
Учителя только об этом фильме и шептались!
– Это же по книге Васильева! Разве он мог такое написать?
Была организована инспекция в школьную библиотеку, в районную – не нашли. Учителя зашептались еще громче:
– Они поставили по запрещенной книге!
Второй показ фильма посмотрела вся школа.
На следующий день Кеха пришла дрожащая, с красными, воспалившимися глазами. На перемене за ней кинулась фашистка, успевшая уже к этому времени прийти в чувство. Но Кеха не испугалась, не сжалась, как это бывало раньше, – это теперь была новая Кеха! И новая Кеха не боялась ни директрисы, ни фашистки.
– Я Вам не Люберецкая! – вдруг закричала она на весь коридор.
Фашистка обалдела, а Кеха развернулась на каблуках и зашагала прочь.
Власть зашаталась.
* * *
7 ноября, по традиции, я с родителями отправилась в гости к бабушкам. Жили они обе от нас неподалеку, в десяти минутах ходьбы, на улице Труда, в крохотной двухкомнатной хрущевке.
Вернее, это были бабушка и прабабушка. Зинаида Александровна – мать моего отца, а Валентина Владимировна – соответственно, его бабушкой. Обе они – одинокие сухие женщины, безмужние, и в молодости, и в старости похожие друг на друга, как две капли воды.
Пришли мы, как обычно, по мнению бабушек, поздно, но они всё равно тут же засуетились. Баба Зина кинулась на кухню, подрезать хлеб, колбасу. Баба Валя хвасталась: удалось достать две бутылки водки – тут же их продемонстрировала. Отец, кряхтя, начал разбирать стол. Стол с трудом поддавался, потому что сделан и собран был плохо. Впрочем, основная забота отца – не задеть затылком массивную хрустальную люстру, что с его ростом и высотой потолка было весьма проблематично. Когда стол, наконец-то, согласился развернуться и перегородить собой полкомнаты, все забегали с тарелками. Колбаска, сыр, хлеб, салаты, рыбка, графин с лимонадом, стопки. В центре – большое блюдо с темно-коричневыми кусками курицы.
Сели. Разложили салаты, бутерброды по тарелкам. Отец всем налил водки, а мне – лимонад, тоже в рюмку. Баба Зина провозгласила традиционный тост: за партию, Ленина, Сталина – торжественно выпила. Пошли обычные разговоры. Про дефицит, талоны, дурную молодежь, отсутствие культуры на улице и по телевизору. Выпили ещё. Вскоре, как обычно, взрослые заговорили о политике. Подогретая спиртным, баба Зина начала искуплено воспевать партию, Сталина. Баба Валя молчала, лишь изредка хмуро поглядывала на дочь. А я думала.
Я думала про фильм, Кеху, как она крикнула фашистке тогда, в школе. И вообще про многое другое. Например, почему баба Валя сейчас хмурится?
– Что ты не кушаешь? – склонилась ко мне прабабушка. – Хочешь тортик?
Я кивнула.
Прабабушка встала и прошла на кухню. Я глянула на взрослых: отец и баба Зина начали ожесточенно спорить про Сталина, революцию и вообще коммунизм, мать молчала, пялилась на массивную хрустальную люстру с подвесками. Я тихонько встала и юркнула вслед за прабабушкой. Моего ухода никто не заметил.
– Бабушка, – начала я, – можно спросить?
– Спрашивай, Женечка.
Баба Валя колдовала над тортом, стараясь порезать его как можно аккуратнее. Прабабушка была сейчас такая уютная, домашняя, что я ей всё-всё рассказала! И про Кеху, и про фильм, и про гамлетов.
Выслушала она меня внимательно.
– Знаешь, Женечка… – заулыбалась она – в комнате вдруг зашумела баба Зина, что-то закричала про партийную святость – улыбка прабабушки погасла.
– Женя, то, что я тебе скажу, никто не должен знать, – сказала она уже совсем иначе. Серьезно, горько. Так словно я стала настоящей взрослой! – Поняла меня? Ни родители твои, ни друзья в школе, во дворе. Никто. Поняла?
Я кивнула.
– Ты знаешь, кто был твой прадедушка, Александр Семенович?
– Ну, так…
Про него я знала лишь то, что он был военным, имел много орденов и уже давно умер.
– О нем говорить у нас неприятно. Видишь ли, Женечка, я не стыжусь его, я его очень любила! Но есть некоторые обстоятельства… – Прабабушка вздохнула, сжала сухие руки. – Он был подполковником НКВД. Ты знаешь, что такое НКВД?
Я кивнула.
– В войну он командовал штрафбатами. Понимаешь?
Я открыла рот.
– Он никогда не говорил о войне. Никогда не говорил, за что получил две Звезды, Орден Красного Знамени. Никогда, понимаешь, Женечка?
Я кивнула.
– Во время войны… да и после… Ты знаешь, какая у меня была фамилия до замужества? – вдруг спросила она.
Я покачала головой.
– Войтенко! Понимаешь?
– Нет.
– Мой отец был немцем, Женечка.
– Настоящим? Из Германии? – ахнула я.
– Да. А моя мать была еврейкой. И её брат… Я была маленькой девочкой, когда началась революция. Мать очень испугалась. Мы жили тогда в Одессе. Пришлось всё бросить. Абсолютно всё, понимаешь?
Я не поняла, но уточнять не стала.
– Уехали во Владивосток, – продолжила прабабушка. – Но и там они нас нашли! Нас переселили в Сибирь.
– Почему? – спросила я. В горле пересохло.
– Брат моей матери был белым.
Я ахнула, выпучила глаза.
– Ему удалось бежать в Германию, к родственникам. А вот второй брат был священником… Ему не повезло… Вот мы и… – Прабабушка судорожно вздохнула. – Долгое время жили спокойно. Родители умерли. Мать до конца дней их боялась. Я вышла замуж. И после войны… Как-то узнали. Я отреклась от отца, матери, прочих родственников. Ну, от тех, что ещё живы. Так нужно было, понимаешь, Женечка?
Я слушала, открыв рот.
– А потом Сашенька… Понимаешь, он уже вернулся с войны сломленным. Пить начал. Пил всегда один, а потом тихонько плакал, что мы не хуже фашистов… Мы такие же. А потом эта история. – Прабабушка вздохнула. – Вроде все затихло. И вдруг он застрелился. В 52-ом.
Прабабушка неестественно выпрямилась. Глаза ее оставались сухими, хотя руки дрожали.
– А потом меня арестовали.
– Как! – чуть не вскрикнула я – зажала рот ладошкой.
– Продержали меня неделю. Допрашивали. Всё расспрашивали про Сашеньку, про моих родственников в Германии, ещё про каких-то людей.
– Они тебя пытали, да?
– Нет, Женечка, что ты! Они ведь советские люди! Они просто меня не выпускали из камеры. Только на допросы. Хотя грех жаловаться! Камера была в принципе тёплая, сухая, только без мебели, окон. Вообще ничего не было. Голые стены, пол, потолок. И дверь. Не выпускали…
– А в туалет?
– Даже в туалет.
– Неделю!!
– Я больше за Зиночку переживала. Как она там одна… Отпустили. Сказали, никогда никому ничего не говорить. Зиночка страшно испугалась! Она ведь тогда совсем девочка была, чуть старше тебя. А потом… – Прабабушка замолчала.
Мы прислушались к разговорам в комнате. Баба Зина кричала, что всю молодость отдала комсомолу, делу Сталина. Отец фыркал.
– Она очень испугалась, понимаешь? – сказала баба Валя.
Замолчала.
– Что потом? – не выдержала я.
– Сталин умер. И всё закончилось.
Отец и бабушка разгорячились не на шутку! Как это сейчас казалось глупым.
– И ты молчала? Столько лет молчала?
– Да, Женечка. – Прабабушка сжала мои руки. – Тебе только почему-то рассказала. Наверное, кому-то это было нужно рассказать. Однажды.
– Но ведь Сталин уже давно умер!
– Давно, в 53-ем. Но… Понимаешь, Женечка, Зиночка так испугалась! Она ведь у меня одна! И я у неё одна! Она замуж вышла неудачно, её муж бросил, даже сына не пожалел. А потом родилась ты… Есть вещи, о которых никогда нельзя говорить, понимаешь?
* * *
На следующий день позвонил Сашка. Оказалось, что во дворе к нему подошла бабушка Вовки. Сказала, что ещё летом её внуку Толик оставил письмо для нас всех, какие-то свертки. Бабашка долго извинялась, что совсем забыла про это, даже расплакалась. Сашка пообещал, что мы придем.
Идти к Вовке было страшно.
Но мы всё равно пошли.
Открыла бабушка. Увидев нас, заохала, запричитала. Провела в Вовкину комнату.
Здесь всё было так же, как прошлой зимой. Позапрошлой зимой. Позапозапрошлой зимой. Как в те безумно далекие дни, когда Вовка всё ещё был! Даже пыли нет. Такое впечатление сразу создалось, что Вовка просто ещё из школы не вернулся или в магазин пошел, или на тренировку, или ещё куда… Разве что прибрано. А то Вовка обычно раскидывал всё, говорил, что так удобнее. Не любил он порядок.
Мы топтались на пороге комнаты. Боялись. Смущались. Подпихивали друг друга. Наконец, решились. Взялись за руки и вошли.
Оглянулись.
Свертки увидели сразу же, они лежали на подоконнике. Каждый подписан. Тут же порвали обертку, обычную газетную бумагу. Сели на пол, начали рассматривать.
Мне Толик оставил две книжки Волкова – «Волшебник Изумрудного города» и «Семь подземных королей». Как я завидовала ему! Книги Волкова были такой редкостью! Особенно такие – с красивыми цветными иллюстрациями.
Сашке – Толик оставил свой кораблик в бутылке. Дружно ахнули! Ведь Толик моделью дорожил, это был подарок отца.
А в свертке ещё одного Сашки – в самом маленьком свертке из всех – оказалась немного потертая коробка карманных магнитных шахмат. Самое дорогое, что было у Толика.
* * *
Мне показалось, что мир вокруг меня сходит с ума! А поговорить не с кем… Вот если бы Юрка был рядом! Но его не было. У Лёньки и Кехи свои проблемы – выпускной класс и прочее. А родители со своим телевизором… Как так получилось, что рядом нет ни одного взрослого, с которым можно было бы поговорить?
Я думала про фильм, Кеху, бабу Валю, бабу Зину. Про давно умершего прадеда, о котором сейчас в семье никто никогда не говорит, словно не было его, словно не был он героем – или он, правда, не был героем? Тогда за что две красные звезды и орден красного знамени? Просто так? За молчание? Думала про неформалов, особенно про Юрку. Про манжеты. Про Вовку. Про Толика. Про Машку.
Все каникулы думала.
Ничего не придумала.
В первый учебный день пришла без галстука. Просто так.
* * *
Меня выставили на обозрение всему классу. Людмила Михайловна размахивала моим дневником, лупила им по парте и громко орала.
– Как ты смеешь выделяться!! Тоже мне – завела моду!
Ну да, выделяюсь. Все в галстуках, а я – без. Вот я просто так пришла без галстука. Собственно говоря, просто так и носила! А они? Вот они – почему они все носят галстук?
– Ты что стыдишься того, что ты пионер?!!!
Нет. Хотя и не горжусь. А чем гордиться-то? Вот если бы я в космос полетела!.. Вот это да! Я бы гордилась собой.
– Ты не слушаешь! – орала Людмила Михайловна. – Вы посмотрите только! Я ей говорю, а она по сторонам пялится.
– А Вы не кричите на меня, – спокойно сказала я. – Не надела галстук – подумаешь! – Я пожала плечами.
– Подумаешь!! – Людмила Михайловна раздулась от злости, затопала ногами. – А ты знаешь, что это кусочек знамени! Это кровь солдат, защищавших твою Родину, партию! Погибшие, чтобы ты, паршивица, жила и довольствовалась! Это кровь пионеров-героев!
Я задумалась.
Герои войны – это герои войны. Думаю, им всё равно: ношу я галстук или нет. И не потому что они умерли, а потому что они герои! Галстук тут ни причем.