Оскорбленный взор. Политическое иконоборчество после Французской революции Фюрекс Эмманюэль
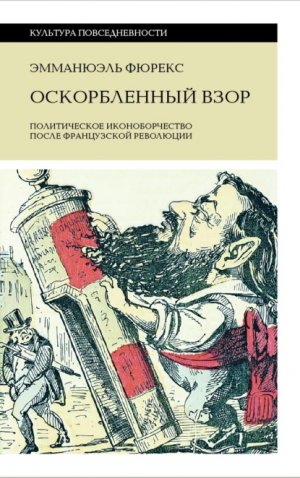
Напротив, в первой половине XIX века обостренная чувствительность к знакам и краскам превращает эти последние в богатый источник слухов. Это очевидно применительно к первым годам эпохи Реставрации, когда законность той или иной власти постоянно подвергается сомнению, когда учащаются намеренные или случайные «кризисы слухов»384 и когда жители деревень питают фантазматические мечты о возвращении Наполеона. Поже мы вернемся к этим цветовым слухам самого разного рода, нередко используемым в корыстных целях. Пока достаточно подчеркнуть, насколько большую роль в возникновении подобных слухов играет иконоборчество: народное внимание к «приметам», упомянутое выше, очень рано превратило исчезновение белого флага в предвестие скорого появления императора. Когда в августе 1816 года в деревне Пло (Канталь) с колокольни местной церкви снимают королевский флаг, это порождает целый ряд панических слухов. Один из жителей Пло замечает: «Надо думать, что-то новенькое приключилось и стриженый вот-вот вернется, коль скоро во многих коммунах убрали белый флаг, да вот и у нас в Пло тоже; гляньте на колокольню, флага-то там уже нет», а соседка добавляет: «Должно быть, что-то страшное стряслось, коль скоро с колокольни белый флаг убрали, мы уж этим всем наелись досыта, больше нам не надобно»385. Эти цветовые, или семиотические, слухи возникают во множестве и в первые годы Июльской монархии. Из слуха о короновании литографии герцога Бордоского и шествии с белыми флагами вырастает иконоборческий бунт в церкви Сен-Жермен-л’Осеруа в феврале 1831 года386. В ноябре 1836 года восстановление королевских лилий на решетке Реймсского собора в ходе реставрационных работ вскоре после смерти Карла Х провоцирует слух о близящейся коронации в Реймсе Генриха V: «Г-н де Латиль387 возвратится, а на Пасху Генрих V будет в Реймсе»388.
Это восприятие истории с помощью знаков объясняется отнюдь не только недостатком информации или политического мышления. Во многих личных дневниках провинциальных эрудитов или нотаблей первой половины XIX века постоянно встречаются записи, в которых цвета и знаки предстают субъективными маркерами коллективной истории. Визуальное описание эпохи дает себя знать в моменты сломов, прежде всего в 1814–1815 годах, а затем в 1830м. В этом отношении особенно показателен случай жительницы Марселя Жюли Пеллизон, буржуазки легитимистских убеждений, которая жила в пригороде, но была в курсе происходящего, поскольку черпала информацию из местных газет. Рассказывая день за днем о событиях Июльской революции, она судит о соотношении местных политических сил, исходя из войны цветов. Она смотрит на послереволюционную историю Марселя глазами побежденной и бережно собирает «улики», предвещающие, как ей кажется, возврат к прошлому. Она не пропускает ли одной визуальной или цветовой детали, которая могла бы свидетельствовать о чаемом – но совершенно нереальном – возвращении на престол Карла Х. Лишь только в городе распространяется слух о новом появлении белого флага, Жюли, опираясь на опыт Ста дней, заносит в дневник:
В четверг 19 августа начали ходить смутные слухи о том, что скоро вновь вывесят белый флаг, а назавтра эти слухи сделались более определенными, так что каждый уже поздравлял себя с победой. Все вспоминали, как в конце Ста дней мы увидели этот флаг в то самое время, когда менее всего этого ожидали (и все порядочные люди предались сладостной надежде). В городе говорят открыто, что белое знамя уже веет над Парижем и что вскоре оно возвратится и в Марсель. Но никакие подробности не известны и нет ничего, что могло бы подтвердить эту чересчур радостную весть. <…> Боже мой! Пусть свершится это чудо, и я умру счастливой389.
1 сентября Жюли Пеллизон радуется «угрюмому молчанию», которым встретили «смехотворный фарс» национальной гвардии, вывесившей в городе трехцветные флаги. 5 сентября во время процессии доминиканцев из монастыря Святого Лазаря она с досадой отмечает «целый лес флагов, поднятых поневоле»: «Он [монсеньор Мазено] был вынужден вывесить трехцветный флаг на епископском дворце и на всех церквях; даже продавцов табака обязали поступить так же»390. Несколько дней спустя она опять заносит в дневник слух о возвращении белого флага391. Но затем, увидев в городском музее копию картины Давида «Клятва в Зале для игры в мяч», она смотрит на нее с отвращением и резюмирует: «Картина очень современная, потому что мы возвратились в то самое состояние, в каком пребывали в 1789 году»392. Еще месяц спустя она опять слышит разговоры о возвращении белого флага: «В последние три недели или даже целый месяц в Марселе ходил слух, что Карл Х вот-вот вернется и все в этом так уверены, что готовят великолепные белые флаги – шелковые с золотой вышивкой»393. Она радуется празднику, который роялисты из Тараскона устроили наперекор официальным торжествам в День святого Карла: туда «допустили только тех, у кого под фраком или воротничком спрятана белая кокарда»394.
Интерпретация убеждений: недостижимая прозрачность знаков
Обостренная чувствительность к знакам сказывается также в маниакальном пристрастии полицейских и администраторов к появлению в публичном пространстве знаков нестандартных или возмутительных, в фиксации иконоборческих микрожестов (срывание кокард и т. д.) и в убежденности, что все это оказывает влияние на общественное мнение. Своего апогея эта чувствительность достигает в эпоху Реставрации, когда начинает складываться визуальная семиотика «общественного мнения». Семиотика эта основывается на точном опознании возмутительных знаков и на отыскании микродеталей. Она сопровождается оценкой воздействия этих последних на общественное мнение. Большой специалист по оценке «умонастроения общества», министр полиции Деказ дает одному из префектов урок отыскания визуальных улик. После того как 15 августа 1817 года, в День святого Наполеона, на улицах были замечены подозрительные красные гвоздики, он поручает префекту департамента Вогезы провести дотошное разбирательство:
Дайте мне отчет, прошу вас, о том впечатлении, какое 15 августа сделали эти красные гвоздики. Выставляли ли их напоказ? Привлекали ли они внимание? Отдавали ли им предпочтение одни классы общества более, чем другие? Частенько именно по этим деталям можно судить о переменах в общественном мнении, и я хочу надеяться, что вы не упустите ни одной возможности собрать о нем самые точные сведения. Итак, мне угодно, чтобы вы как можно скорее позволили мне составить суждение о сем предмете395.
Эта семиотика «детали» подразумевает, что полицейский смотрит одновременно и на возмутительные жесты (подчеркнутые, вызывающие), и на лицо зрителей того или иного класса (мнения у них различные), чтобы наконец проникнуть в их предполагаемые тайны или секреты. Нетрудно догадаться – и префект, раздраженный указаниями министра, сам об этом говорит, – какими опасностями был чреват подобный подход, неминуемо ведущий к наделению знаков сверхзначениями и тем самым провоцирующий на иконоборчество и гражданское насилие.
В самом деле, архивы этого периода полны более или менее жарких споров относительно якобы возмутительных знаков, которые, однако, предстают таковыми только в глазах бдительных полицейских или граждан-ультрароялистов. Так, деревенского скрипача задерживают за то, что он повязал на свою скрипку трехцветную ленту, хотя среди цветов был еще и зеленый396; белые ленты, привязанные к башенным часам в Осере, под порывами ветра напоминают возмутительного орла и вызывают панику среди горожан397; компаньонов-столяров обвиняют в том, что они украсили себя трехцветными лентами, тогда как ленты были цвта их корпорации398; многоцветную иллюминацию по случаю крещения герцога Беррийского в 1821 году изза «оптического обмана» сочли трехцветной399 и проч., и проч. Эти параноидальные видения и сверхчувствительность к политическим знакам вовсе не являются исключительной принадлежностью ультрароялистов. Точно так же в начале Июльской монархии карлистские эмблемы отыскиваются там, где их может различить только патриотический взор: в Авиньоне в 1832 году обыкновенное мокрое полотенце принимают за белый флаг, и это зрелище вызывает скопление людей и угрожающие крики («Долой тряпку! Карлистов пора выкинуть в окно!»)400; моряков из города Сет обвиняют в том, что они нацепили белые кокарды, тогда как на деле кокарды оказываются просто жирными пятнами на головных уборах401; невинная гравюра, изображающая букет из лилий вперемешку с анютиными глазками и розами, появившись на окне одного дома в Нанте, собирает толпу народа, после чего начинается полицейское расследование по делу о возбуждении беспорядков402. Нарушения общественного порядка, распространение слухов меняют оптику и заставляют выискивать в общественном пространстве мельчайшие диссонансы. Гражданские распри в обществах, где знаки играют повышенную роль, «бросаются в глаза», обостряют внимание к визуальной стороне дела.
Возможность двойного истолкования знаков влечет за собой, особенно в эпоху Реставрации, неотвязный вопрос: а что, если политические знаки лгут? А что, если они не что иное, как маски? Хитрости и двойная игра в эту эпоху «флюгеров»403 приучают зрителей, будь то простые граждане или полицейские, к известной недоверчивости. Архивы в самом деле подтверждают, что ношение трехцветных кокард под белыми и готовность в любую минуту сделать тайное явным были распространенной практикой, во всяком случае среди наполеоновских ветеранов. Другие знаки еще более коварным образом отсылают сразу к нескольким противоположным означающим, как, например, лента с королевскими лилиями, скрывающая аллегорию свободы; она в 1816 году была намеренно выставлена на улице города Блан (департамент Изер) с надписью «Да здравствует Император!»404. Подобные предметы с двойным смыслом, скрывающие под бурбонской формой наполеоновское содержание, в эпоху Реставрации были отнюдь не редки.
Как же в таком случае отличить по внешности подлинного роялиста? Можно ли считать визуальные знаки достойными доверия? В августе 1815 года анонимный путешественник пишет министру внутренних дел по поводу «департаментов, по которым он проехал», направляясь на восток Франции:
Французы осматривают, изучают друг друга с мрачной тревогой; белые ленты, белые кокарды используются более как охранная грамота, чем как знак единения; всякий боится доноса, люди больше не сообщаются меж собой, они избегают общения, и, каким бы кротким ни было нынешнее правительство, умы преисполнены ужаса, именуемого королевским; ужас этот искажает все привязанности, вскоре он осквернит самые благородные чувства, если только правительство не поспешит успокоить тревоги, страхи и волнения405.
И в самом деле, известны случаи, особенно в южных департаментах, когда граждан обвиняли в том, что они скрывают свои истинные убеждения за лояльными знаками и, можно сказать, бесчестят эти знаки своей двуличностью. В Тулоне офицера-бонапартиста, из конформизма вывесившего по случаю процессии с бюстом Людовика XVIII белый флаг, вынуждают его убрать, под тем предлогом, что «бонапартист им владеть недостоин»406. У юного Агриколя Пердигье, сына бонапартиста, в окрестностях Авиньона отнимают белую кокарду и разрывают ее на части: «Мальчишка, разбойник, отродье террориста 1789 года, как ты смеешь носить белую кокарду? Ты что, не знаешь, что ты ее недостоин?»407 Об аналогичной логике мщения свидетельствует и сцена, запечатленная в авиньонских судебных архивах: семнадцатилетний тафтянщик-«бонапартист», во время «царствования узурпатора» наводивший ужас на весь квартал, осмеливается в 1816 году показаться на улицах Авиньона с белой кокардой408. Молодые роялисты, поймавшие его «дерзкий» взгляд, срывают с него кокарду и напоминают ему, что человек, ненавидящий короля, «недостоин» носить священную эмблему. Сцена кончается дракой, которой кладет конец удар ножа.
В результате стремление к единодушию в ситуациях напряженнейшего гражданского конфликта (перечисленные выше случаи приходятся на время Белого террора) потенциально ведет к своеобразной апории. Противник обязан, пусть даже принудительно, обзавестись знаками воцарившейся власти, но, нося эти знаки, он их оскверняет, а значит, они подлежат уничтожению. Апория эта находит выражение в жестах по видимости противоположных. С одной стороны, во время Белого террора звучит требование запечатлеть священные знаки наступившей эпохи даже на самом теле противника. «Мы вколотим в вас лилии палками», – угрожают ветеранам наполеоновской армии в Тулоне409; в департаменте Гар женщин – «якобинок» или «бонапартисток» – наказывают «королевским вальком», который оставляет на их ягодицах отпечатки бурбонских лилий, и выщипывают у них волосы с криками «Глядите, глядите, у нее шерсть трехцветная!»410; явных бонапартистов заставляют целовать бюст короля и проч. Но, с другой стороны, в то же самое время лилии и белые кокарды, которыми дерзают украсить себя «предатели», подвергаются безжалостному уничтожению. Противоречие тут, впрочем, только кажущееся: первые жесты – позорное наказание, подобное тому, к какому приговаривает суд. В этом случае политический знак – не свидетельство политической позиции, а лишь заместитель монарха, карающего тело преступника. Во втором же случае знак, выставляемый напоказ, не более чем маска, которую, напротив, надлежит сорвать.
Интерпретация возмутительного
Из настоятельного требования ясности, господствующего в постреволюционном обществе411, вытекает также, если говорить о политической сфере, необходимость интерпретации скрытых знаков. Чтобы уловить опасность, возникшую в публичном пространстве, необходимо расшифровать знаки – как те, которые способны породить беспорядок (именно таков, в сущности, смысл выражения «возмутительный знак»), так и другие, менее заметные, по которым опознают друг друга члены политического подполья, заговорщики и прочие смутьяны из тайных обществ412. В первом случае полицейский взгляд предшествует государственному иконоборчеству, а зачастую его и готовит: возмутительные знаки, если они выставлены напоказ, могут быть убраны или уничтожены, если только их не требуется сохранить в качестве улик для грядущего судебного разбирательства. Именно о такой административной интерпретации возмутительных знаков у нас сейчас и пойдет речь.
Юридические рамки отношения к ним были определены уже в начале эпохи Реставрации. Законодательство это останется неизменным вплоть до закона о печати 1881 года, в котором о визуальных возмутительных знаках больше не говорится ни слова413. Исключительный закон от 9 ноября 1815 года о «возмутительных криках и сочинениях» грозит наказанием за «демонстрацию и распространение рисунков, гравюр и других изображений», созданных с целью «прямого или косвенного призыва к свержению правительства или изменению порядка престолонаследия». Возмутительными объявляются деяния тех, кто, во-первых, словами или изображениями подвергает сомнению законность правящего режима, а во-вторых, выставляет такие изображения напоказ или на продажу. Закон, таким образом, защищает монополию власти на знаки и карает проявление людьми собственного мнения, выражающееся в публичной демонстрации подрывного изображения или эмблемы414. Два закона о печати – 1819 и 1822 годов – подтверждают эту логику, вписывая возмутительные знаки в широкую категорию, в которую входят «знаки неразрешенных собраний» и «знаки или символы, имеющие целью возбуждение духа мятежа или нарушение общественного спокойствия». Закон карает прежде всего тех, кто посредством знаков разжигает беспорядки в обществе, и старается пресечь мобилизационное и аффективное воздействие этих возмутительных знаков. Вторая республика подхватывает традицию и после событий июня 1848 года принимает аналогичные постановления415.
Однако не менее, чем закон, важны полицейские и административные практики, о которых свидетельствуют архивы: только эти практики позволяют понять, что именно считалось источниками возмутительного духа. По архивным документам видно, к чему полицейский взгляд был особенно чувствителен: полицейские донесения содержат порой настоящие семиотические дискуссии. Максимальная чувствительность к возмутительным знакам отличает три периода: эпоху Реставрации (включая 1820е годы, когда режим уже укрепился), Вторую республику (начиная с 1849 года) и, в меньшей степени, первые годы Июльской монархии; характерно, что на эти же периоды приходится максимальный подъем иконоборчества. Дело не только в том, чтобы выслеживать повсюду знаки уже известные, например наполеоновские изображения и эмблемы, но и в том, чтобы обнаруживать там, где они циркулируют, новые подрывные знаки, а также знаки более банальные, которые их пользователи наделяют новыми значениями. Во всех трех случаях главная задача – искоренять любые знаки инакомыслия, способные мобилизовать толпу.
В эпоху Реставрации полицейское и административное выслеживание новых знаков, объявляемых возмутительными, достигает впечатляющего размаха; подозрения вызывает все: красные гвоздики, золотые сердечки416, красные кинжалы, черные булавки, усы417 и проч. Дело доходит до настоящей паранойи. Показательный пример: в 1822 году полицейский комиссар конфискует на ярмарке в Куси (департамент Эна) «возмутительные» рукоятки ножей; ему показалось, что на них изображено лицо Людовика XVI, а гвоздик нарочно вбит «прямо в шею злополучного государя, дабы напомнить о роде его смерти»418. Больше того, на рукоятках обнаружился мартиролог всего августейшего семейства: изображение герцога Беррийского было подобным же образом осквернено гвоздем, вбитым на уровне груди, а изображение герцога Энгиенского – на уровне головы419. Судебное следствие пришло к выводу, что в данном случае для тревоги не было ни малейшей причины: на рукоятках не нашли никаких изображений, а гвозди были вбиты без всякой иконоборческой злокозненности; иначе говоря, имел место семиотический бред… Травма цареубийства искажала полицейский взгляд, даже когда он обращался на самые повседневные предметы.
Полицейский взгляд обращается также к общественным последствиям выставленных напоказ возмутительных знаков и изображений: сборищам, слухам, пророчествам (в частности, связанным с наполеоновскими знаками), визуально наблюдаемым эмоциям зрителей. Жесты, выражающие поклонение (целование изображений), ложные новости, спровоцированные видом пуговицы с орлом, тщательно протоколируются. Внимание к ним было особенно пристальным в эпоху Реставрации, оно остается таковым и при Второй республике, но с некоторыми нюансами. В это время полицейских не меньше, чем способность знака вызывать эмоции, наблюдаемые эмпирически, интересуют собственно политические формы использования знаков: сопровождающие их ритуалы, события, благодаря которым они выставляются напоказ, их «кадрирование» прессой или политическими обществами. Разговоры о так называемой «красной партии», обладающей собственными эмблемами, – тоже одно из следствий возникновения этого нового взгляда. Так, запрещение красного знамени и красного колпака после летних событий 1848 года вытекало из их присутствия на баррикадах в июне этого года: история якобы подтвердила их связь с разжиганием гражданской войны420. Знаки хотя и не официальные, но до тех пор не считавшиеся незаконными, делаются откровенно возмутительными.
Не менее показательны споры по поводу эгалитаристского ватерпаса в 1849 году. Министр внутренних дел излагает в связи с этим свою концепцию возмутительного знака: она «достаточно широка, чтобы в нее можно было включить эмблемы, которые, не будучи возмутительными сами по себе, сделались таковыми вследствие политических событий или любых других обстоятельств»421. В глазах министра эгалитаристский ватерпас, изображенный на многочисленных афишах рабочих ассоциаций, может быть причислен к возмутительным знакам «в том случае, если партия, враждебная правительству, сообщила ему значение, превращающее его в символ бунта и анархии». Впрочем, сознавая юридическую уязвимость своей аргументации, он рекомендует не запрещать ватерпасы в судебном порядке, но тем не менее убирать их с вывесок, доступных всеобщему взору, поскольку полиция, надзирающая за порядком на проезжей части, наделена таким правом. Та же самая логика будет оправдывать массовое уничтожение деревьев свободы в конце Второй республики – официально потому, что они мешают движению транспорта, неофициально же по причине их политического использования «красными».
Эта полицейская чувствительность к знакам, указывающим на политические убеждения, ослабевает во второй половине XIX века. В начале ХХ века венки из красных иммортелей, принесенные к Стене федератов в память о павших коммунарах, не вызывают нареканий, но тот венок, на котором значилось «Жертвам убийц Коммуны», с кладбища убрали. Недавние исследования показывают, что на смену «надзору за знаками», о котором мы говорим, приходит «надзор за письменными сообщениями»422. Причиной возникновения этого надзора становится прежде всего настоящий графический взрыв – обилие афиш (особенно во время Коммуны), граффити и плакатов, грозящее перерасти в «графическую преступность», которую необходимо пресекать. Перед лицом этой новой опасности полицейские изобретают новые формы изучения письменных сообщений: описание, тщательное копирование, почти этнографическое прочтение письменных жестов. Филипп Артьер замечает по поводу граффити на статуе Республики: «Полицейский уточняет не только где обнаружен текст, но также каков его размер, какими чернилами и на каком носителе он написан и какова его сохранность. Агент сообщает также о смуте, какую вызвал описываемый текст; сегодня мы бы говорили о его броскости»423. Коротко говоря, полицейские перенесли свое внимание с возмутительных знаков на беззаконные надписи. Этот перенос сопутствовал другой перемене – самих возмутительных практик, в которых все большую и большую роль стала играть культура письменная. Это подтверждается изучением увлекательнейших документов из архива полиции, посвященных следам кризиса 16 мая 1877 года424: донесения полицейских сообщают о нескольких сотнях самодеятельных надписей самого разного рода (граффити, зажигательные плакаты, надписи на официальных афишах и проч.); зато сообщений о визуальных знаках и манипуляциях с изображениями совсем немного425. Одна лишь фотография Мак-Магона с веревкой на шее, выставленная на вокзале Сен-Лазар, напоминает о прежних иконоборческих жестах. Носителем возмутительных сообщений становится письменность, и насилие над изображениями окончательно уходит в прошлое.
5. Витальность знаков и изображений
Иконоборческий механизм, как подчеркивает один из главных теоретиков visual studies, Уильям Джон Томас Митчелл, – плод двух соединяющихся верований: в то, что «связь изображений сих референтом прямая и прозрачная», и в то, что «изображения способны ощущать оказываемое на них внешнее воздействие. Они не просто прозрачные посредники, могущие только передавать сообщения, они подобны живым созданиям, наделены чувствами, намерениями, желаниями и способностью действовать»426. Иконопочитание и иконоборчество с этой точки зрения – не что иное, как две противоположные грани одного и того же явления. Митчелл в этом сходится с Фридбергом, который видит в иконоборческом жесте проявление «власти изображений», то есть ощутимого присутствия референта в оскверняемом образе. «Я заметил, – пишет Фридберг, – что позитивные и негативные реакции на изображения часто оказываются двумя сторонами одной медали и что эта диалектика достойна гораздо большего внимания, чем то, какое ей уделяли до сих пор»427. Впрочем, это «оживление» образа или знака не внеисторично, оно, разумеется, зависит от социальных контекстов. Отсюда вопрос: следует ли считать, что в XIX веке секуляризация и развенчание политических изображений выхолостили из них любое реальное присутствие референта? Следует ли полагать, что тиражирование изображений в эпоху технической воспроизводимости, лишившее изображения какой бы то ни было «ауры», только усилило этот процесс?
Народный язык и олицетворение политики
На витальность, приписываемую политическим знакам и изображениям, указывает прежде всего язык. Морис Агюлон называл специфическое народное отношение к политике, образуемое из олицетворения, символизма и ритуализма, «экспрессионизмом». Составляя «моральный портрет народа в 1815 году» в Провансе, он подчеркивал, что народный язык «архаичен» и пропитан «насилием и мятежностью»428. В народной лексике преобладают «конкретные зримые образы»: «шляпы» и «чепцы» вместо мужчин и женщин, «объедалы» вместо богачей и капиталистов и т. д. Многочисленные исследования подтверждают, как кажется, по крайней мере для первой половины XIX века, что подобные визуальные олицетворения политических (и социальных) явлений были очень распространены в крестьянском и рабочем языке429. Политические визуальные знаки, изображения, эмблемы, символы помогают народным классам воспринимать и описывать социальную и политическую реальность, оставаясь вдали от абстрактных споров. Отождествление человека с «орлами» или «лилиями» в эпоху Реставрации, с «белыми» или «красными» при Второй республике четко выражает, какую сторону он принимает в современных конфликтах, и метонимически определяет противоборствующие лагери. В апреле 1814 года в Тулузе роялистски настроенная толпа, сбив с фасада ратуши медальон с изображением Наполеона, затягивает триумфальную песню про охоту на «орла»: «Aro l’aven atrapat l’aousel de las grossos alos» (Мы поймали эту птицу с большими крыльями) – и та же самая песня звучит в 1870 году после падения Наполеона II430I. Аналогично в Осере 26 сентября 1815 года мельник, заметив на вывеске «тамбурин с французским гербом», восклицает, что «лилии – самое настоящее дерьмо и носят их одни псы»431. С помощью языка вымышленных сообществ политические ярлыки наклеиваются внутри деревни или квартала. Порой это происходит в рамках споров сугубо локальных и мирских. В деревне кланы «охотно облагораживают свои местные разборки, прикрываясь фригийским колпаком или королевской лилией»; «противоборство позволяет очертить границы каждого сообщества <…> остается лишь увековечить достигнутое с помощью какого-нибудь флажка или пароля – красного колпака или куска белой материи», – пишет Мишель Брюно по поводу Руссийона432. В ходе непримиримой борьбы за господство в гражданском пространстве люди идентифицируют себя и других с помощью цвета или эмблемы. В Ренне грузчик Алло, известный своим бонапартизмом, получает прозвище «фиалка»433; нантские крестьяне во время свадебного обеда в 1831 году восклицают: «Вы живете под трехцветным флагом, а мы под белым, и вы нам не указ»434; в августе 1849 года бывший парижский мобильный гвардеец, оказавшись в департаменте Юра, кричит на проселочной дороге: «Да здравствует красная Республика! Долой белых! Да здравствуют красные!» – и размахивает красным платком435.
В декабре 1851 года участники восстания точно так же публично и провокативно используют эти цветные ярлыки; для них такая самоидентификация – дело чести: «Я красный и этого не скрываю; горе тому, кто захочет меня задержать» (Жан Фето, кузнец); «Я чистокровный красный и тем горжусь» (Луи Грюо, землекоп); «Я красный, а для белых у меня пистолеты заряжены» (Жан-Мари Сукедош, слесарь); «Я красный республиканец, второй Робеспьер» (Корантен Стефан, слесарь); «Да здравствуют красные, долой белых» (Оноре Серволь, бондарь)436; «Я омою руки кровью белых» (Сезарина Феррье, портниха)437 и проч. По тому же принципу, что и самоидентификации, построены прозвища, присвоенные некоторым повстанцам их соратниками и показывающие, как сильна была тяга к олицетворению в процессе социальных интеракций; здесь упоминаются «Робеспьер» (Жозеф Тартенвиль, садовник); «Барбес» (Тома Биллес, ткач); «Гора» (Жозеф Тариссан, краснодеревщик); «Красный человек» (Пьер Арну, кровельщик); «Красный колпак» (Жан-Франсуа Робер, токарь); «Марианна, или Богиня-Свобода» (жена Гюстава Грегуара, оружейника)438; «богиня» (Сезарина Икар, по мужу Феррье, портниха)439. Прозвища эти, вначале, возможно, носившие иронический характер, затем из стигматов превращаются в предмет гордости440.
Сходным образом юридически-административная власть отождествляется с ее единственным воплощением – монархом; наполеоновский режим доводит это отождествление государства с государем до предела441. «Такие понятия, как монархия, республика, империя и государство, в крестьянском словаре отсутствуют [в 1800–1860 годах], – пишет историк сельских волнений в департаменте Коррез, – зато крестьяне превосходно владеют системой знаков, их конкретизирующих»442. В языке слухов, которыми обменивались деревенские жители в XIX веке, также проявляется этот механизм олицетворения власти. При Второй империи слухи полны упоминаний о теле императора: ему угрожают, его объявляют хилым, больным443. Точно так же при Второй реставрации из уст в уста передавались пророчества о том, что «весной фиалки расцветут вновь (или что лилии завянут)»444. Морис Агюлон в работе, посвященной образу Марианны, тоже констатирует «народное» пристрастие к «персонификации, которую простые люди, в отличие от элит, считавших это всего лишь данью риторической традиции, воспринимали более чем всерьез» и с жаром рассуждали о «Доброй», «Прекрасной», «Святой» Республике, которой придавали обобщенные женские черты445. Тогдашние песни хранят следы этих говорящих образов; такова, например, «Фаригула», провансальская народная песня 1848 года, припев которой, записанный полицейским комиссаром в Кре (департамент Вар), гласил: «Planten la Farigouro, la Rpublique apparara» («Тимьян прорастет, Республика придет»)446. Напротив, лангедокские «белые» в 1851 году распевают иконоборческий гимн о лилиях, которые вырастут на месте дерева свободы: «L’an plantat l’aubre de la libertat. Se mouris, Es tant pis: l mettren la flou de lys»447.
Впрочем, вряд ли можно с уверенностью утверждать, что разрыв между абстрактным мышлением элит и образным мышлением народных классов был столь глубок448. Как известно, разделение социального мира на два противоположных языка: народный/ученый, образный/абстрактный – рискует завести исследователя в порочный круг; окажется, что народное обречено всегда быть образным, а ученое – абстрактным449. Кроме того, подобное разделение граничит с мизерабилизмом, а также, сознательно или нет, воспроизводит логику рассуждений административных элит XIX века. Меж тем образный язык вовсе не равнозначен неспособности к абстракции. Он просто помогает с легкостью проникнуть в политическое пространство без приглашения. Язык этот часто действует одновременно в нескольких регистрах: «политическом, социальном и мифическом», как пишет Венсан Робер по поводу магической (и политической) деревенской культуры в XIX веке450. Когда в Майяне (департамент Буш-дю-Рон) старуха Рикель, в 1793 году исполнявшая роль «богини Свободы», объявляет юному Фредерику Мистралю после революционных событий февраля 1848 года, что «на сей раз красные яблоки созрели»451, метафора, по всей вероятности, работает на трех различных уровнях. Красные яблоки отсылают к плодам на деревьях свободы, посаженных весной 1848 года, но в то же самое время и к новому, более справедливому распределению социальных благ и, наконец, к атрибуту «колдуньи» Марианны: живая аллегория Республики воспринималась «белыми» и, в частности, отцом Фредерика как «чертова старая ведьма», некое подобие злой королевы из «Белоснежки».
Народный символический язык может также выражать безжалостную жестокость, которая в метафорическом виде становится более приемлема. Метафора в этом случае превращается в хитрость, уловку452. В возмутительных речах эмблемы помогают обойтись без прямого называния ненавистного режима или даже самого монарха. В департаменте Рона в начале эпохи Реставрации некоторые мятежные речи предвещают конец Бурбонов, метафорически используя слово «белый», в отличие от других, более классических и более распространенных речей, в которых короля оскорбляют напрямую. Так, в октябре 1815 года чесальщик льна из Бессене объявляет во всеуслышание: «белый сыр долго не протянет»453.
Реальное присутствие образа?
Анимизм образов, утверждает Дэвид Фридберг, не остался в дорациональном прошлом, он по-прежнему лежит в основе некоторых наших реакций на изображение, хотя они и носят вытесненный характер. Слияние знака с означаемым объектом, реальное присутствие референта в изображении проявляются, по мнению Фридберга, в таких разнообразных и исторически обусловленных практиках, как иконоборческое проклятие, религиозное оживление образа посредством освящения, ритуальное поклонение, приношения по обету, колдовство, позорящие ритуалы или, наконец, сексуальное возбуждение с помощью порнографических картинок… «Человек, – пишет Фридберг, – сексуально возбуждается с помощью картин и скульптур; он их разбивает и уродует, целует их, плачет перед ними, отправляется в путешествие, чтобы на них взглянуть; их вид его успокаивает, приводит в волнение, толкает на бунт. Они помогают ему выражать признательность, вселяют в него надежду на успех, рождают в нем живое сочувствие или сильный страх. Так он реагировал прежде в обществах, называемых первобытными, и так же реагирует сегодня в обществах современных, на Востоке и на Западе, в Африке и Америке, Европе и Азии»454. Фридберг не отрицает, что влияние изображений зависит от конкретных обстоятельств, но он уверен, что «потенциальная» реакция на изображения, природная, не зависящая от контекста, – явление универсальное. В подтверждение своей мысли он цитирует знаменитые строки Барта о фотографии его покойной матери: «Фотография не напоминает о прошлом, в ней нет ничего от Пруста. Производимое ею на меня воздействие заключается не в том, что она восстанавливает уничтоженное временем, расстоянием и т. д., но в том, что она удостоверяет: видимое мною действительно имело место. <…> У фотографии есть нечто общее с воскресением (нельзя ли сказать о ней то же, что византийцы говорили об образе Христа, отпечатавшемся на Туринской Плащанице, а именно, что она не создана человеческими руками, acheiropoietos?)»455. Возражая против теорий образа, которые сводят его к простой ментальной репрезентации, Фридберг различает в образе живое присутствие, воздействующее на чувства зрителя; образ производит действие, родственное магии, и вызывает сильную реакцию (response), причины которой от нас ускользают, что же касается исторической обусловленности этой реакции, ее не следует преувеличивать.
Это пренебрежение историческими и социальными факторами и сведение «власти образов» к явлениям сугубо природным могут показаться неубедительными456. Тем не менее в заслугу Фридбергу, чья работа стала уже классической, следует поставить то, что он разрушил чересчур жесткие границы между образами нуминозными457 и мирскими, секуляризованными, лишенными какой бы то ни было ауры. А также оспорил линеарную концепцию истории образов, согласно которой с течением времени они все больше лишались своей витальной мощи.
В XIX веке иконоборчество и иконопочитание применительно к политическим изображениям развивались неравномерно. С юридической точки зрения наделение образа жизненной силой исчезает полностью. До конца XVIII века преступников, приговоренных заочно (сбежавших или не найденных), а также самоубийц казнили символически: манекен или картина, изображавшие отсутствующего человека, подвергались повешению или сожжению. В XIX веке заочно приговоренных по-прежнему казнят, но иначе: «палач должен вывесить отрывок из приговора <…> на столбе, установленном на одной из центральных площадей города»458. На смену imago, внешне похожему изображению отсутствующего человека, пришло словесное описание. Образ перестал принимать фиктивное участие в юридической процедуре.
Параллельно, и ниже мы поговорим об этом подробнее, закон, хотя и не без парадоксов, десакрализует изображение государя. В теории особа короля продолжает считаться священной и неприкосновенной; это записано в Конституционной хартии в обоих ее вариантах: 1814 и 1830 годов. Но закон перестает защищать сакральность его изображений. Покушение на изображение монарха больше не считается оскорблением величества. Уголовный кодекс 1810 года свел это последнее к «покушению на жизнь или особу государя или заговор против него» (статья 86), а в результате реформы уголовного права 1832 года эта статья была вовсе отменена. Теперь покушение на изображение государя не более чем одна из разновидностей «разрушения публичных памятников» (статья 257 Уголовного кодекса), и это говорит очень много о новом юридическом статусе изображения монарха. Что же касается «осквернения» «знаков власти» (королевской, а затем республиканской) – изображений или эмблем, то это преступление карается последовательно принимавшимися с 1819го по 1848 год законами о печати459. Иначе говоря, отныне покушение на изображение короля или императора приравнивается к выражению преступного мнения, это визуальный аналог возмутительного выкрика, причем менее крамольный. Покуситься на короля в виде его образа считается куда менее опасным, чем пожелать ему смерти словами. И в этом случае закон тоже перестает отождествлять визуальный знак с его референтом и наделять изображение фиктивным подобием жизни.
И тем не менее… Некоторые ритуальные практики свидетельствуют о том, что в течение всей первой половины XIX века юди продолжают наделять политические изображения неким подобием реальной жизни. Судить о том, как это происходило во время Первой и Второй реставраций в Марселе, позволяет умное и подробное свидетельство Жюли Пеллизон. И в 1814, и в 1815 году воцарение в городе роялистов сопровождается появлением и странствием по улицам королевского изображения, которое создает фикцию реального присутствия государя. Каждый, кто стремится изъявить преданность новому монарху, ритуально обращается к его образу и изливает ему свои чувства; происходит это в несколько этапов. В иконической пустоте первых часов и первых дней Реставрации еще никто не располагает портретом нового короля Людовика XVIII, и его замещает портрет короля старого – покойного Людовика XVI, отчего изображение «оживает» вдвойне. 14 апреля 1814 года, когда официальный курьер возвестил возле триумфальной арки у въезда в город со стороны Экс-ан-Прованса о возвращении на престол Людовика XVIII, «один житель города, имевший при себе гравюру с изображением короля [на самом деле это было изображение Людовика XVI], вынул ее из кармана, чтобы кому-то показать; тут все окружающие бросились ее целовать»460. Три дня спустя знатная молодежь города устраивает триумфальную прогулку «бюста Людовика XVI под именем Людовика XVIII». «Зрелище этого обожаемого образа <…> вызвало немалое волнение»; его водрузили на сцену Большого театра, после чего «крики, слезы, радость – все смешалось»461. Первый бюст с подлинными чертами Людовика XVIII, выполненный местным скульптором, проносят по городу во время гражданского праздника 11 мая, на сей раз по инициативе буржуазии. Бюст, покрытый иммортелями, увенчивают короной, а затем к нему обращаются с речами: рыночные торговки «проделали свои штуки, они заговорили с королем по-своему, а затем увенчали его прекрасной серебряной короной»462; цветочницы поднесли ему «самые разные букеты», и все это сопровождалось пением, криками и аплодисментами; буржуа внесли бюст в церковь и запели перед его лицом Te Deum и Domine salvum fac regem463. А 16 мая рыночные торговки-роялистки устроили «королевскую прогулку» и целый день с утра до вечера прогуливали по улицам «пастельный портрет Людовика XVIII, писанный в ту пору, когда он тридцать с лишним лет назад побывал в Марселе»; только когда стемнело, «они скрепя сердце расстались с портретом»464.
Год спустя, в начале Второй реставрации, ритуальное чествование короля в лице его изображения повторяется многократно, быть может даже с большим размахом: в течение целого месяца (в июле—августе) в Марселе проходит не менее десятка «королевских прогулок», инициированных женщинами из простонародья: рыночными торговками, работницами оружейных мануфактур и даже «окрестными крестьянками». Продолжением этих городских прогулок служат публичные балы в присутствии королевского бюста. 27 июля 1815 года перекупщицы фруктов водружают на носилки, покрытые ковром, фигуру короля «в пол человеческого роста», в соответствующем наряде и с голубой лентой ордена Святого Духа через плечо, и доносят ее до площади Святого Людовика, где усаживают на «нечто вроде трона». Изображение короля, признанное довольно похожим, встречается с образом Девы Марии (Богоматери Гардской): процессия в ее честь проходила в то же самое время. Фигура короля кажется живой: «Все барабаны били во славу короля, все знамена его приветствовали, все военные отдавали ему честь, как если бы перед ними был живой король… Наконец, когда прибыла Пресвятая Дева, король [sic!] двинулся ей навстречу (его несли перекупщицы), держа в руках свечку, которую он сам вручил Гардской Богоматери». Очевидица, марсельская буржуазка, с пониманием относящаяся к народным верованиям, если они свидетельствуют о приверженности роялизму, заключает: «Эта сцена, на первый взгляд кажущаяся ребячеством, была в действительности чрезвычайно трогательна. Видно было, что марсельский народ тешит себя иллюзией и, не имея возможности насладиться августейшим присутствием нашего доброго Людовика, стремится ублажить себя этим королевским изображением и воздает ему те почести, какими страстно желает осыпать своего короля»465.
Ритуалы демонстрации королевского портрета подтверждают в данном случае «амбивалентный, срединный характер изображения», «открытость границы между изображением и физическим миром»466. Изображение, заменяющее отсутствующего короля, политически оживляется посредством жестов, выражающих почти религиозное поклонение. Эти жесты знаменуют признание народом нового государя и подтверждают переход города под его власть. Участие в этом процессе принимают люди самых разных социальных групп, от местной буржуазии до «белых» рабочих корпораций, причем особенную активность проявляют женщины. Повторение иконических прогулок свидетельствует и о конкуренции между этими группами, и об их единодушии, впрочем нарушаемом иногда отдельными «неблагонамеренными» иконоборцами, которые, например, 31 июля 1815 года швыряют камни в бюст короля467. Кроме того, политическое оживление образа происходит во многом благодаря религиозному контексту, в который его настойчиво стремятся поставить. Королевский бюст вносят в церковь, его приветствуют благодарственным гимном (Te Deum); он встречается с Девой Марией, приветствует ее и вручает ей свечку, как бы прося покровительства. Последние, неофициальные жесты, совершаемые, как правило, женщинами, выходят за рамки обычного благочестивого поведения. Когда женщины вносят в церковь Святого Мартина изображение герцогини Ангулемской, украшенное белыми перьями, и просят его благословить, священник им отказывает, пишет Жюли Пеллизон, «потому что это немного напоминает поклонение идолам»468. Итак, наделение политического изображения жизнью происходит на двух различных, но дополняющих друг друга уровнях: явное замещение отсутствующего государя его физическим подобием и неявная сакрализация изображения – в рассматриваемом случае тесно связанная с провиденциалистским видением власти. В инвертированной, иконоборческой форме сходные жесты повторяются на протяжении всего XIX века и отнюдь не только в Марселе: нередко те, кто разбил или осквернил изображение монарха, окликают его и, унижая и оскорбляя, подвергают испытанию его сакральность.
Сакральность и идолопоклонство
Ритуальная демонстрация политических изображений монарха, описанная выше, вызывает целый ряд вопросов. Нужно ли принимать такие ритуалы всерьез, или, напротив, следует видеть в них самые банальные, поверхностные, немотивированные жесты, повторяющиеся на протяжении столетия с другими референтами? Скрывается ли за ними отношение к политическим знакам и изображениям, сделавшееся сегодня анахронизмом? Какие разновидности сакральности и даже идолопоклонства в них проявляются и какие изменения эти разновидности претерпевают в течение столетия?
Первая разновидность сакральности носит теолого-политический характер в прямом смысле слова. Такая сакральность заимствована у религии и инкорпорирована в политику с помощью церковной институции ради того, чтобы воплотиться в majestas469 государева изображения. Конечно, в течение XIX века иконическая репрезентация такого рода постепенно сходит на нет. Однако ее исчезновение нельзя назвать ни полным, ни последовательным. В эпоху Реставрации многочисленные церемонии открытия королевских бюстов, как правило совмещавшиеся с коллективным принесением присяги, чествуют изображение монарха, потому что видят в нем отсвет божественного провидения, восстановившего его на троне. Отсвет поистине животворящий: бюст Карла Х, открытый в Геранде в 1825 году и установленный на троне, «был, казалось, счастлив очутиться среди нас: можно было подумать, чт он хочет своими радостными взглядами отблагодарить нас за те доказательства любви, какие мы принесли ему не скупясь»470. Открытие бюстов представителям династии Бурбонов чаще всего сопровождается процессией, конечным пунктом которой становится церковь, и публичными молитвами. Некоторые верноподданные роялисты, особенно в кризисные моменты, могут поклясться подле бюста отдать жизнь за тело короля; так, например, случилось в коммуне Л’Иль-сюр-Сорг во время Ста дней471.
Подобное отношение к изображениям королей находит поддержку далеко не у всех; кто-то считает его анахроническим, неуместным или даже переходящим в идолопоклонство. «Желтый карлик в изгнании», либеральное сатирическое издание, выходившее в Брюсселе, издевается в 1816 году над роялистским идолопоклонством, зеркальным повторением революционного поклонения идолам, выразившимся в культе Марата в 1793 году: «Мы и подумать не могли, что под властью правительства самого религиозного, самого правоверного, причем в то время, когда меры справедливо суровые принимаются ради того, чтобы вернуть народ в церкви, полиция христианнейшего короля доведет свое рвение до идолопоклонства»472






