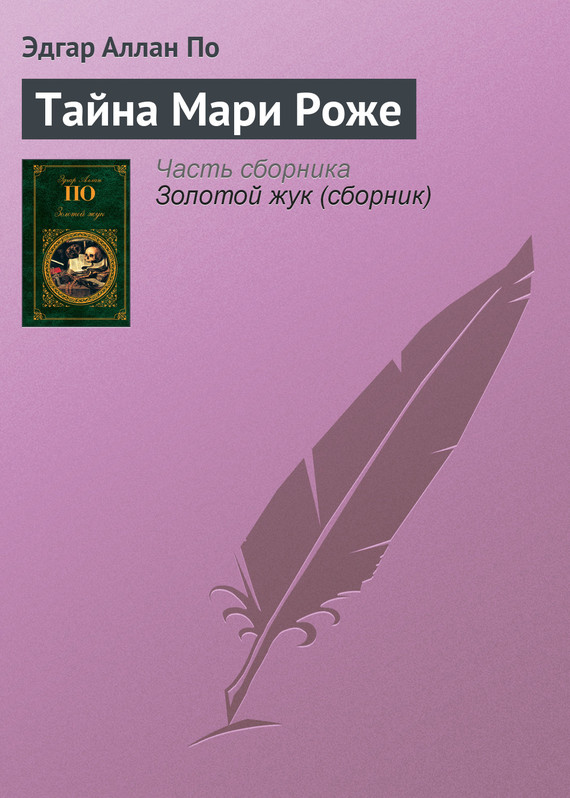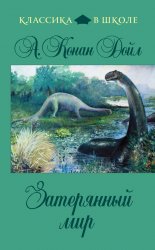Возвращение из Трапезунда Булычев Кир

Когда впереди, на очередном повороте Андрей увидел двух всадников, они показались порождением тумана, столь неподвижны и неслышны они были.
Но татарин-возчик сразу начал осаживать лошадь и заговорил, словно обращался к языческим богам, обитающим тут. Он твердил, что у него ничего нет и у пассажира ничего нет, что можно все карманы показать, но всадники не двигались и ничего не отвечали.
Один из всадников соскочил на дорогу и быстро подошел к повозке. Он был в военной одежде без погон.
Андрей узнал его, когда он подошел к самой пролетке, улыбнулся и сказал:
– Подвинься, чего расселся, граф Монте-Кристо!
Затем Ахмет впрыгнул в пролетку и крикнул возчику по-татарски:
– Гони, друг! Тебе повезло, что встретил Ахмета Справедливого!
Возчик изобразил неестественную радость по поводу этого события. Пролетка тронулась, а второй всадник с лошадью Ахмета на поводу поехал сзади.
– Ну, ты совсем не изменился, покойничек! – сказал Ахмет. – Совсем такой же.
– А ты возмужал, – сказал Андрей.