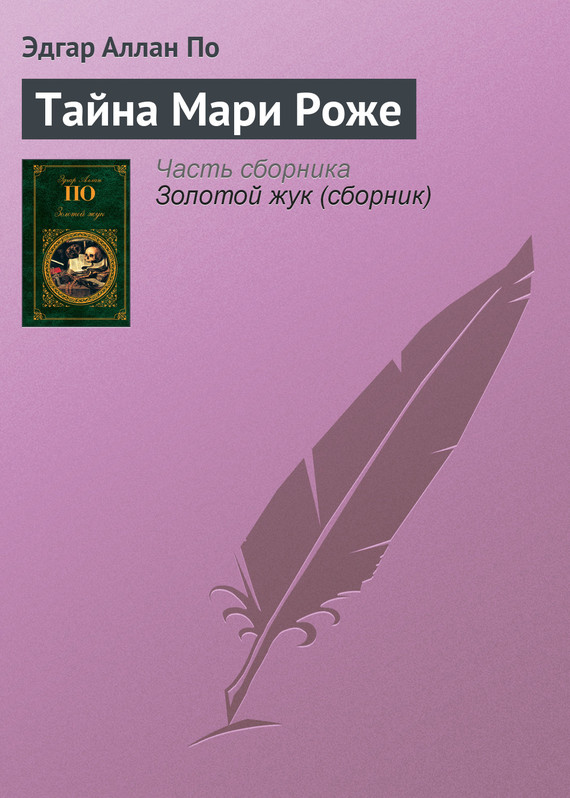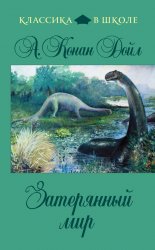Штурм Дюльбера Булычев Кир

Глава 1
Декабрь 1916 г
Я чувствовал, как неведомая сила охватывает меня и разливается теплотой по всему телу. Вместе с тем я весь был точно в оцепенении: тело мое онемело. Я пытался говорить, но язык мне не повиновался, и я медленно погружался в сон, как будто под влиянием сильного наркотического средства. Лишь одни глаза светились надо мной каким-то фосфорическим светом, увеличиваясь в один яркий круг.
До моего слуха доносился голос старца, но слов я различить не мог, а слышал лишь неясное его бормотание.
В таком положении я лежал неподвижно, не имея возможности ни кричать, ни двигаться. Только мысль моя еще была свободна, и я сознавал, что постепенно подчиняюсь власти загадочного и страшного человека.
Но вскоре я почувствовал, что во мне, помимо моей воли, сама собой пробуждается моя собственная внутренняя сила, которая противодействует гипнозу. Она нарастала во мне, закрывая все мое существо невидимой броней. В сознании моем смутно всплывала мысль о том, что между мной и Распутиным происходит напряженная борьба и в этой борьбе я могу оказать ему сопротивление, потому что моя душевная сила, сталкиваясь с силой Распутина, не дает ему возможности всецело овладеть мной.
Так Феликс Феликсович Юсупов-младший писал в своем дневнике в конце ноября 1916 года.
В обычные дни князь не вел дневника, ленился, хотя полагал это полезным для внутренней дисциплины. Записи появлялись в моменты душевных волнений, к примеру, накануне свадьбы с Ириной. Тогда казалось, что Александр Михайлович, имевший, кажется, иные планы для своей старшей дочери – как-никак племянница императора! – наотрез откажет Юсупову. Но заступницей выступила Ксения Александровна, мама Ирины.
– Сандрик, – сказала она, не смущаясь присутствием Феликса, – ты забыл, как ночи не спал, уверенный в том, что батюшка тебе мою руку никогда не отдаст?
Феликс с детства был влюблен в тетю Ксению, и, возможно, не последней причиной его увлечения красивой, но холодной Ириной была безнадежная юношеская любовь к грубоватой, полной жизненной силы Ксении Александровне, которую обожавший ее отец называл «барышней-крестьянкой».
Наверное, в такой ситуации легче бы разобраться Фрейду, но Фрейда Феликс так и не прочел. Году в двенадцатом, когда он учился в Оксфорде, кто-то из тьюторов предложил ему прочесть труд австрийского гения. Но труд был напечатан в Берлине готическим шрифтом, прочесть его было выше сил русского князя.
Теперь уже все позади. Третий год Ирина – его друг и жена. Она стала ему ближе любого из мужчин. Может, оттого, что у Феликса не было друзей. Феликс был откровенным англоманом, хотя в столице ходили сплетни о том, что курса в Оксфорде он не одолел и потому по возвращении из Лондона вернулся в Пажеский корпус. К тому же Феликс не скрывал, а даже бравировал печоринским презрением к петербургскому высшему свету, ненавистью к продажным чиновникам и выжившим из ума генералам, которые тащат Россию к военному поражению.
Одиночество Феликса определялось и тем, что он, воспитанный в атмосфере превосходства его семьи по отношению к этим выскочкам Романовым, оставался монархистом, для которого близость к правящему дому составляла смысл жизни. Может, таким его воспитала мама, которая долгие годы состояла в близких фрейлинах Марии Федоровны, полагая себя как бы членом романовского семейства.
Феликс сумел отбросить мамино «как бы».
Он сам – член семейства. Он – муж Великой княжны, его дети будут племянниками и племянницами императора и, при определенных обстоятельствах, даже смогут претендовать на корону. Как бы ни были знатны Юсуповы, ни один из них не поднимался так высоко.
И в то же время Феликс оставался подобен Потемкину или Зубову. Он стал одним из Романовых через постель. И для высшего света никогда не станет настоящим Романовым. Значит, он должен быть более Романовым, чем все Романовы, вместе взятые.
А как это можно сделать?
Приблизиться к Николаю и возглавить армию?
Чепуха! Николай был холоден к Феликсу и почти игнорировал его.
Другие Великие князья? Более всего было равнодушных. Что он есть, что он пропал – проходимец!
Может, так о члене одного из древнейших родов (правда, из татарских мурз) и не думали, но Феликсу все время чудился шепот за спиной.
Уехать бы снова в свою любимую Англию, да и там ему вряд ли откроется настоящая дорога к славе.
Ирина тоже была рабыней тщеславия, она тоже была спесива, а ее брак оказался мезальянсом. Увлекшись блестящим мужчиной, она выиграла его, она утерла нос всем остальным Великим княжнам, которые исчезали навечно в каких-то Гессенах и Вюртембергах, но радость достижения рассосалась, а Феликс оказался в тупике – со всех сторон на него глазели враждебные физиономии, все двери были закрыты…
Феликс понимал, что для него существует лишь один выход – он должен стать Спасителем Отечества, новым князем Пожарским, благо война открывала некие новые области применения сил. Нет, не на фронте, тот путь был бы тупиком. Решать все надо в нервном центре страны – в Петербурге.
Как в доме Александра Михайловича, где молодые проводили большую часть времени, так и в светских салонах военные и политические проблемы обсуждались весьма горячо. Осень 1916 года не принесла успехов на фронте. Наступление провалилось, Австро-Венгрию не удалось вышибить из войны, и если австрияков немного потеснили, то немцы на севере продолжали успешно наступать, они уже оккупировали важнейшие западные губернии – всю Польшу, Прибалтику, грозили Малороссии и Белоруссии, а вскоре приблизятся и к Петербургу. На Западном фронте надежды, которые вспыхнули было со вступлением в войну Североамериканских Соединенных Штатов, к концу года угасли – американский корпус не смог внести в войну перелома. А все разговоры о том, что немцы остались без горючего, едят крыс и мечтают свергнуть кайзера, оставались не более как разговорами. Может, и ели – Бог их разберет, но и получали от того патриотическое наслаждение.
Русскому уму нужна ясность. Ясность заключается в имени врага. Как только врага обнаружат и уничтожат, наступит райская жизнь, и по кисельным берегам будут бродить молочные коровы, проваливаясь в кисель по самые рога.
Во время войны наиболее популярным становится крик: «Предали!» Он дает возможность бежать в тыл, не боясь обвинений в трусости. Предать могли только те, кто в этом предательстве заинтересован. Конечно, соблазнительно пустить в дело евреев, но известно, что немцы их не жалуют, да и среди генералов евреев, как назло, почти не нашлось. Зато в России, где правящее семейство за последние двести лет стало немецким по крови, а подпирали трон лица немецкой национальности, из которых династия и черпала кадры губернаторов, генералов и полицмейстеров, не надо было показывать пальцем – куда ни ткни, упрешься в немца.
До войны в том не было беды. От немца исходил порядок и продовольствие. Во время войны положение изменилось.
Сложность заключалась в том, что лица с немецкими фамилиями в шпионы не шли, потому что, как настоящие немцы, они были более русскими, чем русские, и, уж конечно, настоящими российскими патриотами. Продавали Россию, если находилось кому заплатить, вполне русские типы, умевшие при том кричать «Предали!» и «Держи вора!».
Сам государь император был вполне приемлем, с бородкой, тихий, похож сразу и на мужика, и на английского короля. Потому что с последним был в родстве через немецких предков. Зато его жену Александру Федоровну русский мещанин не принял – уж очень она была гордая и холодная, даже улыбаться не умела. Над государем в постели измывалась – впрочем, так ему и надо, – рожала только дочек, а потом разродилась наследником, еле живым. В этом можно было усмотреть злой умысел.
Наследника, как в итальянском фарсе, лечили всевозможные врачи и шарлатаны, государыня большую часть времени проводила в монастырях и соборах – такой богомольной царицы из русских бы не отыскать. И пока государь подавлял революционеров, проигрывал войну каким-то малоизвестным япошкам, а потом и вовсе ввязался в войну с собственным кузеном Викки, русский народ искал виноватых.
И тут как нельзя лучше помог Распутин. Вполне русский человек, сибиряк, конокрад. Такого шарлатана русская история и не припомнит. Это был гипнотизер, сексуальный гигант – воплощение всего, в чем столь нуждался малокровный двор, дрожавший над малокровным наследником.
Чем дольше тянулась война, чем хуже были дела на фронте и дома, тем явственней виделся образ врага и виновника наших бед. В разных слоях общественности его именовали по-разному, не сознавая, что речь идет об одном и том же козле отпущения.
Социалисты имели в виду прогнивший режим и немецкую династию в целом.
Мещанство ненавидело царицу и всяких там при ней Штюрмеров и Ранненкампфов. Царицу даже никто не звал русским православным именем, на которое она по крещению имела право, – Александрой Федоровной.
Ее именовали Алисой.
Знать и политики правого толка не смели поднять лапу на государыню, как бы она ни была противна их духу. Зато утверждали, что Алиса, сама того не ведая, попала в моральный плен к подлому развратнику Распутину, а подлый развратник давно уже находится на содержании немецкой разведки. Сам император – жертва этого гнусного заговора, и если бы удалось найти способ, чтобы избавиться от самозванца, тогда все пойдет как надо – заиграют трубы, пойдут в бой сытые полки, испуганно спрячется социалистическая крамола, мы вступим в Берлин, захватим проливы, возьмем Царьград и, может, даже прибьем к его воротам щиты, что делали наши предки в тех случаях, когда их не хотели пустить в город, зная, что они нечисты на руку.
Шли месяц за месяцем, год за годом, и сколько бы людей, близких и далеких, ни открывали глаза императору и императрице на то, что они находятся в плену у самозванца, те и в ус не дули. Нравился им Распутин, верили они в его целительные силы и вовсе не верили родственникам и политикам, даже маме князя Юсупова не поверили, пришлось Зинаиде Николаевне возвращаться ни с чем.
Распутин, как и положено российскому временщику, беззастенчиво брал взятки, пил по-черному, спал с цыганками и графинями, существовал в окружении истеричных дам и продажных мужчин, умело влиял на назначения в верхах России, но, разумеется, ничего изменить не мог – от того, занимал ли пост Хвостов, Трепов или Штюрмер, сумма не менялась. С Распутиным или без него империя катилась в пропасть, а имперская знать сидела по гостиным и стенала – как избавиться от Распутина? как спасти Отечество?
Эти стенания продолжались бы до самой революции, которая была близка, если бы не комплекс неполноценности князя Феликса Юсупова, который повлиял на течение российской истории. Но, как оказалось, это не сделало князя Феликса российским Бонапартом.
Слово «убить» не произносилось в салонах, хотя витало в воздухе. Некогда предки собиравшихся там князей резали друг друга и более удачливых временщиков, не гнушались порой и императорами. Но к концу 1916 года они выродились и уже не смели рискнуть – не смели поднять руку на особу хоть и порочную и низкого происхождения, но приближенную к императору. Поднимешь, а что потом? Что сделает с тобой государь?
Когда Юсупов понял, что именно он должен избавить Россию от Распутина, он поделился этой, пока еще туманной, мыслью с прекрасной Ириной.
Ирина отнеслась к рассуждениям мужа трезво и даже деловито.
– Феликс, – сказала она. – Может быть, в этом и есть твой шанс. Если ты спасешь Россию, спасешь империю раньше, чем это сделает Дмитрий Павлович или кто-нибудь другой из Великих князей, который наймет пару убийц, тебе не будет равного в России.
– Ты предлагаешь нанять убийцу? – с деланым возмущением, а в самом деле с некоторым облегчением спросил Феликс.
– Ни в коем случае, – ответила Ирина. – Подвиг такого рода нельзя путать с уголовщиной. Если ты хочешь убить Распутина, то именно твой кинжал должен вонзиться в грудь временщику.
Феликс замолчал.
Вся эта сцена его смутила. Он полагал, что Ирина бросится отговаривать его, умолять… она же толкает его… может, к тюрьме? к казни?
– Не бойся, – сказала Ирина, – никто не посмеет поднять руку на героя. Вся Россия будет носить тебя на руках.
Феликс пожал плечами. Ему не было дела до того, как себя поведет Россия, если его в то время зарубят шашками жандармы.
Разговор на том закончился и возобновился вновь, когда Ирина собралась на юг, в имение своего папа, чтобы избавиться от петербургского кашля.
Они обсуждали ее отъезд, и вдруг Феликс вспомнил один из ялтинских вечеров трехлетней давности.
– Ты не помнишь такого… Сергея Серафимовича? – спросил он.
– Берестова? Мы были у них. Такой седой, благородный джентльмен. Его потом загадочно убили, – ответила Ирина.
– Я помню, что в тот вечер был спиритический сеанс. И мы говорили о Распутине. О том, что его надо убить, чтобы спасти страну. А может, это мне только кажется?
– Тогда Распутин не был столь опасен, – сказала Ира.
Она поежилась, глядя перед собой. Вспомнила:
– Какой был страшный человек тот медиум у Берестова. Помнишь?
– Общение с тайными силами не проходит даром, – попытался улыбнуться Феликс.
Тот разговор с Ириной, которая вскоре уехала на юг, был еще одной песчинкой на весах.
Феликс не относился к героям – в нем даже не было военной косточки, как в его отце, чересчур бравом, но недалеком офицере. Он и на фронт не спешил, хотя на него по этой причине поглядывали косо.
Впоследствии в исторических исследованиях, написанных в основном после Октября, будут приняты фразы типа: «В конце 1916 года в среде крайне правых политиков и в окружении императора преобладали намерения физически устранить Распутина, которого все, даже члены императорской семьи, считали виновником военных поражений».
Это было не совсем так.
За десять лет в России не нашлось ни одного смельчака, который бы перешел от слов к делу. Все смельчаки состояли в партии эсеров и уничтожали губернаторов и полицмейстеров. Распутин как представитель крестьянства вызывал у них презрение, но не считался кандидатом в мученики.
Должен был появиться человек, для которого смерть Распутина – не только освобождение России от наваждения, но и источник корыстного интереса, пересиливавшего любые опасности, проистекающие от поступка.
Ирина, которая и была мотором в том семействе, не переставала подталкивать робевшего Феликса. Как-то, озлившись, он даже рявкнул: «Ты-то найдешь себе другого мужа, а я новую голову не отыщу». Ирина взглянула на него, чуть склонив голову, – она умела так смотреть, как на насекомое, и вышла из комнаты. Он помаялся с полчаса, пошел просить прощения. Ирина чуть усмехнулась и ответила, что не обижена.
В тот день, когда Феликс решился познакомиться с Распутиным, он совершил шаг, не позволяющий думать об отступлении. Если ты, Феликс Юсупов, близкий к престолу, богатый и красивый, пошел в товарищи к конокраду, значит, тебе не место среди чистых. Особенно если ты пошел на это именно для того, чтобы протиснуться в среду чистых.
Феликс с Ириной тщательно продумали дебют своей партии.
На Мойке, неподалеку от дворца Александра Михайловича, в котором в 1916 году, пока шел ремонт в юсуповском особняке, поселились молодые, стоял дом Головиных, фактической главой которого за неимением в Петербурге мужчин была Маша Головина, некогда приятельница Феликса. Уже не первый год она себя открыто почитала в верных сторонницах Распутина, в свете над ней посмеивались, впрочем, ей до мнения света и дела не было.
Феликс нанес Маше визит. Навел разговор на Распутина, что было несложно, выслушал панегирик старцу. Феликс осмелился внести нотку сомнения.
– Как же, – спросил он, – такой праведный, как ты говоришь, человек может проводить жизнь в кутежах и разврате?
Маша покраснела и стала отмахиваться ручкой от Феликса, как от осы:
– Ты попал в сети клеветы! Так говорят враги старца! Ведь враги нарочно подтасовывают факты, чтобы очернить его в глазах государыни.
– Но мне говорили, что в «Вилли Родэ», где он чаще всего бывает, у него есть собственный кабинет. Он там танцует с цыганками…
– Замолчи, если не хочешь, чтобы я навсегда с тобой поссорилась!
Добившись молчания, Маша вдруг сказала:
– Возможно, старец и делает это.
– Вот именно!
– Погоди! Если он так делает, то только для того, чтобы нравственно закалить себя путем воздержания от окружающих соблазнов.
Фраза была так ловко построена, что Феликс понял: она заготовлена и отрепетирована заранее.
– А министров твой старец назначает и снимает ради нравственного совершенствования?
– Феликс, давай прекратим разговор об этом. Он ничего не даст. Ни мне, ни тебе. Лишь останется осадок. Если ты хочешь, то я тебя представлю Григорию Ефимовичу. Скажу, что ты хочешь его видеть. И тогда ты сам сможешь убедиться, какой это святой человек!
Феликс сделал вид, что размышляет.
Обстоятельства складывались в его пользу. Ему даже не пришлось просить о встрече. Он даже мог показать сомнение… что он и сделал.
Маша Головина позвонила Юсупову через неделю.
– Завтра у нас будет Григорий Ефимович, – сказала она. – Ты еще не раздумал убедиться лично в том, какой это человек?
– Я готов, – ответил Феликс.
Все, Рубикон перейден.
– Тогда я жду тебя завтра, к чаю. К четырем часам. Григорию Ефимовичу я уже сказала о твоем желании с ним познакомиться. Он отнесся к этому тепло, даже радостно. Он любит новых людей… Он хочет, чтобы люди его понимали. Я сказала, что ты женат на племяннице государя. Оказывается, он об этом знает.
«Еще бы, – подумал Феликс, – десять лет в Петербурге – он собрал сведения обо всех. Ему лестно знакомство со мной».
Распутин опоздал, вошел шумно, как хозяин, облобызал Машу и ее мать, подбежавших под его благословение, как гимназистки.
Он был точно такой же, как на фотографиях и литографированных портретах. Но одна черта, не увиденная на фотографиях, привлекла внимание Феликса. Это были его глаза.
Они были малы и бесцветны, посажены очень близко друг от друга и так углублены в череп, так затенены бровями, что терялись в орбитах и поблескивали оттуда, как два холодных хрусталика. Даже трудно было порой понять, открыты глаза или нет, но чувство, подобное пронзающей тебя игле, заставляло держаться настороже. Во взгляде, как понял Феликс, таилась нечеловеческая сила.
Старец опустился на соседний с князем стул и завел нервный, быстрый, сбивчивый разговор.
С Распутиным всегда было трудно говорить. Мысли опережали возможности его речи, он не договаривал фразу, бросал на половине, начинал новую. Он пересыпал речь неопрятными словечками и стремился приставить к словам уменьшительные суффиксы, что в его речи не давало комического эффекта, потому что он оставался личностью значительной и даже страшной.
И Феликс испугался того, что намеревался убить этого человека.
«Он же догадается, что я думаю. Он сотрет меня в порошок. Как подойти к нему с кинжалом?»
Распутин похвалялся близостью с государем, словно Феликс об этом мог не слышать. Но Головины слушали его так, будто он открыл им глаза на правду жизни.
Потом разговор перешел на врача Бадмаева, которого травят придворные завистники, а он знает все травки. И тут Феликс догадался, каким образом он сможет приблизиться к Распутину, не вызывая подозрений.
– Меня собирались к нему вести, еще в детстве.
– Чем же в детстве ты страдал, мой ласковый? – спросил Распутин.
– У меня, насколько я себя помню, бывают головокружения. Я вообще теряю способность двигаться.
– И болит?
– Нет, болей я не испытываю, – сказал Феликс. – Но порой теряю сознание.
Головины смотрели на Распутина, приоткрыв изящные ротики, словно ожидали, что он сейчас превратит гадкого утенка Феликса в лебедя.
– Ясное дело, – сказал Распутин. – Нуждаешься ты, голубчик, в сильном моем влиянии. Придешь ко мне, не бойся, зла я еще никому не сделал. Поможем. А теперь еще по чашке чаю, и мне идти надо. Государственные дела призывают.
Не делал зла, произнес про себя Феликс. Если бы ты ограничился легковерными дамочками или гусарами с перепою, тебе бы цены не было. Но твои государственные дела и есть страшный вред для России.
Феликс все более убеждал себя в том, что он несет крест, врученный ему свыше… «Вот он, сидит передо мной, дьявол во плоти, губитель моей России. А я, как белый жертвенный паладин, выхожу на открытый бой с обнаженным мечом».
– Ты чего задумался? – спросил Распутин. – Или оробел? Тебе передо мной робеть не след. Ты лучше скажи, умеешь на гитаре играть и петь? Или врут про тебя?
– Я играю немного…
– Ох уж притворяешься… Сейчас со мной выйдешь. Не спешишь?
– Нет, Григорий Ефимович, не спешу.
Они вышли на мороз. Григория Ефимовича ждал автомобиль с заведенным мотором, чтобы не заглох. Шоффэр был в шубе и меховой шапке. У Феликса авто не было – ему идти от Головиных до своего дворца два шага. Но он почувствовал укол ненависти к этому мужику, который осмелился приехать на собственном авто, тогда как он, Юсупов, таится даже от собственных слуг.
– Садись, – сказал Распутин, копаясь пальцами в длинной черной бороде. – К цыганам поедем.
– Стоит ли?
– А ты, Феликс, не рассуждай. Никто тебя не увидит. Мы ресторан закроем, всех вышвырнем. Меня ждут.
И тогда Феликс, вздохнув, подчинился, потому что, раз уж ты пошел на жертвы, вряд ли стоит останавливаться на полдороге. Да и любопытно поглядеть – что же такое распутинский кутеж. О них в Петербурге чего только не говорили.
Кутеж оставил гудящую голову, стыдные и вовсе не разгульные воспоминания и память о чувстве постоянного страха – а вдруг появится кто-то из знакомых?
После этой бурной ночи Распутин стал благоволить к красивому камер-пажу. Несмотря на слухи, Григорий Ефимович не был склонен к содомскому греху, впрочем, как сам признавался, по пьяному делу баловался и мальчиками. Но любил баб.
Вот и на лечебном сеансе, когда Феликс отчаянно боролся с гипнозом, он князя трогал, оглаживал, чуть не слюнявил, но знал меру и предел.
Лечил он князя в своей спальне – небольшой комнатке в обширной, многокомнатной, но тесной и неуютной квартире на Фонтанке.
Вдоль одной стены стояла узкая кровать, небрежно застеленная спальным мешком из лисьих хвостов, – подарок, как сказал старец, от Анны Вырубовой, его главной покровительницы и почитательницы. Напротив кровати стоял громадный сундук, в нем можно было упрятать медведя, а опершись о него спинкой, раскинуло лапы подлокотников старое продавленное кожаное кресло – в нем-то и полулежал Феликс, пока старец совершал над ним свои действия.
В красном углу висело несколько образов, горела лампада, на стенах в рамках, а то и без – прикнопленные, висели портреты государя, государыни и их детей, а также лубочные картинки, изображавшие сцены из Священного Писания, – такие листки можно было купить на базаре по пятаку.
– Все, – сказал старец, – поднимайся, пошли чайком побалуемся. После сеанса обязательно надо горячим настоем жилы разогреть.
В столовой на овальном столе кипел золотопузый самовар, стол был накрыт скатертью, на ней расставлены блюда и тарелки со сладостями, до которых Распутин был большой охотник. Полюбившемуся Феликсу он подвигал тарелки и хвалил халву, конфеты и печения. Феликс глядел на толстые, расплющенные на концах пальцы – под ногтями черно – и холодно, разумно радовался решению – он отравит Распутина. Он подсыплет яда в пирожные. Где бы отыскать надежного доктора?
– Гитару принес? – спросил Распутин, хотя знал, что гитара у князя с собой. Сам отобрал гитару, встретив у черного хода – на секретности визита настоял князь.
Князь, все еще находясь в некотором трансе, потому что его воображение диктовало ему сцены смерти Распутина, пел задумчиво, негромко, в основном цыганские романсы, которыми прославился в Оксфорде.
Распутин сидел, опершись о ладони согнутых в локтях рук, всхлипывал и твердил, что пение Феликса – ангельское. И что он ни попросит – старец ему сделает. Хочешь любую бабу, даже Великую княгиню? И тут же спохватился, захохотал, вспомнил, что у Феликса уже есть Великая в женах.
– Но, может, хочешь министерское место? Какое министерство тебе по нраву? Ведь ты будешь получше министром, чем эти старые грибы? Ты орешка попробуй, в сахаре орешек, а потом еще нам сыграешь.
Феликс понимал, что ему хочется подчиняться старцу, хочется угодить ему. Это наваждение, от которого надо избавиться. Если не избавишься, Распутин разоблачит тебя и убьет. И Феликс радовался тому, что осознает опасность и потому будет в силах с ней бороться.
На прощание старец принялся упрашивать Феликса, чтобы он как-нибудь привел с собой красавицу жену. Обещал, что посмотрит, здорова ли она, а если нужна помощь, то помолится за нее. Он говорил вроде бы серьезно и доброжелательно, но глазки пронзали страхом, а по лицу блуждала гадкая ухмылка – может, она и привиделась князю.
Медлить более было нельзя еще и потому, что Феликс подлежал мобилизации – все члены императорской фамилии, ее младшего поколения, были на фронте. Впрочем, удивляться тому не приходилось – по традиции все без исключения, даже хронически больные принцы, с раннего детства были приписаны к полкам, кончали кадетские корпуса и офицерские училища. Это тоже сыграло плачевную роль в истории России – ее правящая верхушка, если не считать наследника престола, который получал более широкое образование, состояла из кадровых офицеров армии или флота, то есть к современной политической жизни была не приспособлена. Впрочем, и сам Николай II лучше всего чувствовал себя во главе полка, на параде или на учениях. Но уже в штабной комнате он терялся, потому что офицером был старомодным, бесталанным, для парадов, а не для танковых сражений. Беда русского командования, когда все определяла близость к престолу, была связана, разумеется, с деградацией самой империи. Ведь в наполеоновских войнах император не смел после первых неудачных попыток командовать Кутузовым и Барклаем. А вот Плевну в 1877 году штурмовали долго и неудачно – августейшие полководцы на роль Наполеонов не годились.
Феликсу помогло то, что казалось ему проклятием, – он не принадлежал по крови к царской семье, и никто не мешал его отцу дать сыну гражданское образование. Отец полагал, что Оксфорд откроет сыну истинную карьеру в современном государстве. Оксфорд ничего не открыл, только прибавил сплетниц и врагов. И Феликс, уже по собственному разумению, резко сменил карьеру и по возвращении из Лондона отправился в Пажеский корпус. Он стал камер-пажом, правда, с опозданием. Но теперь после трех лет войны камер-пажей стали отправлять на фронт.
Так что надо было торопиться со своими планами.
Главного кандидата на роль соучастника подобрала Феликсу Ирина. Им нужен был член императорской фамилии. Если не будет Великого князя, то Феликс рискует оказаться на каторге, как бы ни радовалось общество. Великий князь станет щитком. Но где найдешь такого, кто не струсит, не спасует перед фактом измены государю? Кто не выдаст заговор по глупости – быть участником провалившегося заговора позорно, и тут рискуешь оказаться посмешищем.
Ирина недаром собирала сплетни и слухи. Она нашла соучастника там, где, казалось бы, и не отыщешь такового. Им был Дмитрий Павлович, кузен государя, сын отщепенца в семействе, ибо Павел Александрович умудрился жениться вторым браком на разведенной жене полковника. Незнатной женщине, да еще разведенке, нечего было делать во дворце. Павел прожил несколько лет в Париже, а сейчас командовал гвардейской дивизией без особого успеха и желания – но он исполнял свой долг. А сыну не досталось даже дивизии. И сын не скрывал своей ненависти к Распутину и его клике, за что был в немилости. Ему тоже хотелось стать спасителем Отечества.
Феликс позвонил Дмитрию Павловичу. Сказал, что должен встретиться по неотложному делу.
Знакомство их было чисто светским, в их кругу так по телефону не разговаривали. Из этого следовало, что дело не бытовое, не семейное… Дмитрий Павлович согласился принять Юсупова в пять часов.
Феликс подготовил речь перед Дмитрием Павловичем. В ней были сакраментальные слова о том, что уничтожение Распутина спасет царскую семью, откроет глаза государю и он, пробудившись от страшного распутинского гипноза, поведет Россию к победе.
Но Феликсу даже не пришлось держать речь. Через несколько минут Дмитрий Павлович, сначала принявший Юсупова официально и даже сухо, предложил перейти к делу.
Он был достаточно умен, чтобы сообразить, что судьба принесла ему в лице этого красавчика шанс спасти Отечество и кузена.
– По правде говоря, – сказал подобревший Дмитрий Павлович, звеня в колокольчик, чтобы принесли по чарке доброй водки за успех предприятия, – я с внутренним негодованием узнал, что вы были замечены в последние недели в обществе этого изверга. И при первых ваших словах я заподозрил интригу.
– Это невозможно, я человек чести. Я согласен взять на себя исполнение смертного приговора старцу. Мне важнее ваше сочувствие, чем участие. Ваше имя не будет запятнано.
– Запятнано? – Дмитрий Павлович был выше ростом, чем его гость, он принадлежал к той кавалерийской породе Романовых, что до конца жизни оставались поджарыми. Походная форма сидела на нем ладно, как на ветеране, не думающем о том, чтобы она сидела ладно. – Запятнано? – повторил Дмитрий Павлович, глядя в окно кабинета. – Это благородное пятно. Пятно чести. Наступает время жертвовать собой ради идеи, ради империи. Если мы с вами, князь, не возьмем на себя риск замарать наши фраки, то грош нам цена. История приговорит нас к забвению.
Это были высокие слова, и они прозвучали искренне. Князь Юсупов был посланцем небес, призванным спасти князя от забвения.
– У меня есть помощник, – сказал Юсупов. – Штабс-капитан Васильев. Военлет. Он находится в Петрограде на излечении после ранения. Мы с ним познакомились в Ялте. Ирина встретила его на благотворительном вечере, и вот на днях он появился здесь.
– Вы намерены привлечь к заговору иных лиц? Я не советую.
– Я полагаю, Ваше Высочество, поговорить с кем-то из ведущих монархистов. Политиков. Может так статься, что нам пригодится поддержка определенной части общественного мнения.
Дмитрий Павлович не скрыл улыбки.
– Подстилаете сено, князь? – спросил он.
– Моя цель состоит не в простом убийстве, не в дворцовом перевороте, – возразил Юсупов, – а в акте гражданского сознания. Мне хочется объединить в нем аристократию, царское семейство и верных престолу политиков.
– Но помните, – сказал Дмитрий Павлович, – что за пределами узкого круга заговор превращается в предмет для разговоров и обязательно провалится.
– Я помню об этом.
– Тогда действуйте, с Богом. Я не смогу вам помочь на этом этапе, так как через несколько дней возвращаюсь на фронт.
– Я возьму на себя самую отвратительную часть заговора, – сказал Феликс. – Я буду общаться с этим человеком. Я должен быть хитрым, как змий.
– Именно об этом я хотел вам напомнить. С Богом, я благословляю вас на благородное дело. Будьте осторожны, мой друг.
И они подняли по рюмке за успех предприятия.
На прощание договорились – ни одной бумажки, ни одной строчки, могущей повредить заговору. Все переговоры только устно, только в надежном месте, только без свидетелей.
И когда они расстались, Феликс кинулся к Ирине с радостной вестью. Теперь следовало подыскать известного влиятельного думца, у которого есть те же проблемы, как у Юсупова и Великого князя. А может, иные, но могущие толкнуть его к отчаянному акту убийства.
Сначала Юсупов посетил профессора Маклакова. Его прочили в премьеры конституционного правительства, он был уважаем банкирами и адвокатами – само воплощение здорового консерватизма.
Маклаков выслушал Юсупова, который в этой беседе не ставил точек над i, ибо собеседник его не был связан кастовыми интересами с Феликсом и мог, несмотря на данное слово, поведать миру с трибуны Государственной думы о существовании заговора.
Но Маклаков отлично понял Юсупова. Понял и оробел.
У него был образ, утвержденный мнением общества. И в образ консервативного профессора убийство никак не вписывалось. Если Маклаков окажется участником заговора, он никогда уже не вернет себе облик интеллигента с чистыми руками. К тому же Маклаков отлично понимал, что Распутин – лишь надводная часть айсберга и империя рухнет, в чем он не сомневался, не из-за Распутина, а по причинам куда более глубинным и неотвратимым.
Так что Маклаков ничего не выигрывал, а слишком многое терял.
Он ответил Юсупову уклончиво, дал слово никому не обмолвиться о визите князя. И они расстались, понимая, что Маклаков в заговоре участвовать не будет.
И тогда решено было обратиться к крикуну и демагогу.
Таких в Думе было несколько. Но последовательно злобный, монархист из монархистов – один. Пуришкевич. Респектабельный джентльмен с бородкой, в пенсне.
Такие есть в каждом русском парламенте. Их движущая сила – ненависть. Причем ненависть крикливая, очевидная настолько, что порой кажется наигранной. Набор врагов у Пуришкевича (они же враги короны и национального духа) был устрашающим. Если бы они когда-нибудь объединились, Пуришкевич рухнул бы под грузом их чувств. Но враги никогда не могли объединиться. Одни по причине несходства характеров или политических позиций, другие потому, что не принимали или делали вид, что не принимают Пуришкевича всерьез.
Разумеется, Распутин в устах Пуришкевича был пугалом номер один, он не раз выступал с требованием избавиться от старца ради спасения Отечества. И в отличие от Маклакова Пуришкевич был достаточно безответственным типом – он отлично подходил в качестве третьего (если не считать таинственного штабс-капитана) участника заговора тщеславных циников. Убить Распутина? Это гениальная мысль! Давно только об этом и мечтаю. Для этого есть исполнитель? Еще лучше. Я сделаю все, чтобы заговор удался.
Пуришкевич видел себя во главе правительства доверия, которое придет ради спасения Руси, правительства честных монархистов, в котором он возьмет в руки власть.
Далекоидущие планы заговорщиков были обречены на провал, потому что сама постановка вопроса – ликвидируйте Распутина, и Россия вздохнет свободно! – была порочна.
Но выступить катализатором процессов, кипящих под крышкой котла российского общества, они были способны.
* * *
Устраивая вместе с Сергеем Серафимовичем спиритический сеанс в Ялте перед войной, пан Теодор понимал, что жизнь и смерть Распутина станут одним из узловых моментов в истории России, и потому старался не выпускать из виду старца и тех, кто мог реально ему противостоять. Ему было приятно сознавать, что уже в 1914 году он заметил молодого Феликса Юсупова. Сейчас же Феликс настолько близко сошелся с Распутиным, что Петроградский Совет был вынужден обратить на это внимание. Феликс докатился до того, что ездит с Распутиным к цыганам, безумствует там и – вы не поверите! – играет на гитаре в сомнительных компаниях, словно жалкий тапер. И до этого докатился владелец юсуповских миллионов!
Теодор из своих источников знал, что все не так просто. Феликсу не было нужды в Распутине, тем более что он не стремился к карьере и тщеславие его могло бы обойтись без дружбы с временщиком.
Феликс что-то замыслил, понял Теодор. И так как его роль в нашем мире заключалась, в частности, в том, чтобы знать о событиях, могущих повлиять на пути развития земного общества раньше, чем они произойдут, он удвоил внимание и попытки проследить за каждым шагом Юсупова.
Поэтому Теодор знал о беседе Феликса с Дмитрием Павловичем, о его разговорах со штабс-капитаном Васильевым, который вообще переселился во дворец Юсуповых на Мойке, так как неудобства, связанные с ремонтом, его не удручали. Зато он мог исподволь подготавливать сцену для драматического действия.
Теодор даже пошел на то, чтобы познакомиться со штабс-капитаном. Авантюра с Распутиным, в которую военлет с удовольствием впутался по причине своего беспутного характера, не занимала целиком его времени и мыслей. Потому он посещал увеселительные заведения, правда, не высшего толка, так как денег у Юсупова просить не хотелось, да Феликс и не был самым щедрым из друзей. В ресторане «Каприз» напротив Елагина острова он встретил как-то поляка или серба с густыми черными бровями и огненным взором, они славно посидели, и Теодор, как звали нового друга, заплатил по счету. Это расположило к нему Васильева, и он поведал другу детства (к тому времени Теодору удалось внушить Васильеву, что он – его друг детства) все, что он знал о заговоре. И обещал держать Теодора в курсе дел, тем более что живой ум штабс-капитана подсказал ему, что Теодор – человек не жадный и готов в будущем угощать бедного пилота.
* * *
Пуришкевич рекомендовал в заговор еще одного человека – толстого и мрачного доктора Лазаверта, которого он представил как идейного борца за интересы самодержавия. Доктор Лазаверт от идейности не отказывался, но сразу же заговорил с Юсуповым о гонорариуме. Он произносил это звучное слово со смаком, будто речь шла не о деньгах, а о букете цветов либо Нобелевской премии.
Юсупов обещал доктору щедро оплатить его услуги. Доктор был нужен, потому что убийство предполагалось цивилизованным, а не азиатским преступлением. Доктор должен был составить яд и потом проверить, помер ли Распутин.
Когда заговорщики вчетвером впервые встретились во дворце Александра Михайловича (Дмитрий Павлович еще не возвратился из Могилева) и разрабатывали детали плана, то решено было не привлекать к делу слуг. Но кто-то должен был управлять авто. Васильев был готов на это, но Юсупов указал на то, что с рукой на перевязи ему будет нелегко это сделать, к тому же такой шоффэр запомнится случайному взгляду.
Тогда Пуришкевич предложил кандидатуру доктора Лазаверта. Лазаверт признался, что обучился этому искусству на фронте, когда занимался поставками медикаментов в госпитали, а теперь намерен даже приобрести себе автомобиль. Он был готов вести авто. На том и порешили.
В начале декабря Юсупов два раза встречался с Распутиным, который демонстрировал свою любовь к князю, они подолгу беседовали. Распутину было лестно выступать перед слушателем, который не заискивал перед ним, а казался улыбчивым и любезным.
Юсупову было нелегко сохранять вид легкомысленный и беззаботный. Он жил в ощущении убегающего времени. Зима была в разгаре, на фронтах затишье, но в городах было неспокойно, железные дороги работали все хуже, и начались перебои с хлебом. Даже самые горячие патриоты уже не смели кричать о жертвах во имя победы. Нужно было подстегнуть страну, прежде чем она вырвется из рук властей и поплывет, кружась, к водовороту. В любой момент затея Юсупова могла лопнуть, и с каждым днем риск все увеличивался. Ведь если в тайну посвящены пять человек, значит, реально о ней знает дюжина. Ведь не смог же Феликс скрыть приготовления от Ирины, хоть ему и удалось уговорить ее уехать в Крым, не столько ради ее безопасности, сколько опасаясь настойчивых требований Распутина познакомить его с женой. Женщины непредсказуемы – Ирина тем более.
Если о заговоре узнавали власти, то, желая того или нет, они обязаны были принять меры. И Юсупову грозила опасность очутиться в Петропавловской крепости, ничего не совершив. Но была и другая опасность, тоже реальная – некая вторая группа, желая также пробиться в бессмертие, опередит Юсупова и получит все лавры и терновые венцы.
Юсупов назначил покушение на середину декабря. Благо сам он пользовался полным доверием старца. Но ведь и это – не вечно. Старец капризен и подозрителен. В любой момент по навету или по справедливости Юсупов лишится доверия Григория Ефимовича. И тогда провалится заговор, который именно на доверии жертвы и основывался.
В одну из последних встреч Распутин и вовсе испугал Юсупова. Он откровенно заговорил о мире.
Они сидели в тесной, заставленной темной тяжелой мебелью гостиной, пили чай. Распутин хватал с подноса эклеры и кидал их в рот, как орехи. Губы его блестели, пальцы лоснились от жира.
– Вот что, дорогой, – говорил он наставительно. – Хватит воевать, довольно крови пролито, пора кончать всю эту канитель. Разве немец не брат тебе? Господь говорил: «Люби врага своего, как любишь брата своего», а какая же у нас любовь получается? Сам-то все артачится, да и Сама чего-то уперлась: не иначе как их опять там кто-нибудь худому научает, а они развесили уши, слушают! Тьфу ты! Но ты не думай. Я своего добьюсь. Я их уломаю. Они все по-моему сделают, хоть и спешки нету…
– Нет! – вырвалось у Юсупова. – Мир – это позор для России! Вы, Григорий Ефимович, о нашей национальной чести подумали?
– Национальная честь – это не для нас, мужиков, – возразил старец. – Вы же знатные, о людях и думать не можете. Только я один и пекусь о народе. Вот покончим с этим кровавым делом и объявим правительницей Александру с малолетним сыночком, а Самого пригласим в Ливадию, на отдых… Вот-то будет радость ему огородником заделаться. Устал он больно, отдохнуть надо, а глядишь, в Ливадии, около цветочков, к Богу ближе будет. У него на душе много есть чего замаливать… одна война чего стоит! За всю жизнь не замолишь!
– А как же Дума? – спросил Юсупов.
– Говорунов сразу разгоним. Ишь надумали! Против помазанников Божьих пошли! Давно пора их к чертовой матери послать… всех, всех, кто против меня кричит, – всем худо будет!
«Надо не забыть, – думал Юсупов, – все пересказать Пуришкевичу. Он в последние дни избегает меня. Дмитрий Павлович тоже испугается конца войны. Кому нужен мир без победы? Всем нужна победа, тогда и будем мириться».
– Вот евреи просят меня свободу дать, – гудел голос Распутина. – Чего ж, думаю, не дать? Такие же люди, как и мы с тобой, Божья тварь.
Когда вечером того же дня Юсупов рассказывал Пуришкевичу о последнем визите, он добавил кое-что от себя.
Он поведал о том, как их беседу якобы прервал звонок в дверь, тогда Распутин отвел его в спальню и велел не высовываться. А сам принял гостей в кабинете. Оттуда Юсупову были слышны голоса, и он, конечно же, не утерпел, выглянул в щель. Оказалось, что в гостях у старца собралось несколько неприятных типов, у четверых был, несомненно, еврейский облик, трое других были белобрысые, с красными лицами и маленькими глазами.
– Вся эта группа производила впечатление грязных заговорщиков, – закончил свой рассказ Юсупов. – Распутин же сидел среди них с важным видом и что-то им рассказывал. Заговорщики посмеивались и записывали его слова в свои черные книжечки.
Пуришкевич кивал, давая понять, что понимает подсказку Юсупова – противоестественный союз мирового еврейства с тевтонскими шпионами угрожал самому существованию России.
– Мы не можем терять ни минуты, – сказал политик. – Я готов к выступлению.
– Дмитрий Павлович днями будет в Москве, – сказал Юсупов.