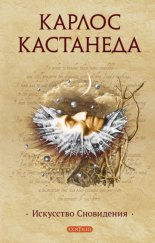Мифогенная любовь каст Пепперштейн Павел

Дизайн обложки группа ППСС
В оформлении обложки и форзацев использованы работы Рината Волигамси
Издатель П. Подкосов
Продюсер Т. Соловьёва
Руководитель проекта М. Ведюшкина
Арт-директор Ю. Буга
Корректор Е. Воеводина
Компьютерная верстка А. Ларионов
© П. Пепперштейн, 1999
© С. Ануфриев, 1999
© ООО «Альпина нон-фикшн», 2022
Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.
Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
Том первый
Достоевский. «Братья Карамазовы»
- Непобедимой силой
- Привязан я к милой,
- господи, помилуй
- Ее и меня,
- Ее и меня,
- Ее и меня.
Если бы я была бессмертная, то что бы я делала?
Я издевалась бы над кукушками. Прихожу в лес и спрашиваю: «Кукушка, кукушка, сколько мне годков жить-то осталось?»
Из словоблудия одной девочки
Часть первая. Востряков и Тарковский
Конечно, встречаясь на лесных дорогах, они не могли отводить глаза, делать вид, что не замечают друг друга. Им приходилось награждать друг друга неуловимыми, как бы скользящими взглядами, иногда они кивали друг другу или даже обменивались краткими, ничего не значащими словами, которые, впрочем, мало походили на приветствия. Что крылось за этими фразами, произносимыми обычно, как и принято в здешних краях, громким, но лишенным всякого выражения голосом? Скорее всего, нежелание вступать в более продолжительную беседу. Слова, которыми они обменивались, их длина, содержание, сам способ их произношения – все было рассчитано на то, чтобы можно было пройти мимо, не замедляя шага, сохраняя на лице ясное и приветливое выражение, а губы сложив таким образом, чтобы они выражали сдержанную симпатию и как бы обещали вот-вот улыбнуться, но так и не исполняли этого обещания, оставались все так же плотно сомкнутыми. Как только встречный пешеход удалялся на несколько шагов, точнее два пешехода начинали с равной скоростью удаляться друг от друга, это выражение исчезало с их лиц. Не сразу, но постепенно, как медленно гаснет тлеющий окурок, их лица принимали обычное для них, суровое и замкнутое выражение. У одного из них эта замкнутость немного смягчалась молодостью и рассеянностью. У другого, напротив, усугублялась старостью, которая хотя и не воцарилась еще на этом лице, но уже наложила на него печать своего неумолимого приближения.
И в деревне, и в лаборатории все знали, что Тарковский и Востряков не любят друг друга. Непонятно, откуда могло просочиться это знание. Непонятно, на чем основывались эти предположения, переросшие затем в полную уверенность. Тарковский и Востряков никогда не отзывались друг о друге плохо, никогда не ссорились и вообще никогда не разговаривали друг с другом. В лаборатории они никогда не встречались, так как Востряков работал в отдельном сарайчике, который он сам целиком оборудовал и приспособил к своим нуждам. В центральном корпусе шутили, что Востряков создал себе «избушку на курьих ножках», настолько его утлый с виду сарайчик был набит самой что ни на есть современной аппаратурой. Что же касается Тарковского, то он, приходя в лабораторию, поворачивал направо, к главному подъезду, поднимался по скрипучей деревянной лестнице центрального корпуса на второй этаж, проходил несколько шагов по застекленной галерее, затем толкал плечом старую, грубую дверь седьмой комнаты, где размещался его рабочий стол, заваленный незаполненными бланками, папками, помеченными крупным, отчетливым почерком: «Ежедневные измерения», «Данные по наблюдениям за неделю» и так далее.
Так что встречаться они могли только изредка, да и то рано утром, на просеке, когда Тарковский после ночного дежурства возвращался домой, в деревню, а педантичный Востряков – как всегда, точно вовремя – шел ему навстречу, направляясь в свой рабочий сарайчик, чтобы уединиться там на целый день.
И тем не менее возникшая между ними и тщательно скрываемая антипатия была замечена окружающими. Они не знали, чему приписать ее, поэтому предпочитали думать, что это не что иное, как органическая неприязнь, которая охватывает представителей каких-то определенных, несовместимых друг с другом типов людей при первом же, пусть даже самом поверхностном, знакомстве, точно так же как случается, что мгновенно возникает между людьми дружба или даже любовь.
Действительно, они в чем-то составляли полную противоположность друг другу, что выражалось и во внешности их, и в манере одеваться, двигаться, разговаривать. Тарковскому шел двадцать седьмой год. Это был довольно высокий, полный молодой человек, с белокурыми, коротко подстриженными волосами. Когда-то в юности он много занимался спортом, греблей, теннисом, спортивной ходьбой и поэтому с первого взгляда производил впечатление сильного, атлетически сложенного и физически развитого человека. На самом деле это впечатление было обманчивым – с тех пор Тарковский много болел, у него открылся запущенный туберкулез, который с трудом удалось ликвидировать. Он не тренировался много лет, растолстел, стал рыхлым и привык к малоподвижному образу жизни. У него было большое белое лицо с бледными коричневатыми пятнышками, проступающими под тонкой кожей. Глаза у него были светло-серые, спокойные и довольно холодные; редко улыбающийся рот был тонкий и небольшой. Чересчур высокий лоб с родинкой на виске выдавал склонность к раннему облысению – действительно, волосы на макушке уже начали редеть. Тарковский не боялся этого – у него был большой, хорошо сформированный череп. «Его не грех показывать без покрова», – иногда спокойно говорил он своей жене, причесываясь перед зеркалом. Дворянское происхождение Тарковского давало о себе знать в его изящных, плотно прижатых к голове ушах, в его длинных пальцах, многочисленных родинках, покрывавших его лицо и тело. Мать Тарковского в девичестве носила громкую фамилию – она принадлежала к известному и старинному княжескому роду. К чести Тарковского надо сказать, что он никогда не кичился своим знатным происхождением, он даже не думал о нем. Его интересовало другое. С тех пор как он в возрасте девятнадцати лет заболел туберкулезом, главной его страстью стали женщины. До этого он мало интересовался ими; сначала был тихим и сосредоточенным ребенком, увлекавшимся собиранием почтовых марок и монтажом различных сооружений из продаваемых конструкторов (родители думали, что он станет инженером), потом стал угрюмым и молчаливым спортивным подростком и – наконец – старательным юношей, отдававшим все свои силы учению. Долгое пребывание в больнице, а затем в туберкулезном санатории очень изменило его. Он совершенно охладел к занятиям, кое-как закончил университет и работал младшим научным сотрудником в различных лабораториях. Собственно говоря, может быть, он был просто лаборантом, а ведь когда-то на его способности обращали внимание школьные учителя и университетские преподаватели; теперь же все изменилось. Он никогда не знакомился с женщинами в компании или в гостях; с мужчинами он был чрезвычайно замкнут, и у него почти не было друзей. Обычно он или подходил к понравившейся ему женщине на улице, или заговаривал в очереди, или подсаживался на лавочке в сквере. Он легко начинал разговор, произнося простые, отчетливые и совершенно ясные фразы, в которых не было ничего игривого, ничего остроумного, в которых не было никаких намеков, ничего дерзкого или грубого, но также ничего поэтического или интересного. Ничего, кроме благожелательных, прозрачных, поверхностных словосочетаний. В холодную, ветреную погоду Тарковский, увидев молодую женщину без перчаток, часто подходил и предлагал, спокойно и вежливо, согреть ее руки в своих руках. У него действительно были большие, очень горячие руки с длинными аристократическими пальцами, ногти на которых были всегда тщательно подстрижены. Чаще всего женщины отворачивались или прогоняли Тарковского, но иногда соглашались на это предложение. У Тарковского был вид тихого, интеллигентного человека, внушающего доверие, – собственно, таким он и был на самом деле. Движения его отличались мягкостью и были не то чтобы неловкими, но как бы не совсем точными, они впечатляли своей непреднамеренностью и при этом производили обволакивающее впечатление. Тарковский редко улыбался и почти никогда не смеялся, шутки его были несколько блеклыми и не смешили даже его самого; тем не менее нельзя сказать, что он совершенно не обладал чувством юмора, просто многое из того, что вызывало смех у других людей, многое из того, что вызывало смех, основанный на глубоко гнездящемся ужасе или на характере существенных двойников, многое, наконец, из той части юмористического, которая основывается на измученном сострадании, многое из этого казалось ему никаким, ни смешным, ни печальным, ни даже скучным, – он свободно и равнодушно скользил сквозь эти области юмора, сквозь шутки и остроумные замечания, если они произносились при нем. Из вежливости он слегка улыбался, а иногда делал вид, что смеется, а иногда и действительно смеялся – в таких случаях он поднимал свое большое белое лицо вверх, внимательно прищуривался и слегка заслонял смеющийся рот ладонью, так как немного стеснялся своих неровных мелких зубов. Он был всегда элегантно одет, каждый день менял рубашки светлых оттенков, предпочитал тяжелые вельветовые пиджаки с набивными плечами, которые увеличивали его и без того массивную фигуру. Он носил мягкие свитера из натуральной шерсти с какими-то серыми или коричневыми разводами или перемежающимися черными, белыми и серыми ромбами, носил темно-синие вельветовые джинсы и красивые карманные часы на цепочке – на крышке этих часов был выгравирован еловый лес и два волка, сидящих на поляне, заросшей низкой травой. Женщины любили его; его присутствие производило на них впечатление спокойствия и надежности, однако последнее было скорее всего иллюзией. Тарковский в своих отношениях с женщинами был ровен, мягок, терпелив и ласков. У него были любовницы во всех классах общества, их возраст колебался от семнадцати до тридцати пяти лет. Он никогда не обижался на них, никогда не раздражался, не предъявлял к ним никаких претензий, позволял, сохраняя обычное благожелательное спокойствие, унижать себя или даже издеваться над собой. Он позволял женщинам многое, часто исполнял их самые абсурдные и сумасбродные пожелания. Однажды он по просьбе одной барышни перелез в ночное время стену зоопарка и забрался в загон с какими-то крупными животными, кажется зубрами. Он старался не принимать от женщин дорогих подарков (это казалось ему непорядочным), но и сам почти ничего не дарил им, а если дарил, то какие-то пустые раковины, тяжелые стеклянные расчески 50-х годов, цветные фотографии экзотических пейзажей или сиамских близнецов, авторучки, имеющие вид игрушечных зонтиков или сигарет, и тому подобные мелочи. Если не считать предметов одежды, которым он уделял некоторое внимание, он проявлял полное равнодушие к вещам, и если они пропадали куда-то или терялись, то он редко замечал их исчезновение. Вообще он был несколько рассеян. Его вторая по счету жена, которую звали Лиза, будучи на четыре года моложе его, сначала очень переживала постоянные измены мужа, но потом привыкла и несколько успокоилась, тем более что Тарковский был к ней неизменно внимателен. Если она плакала и упрекала его в том, что он опять провел ночь у другой женщины, он обычно готовил ей ее любимую еду – салат из мелко накрошенной капусты и моркови с лимоном и ванилью. Свою бывшую жену Катю, бросившую его три года назад и вышедшую замуж за другого человека, Тарковский тоже не забывал, он часто заходил к ним в их небольшую, уютную квартиру в Плетешковском переулке; они сидели втроем, курили сигареты, стряхивая пепел в массивную граненую пепельницу из зеленого стекла.
Новый муж Кати, ровесник Тарковского, был внешне очень похож на него – это отмечали все, кто знал их обоих. Тарковскому иногда казалось, что он сидит рядом со своим родным братом, которого у него на самом деле никогда не было. Правда, муж Кати был несколько ниже ростом и же в плечах.
Примерно год назад Тарковскому предложили место в лесной лаборатории. И он сам, и его жена Лиза охотно согласились на это предложение, так как им обоим давно хотелось пожить на природе. Им предоставили небольшой отдельный коттедж со всеми удобствами, расположенный среди других подобных коттеджей в деревне, где жили многочисленные сотрудники лаборатории. Лиза устроилась работать в детский сад, размещенный в той же деревне и предназначенный для детей ученых.
Тарковский дежурил в лаборатории целые сутки, оставаясь там на ночь, и возвращался только к середине следующего дня. Зато потом он три дня бывал свободен: спал, гулял по лесу и много читал. Он любил старокитайскую литературу; толстые книги лежали на его небольшом письменном столе, покрытом гладкой белой бумагой и придвинутом к окну, за которым расстилались заросшие густым кустарником лужайки; сразу за ними начинался густой сосновый лес, где летом было приятно гулять, рассеянно рассматривая осыпанный ягодами кустик брусники, или, точнее, ежевики, или нагретый солнцем малинник; осенью можно было часами бродить в поисках грибов, поскрипывая постепенно наполняющейся корзинкой, а зимой скользить на быстрых лыжах по накатанной, словно бы отполированной лыжне.
Тарковскому нравилось работать в лаборатории, где от него не требовалось почти ничего, кроме аккуратного отбывания положенных ему часов. К тому же там работало много молодых, приятных женщин; Тарковский ухаживал за ними, и нередко в часы ночных дежурств молоденькие лаборантки, дежурившие в соседних корпусах, навещали его, скрашивая ему часы долгого ночного одиночества. Если же никто не приходил, он проводил ночные часы за чтением: Пу Сунлин, «Троецарствие», «Речные заводи», «Песни воина, заблудившегося среди лотосов», «Записки из хижины Великое в Малом», «Развратный монах наслаждается в обители Плывущей Бирюзы», «Чайная, где не видывали золотого» и другие произведения старокитайской классики доставляли ему подлинное наслаждение. Утром он передавал дежурство другому сотруднику, неторопливо собирал свои вещи, укладывал книги в небольшой потертый портфель и пешком, по освещенной утренним солнцем дороге, пускался в обратный путь.
Слова «мир», «свобода», «совокупность», «совокупление» и другие начинали с особой силой жить в его душе, наполняться особенным смыслом; они представлялись ему незакрепленно парящими, предельно открытыми для понимания точками. Именно в этот момент, когда Тарковский после бессонной ночи был, как ему казалось, невероятно мягок и слаб, когда в тишине и шорохе леса, в утренних бликах солнца, пробивающихся сквозь свежую листву и устилающих слегка влажную дорогу ковром теплых, косых, чуть дрожащих светящихся пятен, когда в запахе травы и хвои, в пререканиях птиц, в просветах синего неба он начинал находить источники приятного, ясного забвения, именно тогда впереди, размытый и неясный, распадающийся на кусочки тени и света, появлялся силуэт приближающегося Вострякова.
Вострякову было шестьдесят четыре года. Судьба у него была сложная, он много пережил на своем веку. Родился рабочей семье, много и упорно учился, стал комсомольцем. Работал на заводе, а потом был переведен на другой завод, работавший на оборону, – это было крупное, засекреченное предприятие. Там Востряков стал комсомольским руководителем и председателем заводского Дома культуры. Он очень много сил отдавал этому Дому культуры, проводил там все свободное время, которое оставалось у него от работы на заводе, где он был учеником и помощником одного известного специалиста по вулканической резине. В Доме культуры он дни и ночи красил декорации для самодеятельных спектаклей, сочинял тексты для раёшников (проявляя в этом определенные литературные способности), сам же читал их со сцены, вызывая аплодисменты в зале. Он даже раздобыл отличный белый рояль, когда-то реквизированный в соседней барской усадьбе. В те времена это был худой, невысокий юноша, которому еще не стукнуло и двадцати лет, – подвижный, серьезный и деятельный. На заводе его все любили, он был на отличном счету у начальства. Вскоре он подал заявление в партию и был принят. Однако грянула война. Руководство завода получило приказ «ввиду резкого продвижения неприятеля» срочно ликвидировать завод, оборудование и спецперсонал эвакуировать на Урал. Вострякову, как и другим, было больно и тяжело участвовать в ликвидации завода, который создавался почти у него на глазах и в который все они вкладывали столько надежд. Однако особенно мучительной была для него мысль о гибели Дома культуры, который был любимым детищем его самого и его товарищей. В последние часы существования завода он вошел в здание Дома культуры и остановился посреди разоренного зала. Тщательно развешенные плакаты и стенды были сорваны со стен и небрежно брошены на пол; кумачовый плакат, ранее висевший над сценой, на котором собственной рукой Вострякова был старательно выведен лозунг «Искусство – пролетариату, искусство – строителям коммунизма», валялся в углу, смятый и посыпанный кусками отбитой штукатурки; декорации, оставшиеся от недавно прошедшей премьеры спектакля «Аленький цветочек», были разорваны и опрокинуты: на изображении волшебного зачарованного сада, над которым они немало потрудились несколько дней назад, отчетливо виднелись белые известковые следы чьих-то сапог. Все стулья были разбиты и свалены в углу огромной, бесформенной кучей, ощетинившейся торчащими в разные стороны ножками. Какие-то люди, быстро передвигаясь на корточках, протягивали вдоль стен проволоку.
– Отойдите, товарищ, идет минирование, – строго сказал Вострякову незнакомый человек в униформе. Востряков последний раз окинул взглядом зал и заметил, что из знакомых предметов отсутствуют два – белый рояль и гипсовый бюст Сталина. Он вышел из этого помещения, прошел по опустевшим цехам. Всюду работали минеры. Во дворе почти никого не было, все работники завода уже находились в вагонах специального состава, который стоял у платформы особой железнодорожной ветки. Состав должен был отойти через двадцать минут. Востряков ускорил шаги, направился в сторону железной дороги, но, не доходя платформы, увидел свой белый рояль и стоящий на нем бюст Сталина. Среди потемневшего, как бы насупившегося в предсмертном оцепенении завода, среди гор черной, непонятно откуда взявшейся земли оба этих предмета выделялись светлым пятном, сливаясь в один странный белоснежный силуэт, издали напоминавший всадника или, скорее, кентавра. Но тут один из рабочих, которые спешно грузили кое-как упакованные остатки оборудования в последний вагон, подбежал, схватил бюст и унес его в сторону поезда.
– А рояль?! – крикнул ему вслед Востряков. – Возьмите рояль!
– Рояль взять никак не сможем, – отозвался за его спиной знакомый голос. – У нас вон станки еле-еле поместились.
Востряков обернулся и увидел председателя партийной организации завода Дунаева. Несмотря на то что Дунаев был лет на двадцать с лишним старше Вострякова и занимал видный общественный пост, они дружили.
С первых своих шагов на заводе Востряков ощущал на себе пристальный и доброжелательный взгляд прищуренных глаз парторга. На первый взгляд парторг выглядел угрюмым, малообщительным человеком – небольшого роста, широкоплечий, с темным задубевшим лицом и густыми клочковатыми бровями, всегда резко сдвинутыми к переносице, он говорил громко и грубо, двигался рывками и, казалось, не обращал ни на кого внимания. Однако за напускной суровостью скрывалась его отзывчивость, готовность всегда прийти на помощь; из-под густых бровей поблескивали внимательные глаза, он вникал во все и, если это было необходимо, мог часами говорить с тем или иным рабочим, помогая ему решить его наболевшие вопросы, начиная с жилищных или семейных проблем и кончая проблемами самыми общими, касающимися всечеловеческой истории или устройства мироздания. Рабочие чувствовали, что парторг для них – свой человек, что сам он из их братии, и так это и было на самом деле. Его отрывистая речь, пересыпанная сочным рабочим матерком, была ясна и понятна каждому, и в то же время он был способен немногими простыми словами, непосредственно относящимися к сути дела, объяснить даже достаточно сложные понятия. Востряков пользовался особой симпатией парторга, да и сам он искренне привязался к нему за несколько лет, проведенных на заводе.
И вот теперь Дунаев стоял перед ним, как будто еще более потемневший, с мерцающим огоньком окурка в углу рта, одетый в широкий светлый пыльник: его старая соломенная шляпа была сдвинута набок, в руке он держал портфель.
– Собрался, Сашок? – хмуро спросил он, выпуская дым. – Тебя тут все искали. Небось в Дом культуры ходил, прощался?
Востряков кивнул.
– Ну ладно, пусть поезд отходит, мы их на машине догоним, они еще на Узловой простоят бог знает сколько. – Дунаев взглянул в сторону состава, щелчком пальцев далеко отбросил окурок папиросы. – Немцы, ебать их в четыре жопы, наступают. Много нужного пришлось оставить, ничего не поделаешь…
Востряков подошел к роялю, погладил его по зеркальной, полированной поверхности, потом тихонько приподнял крышку, взял несколько аккордов.
– Владимир Петрович, неужели рояль пропадет? Дорогой ведь инструмент. Неужели нельзя в школу завезти, пусть там пока постоит, а потом, когда мы вернемся… Ведь мы вернемся, Владимир Петрович? А?
– Вернемся, Саша. Обязательно вернемся, – ответил Дунаев. – Мы еще с тобой здесь такой завод построим!
Внезапно он засмеялся, хлопнул Вострякова по плечу:
– А ладно, что уж с тобой делать, давай грузи свой рояль в грузовик и подкинем его в школу. Туда десять минут езды. А потом прямо на грузовике двинем на Узловую, там наш состав нагоним. Заодно посмотрим, как завод взрывать будут.
Востряков внезапно ощутил прилив сил, как будто, спасая рояль, он спасал и свою уверенность в победе, спасал свою надежду на будущее, спасал какую-то ценную основу собственной жизни.
С помощью двоих дюжих рабочих они поставили рояль на дощатую платформу небольшого, тряского грузовичка, забрались в кабину и поехали. Дорогой молчали, так как слов все равно не было бы слышно из-за шума, издаваемого мотором, общей тряски и дребезжания. Востряков непрестанно оглядывался, всматривался в заднее овальное окошко кабины – не попортится ли рояль. Инструмент резко мотало на поворотах, несколько раз с гулом, похожим на стон, он сильно ударялся о борта грузовика, видно было, что покрытая лаком поверхность будет в некоторых местах ободрана и поцарапана. Но радость от того, что рояль вообще не погибнет, заглушала опасения Вострякова.
– Ничего, – шептал он. – Покарябается – покрасим.
Дорога полого поднималась на невысокий голый холм, поросший выгоревшей на солнце травой. Отъехав на порядочное расстояние, Дунаев остановил машину, вылез. За ним последовал и Востряков. Завод отсюда был виден как на ладони – корпуса цехов, изгибающаяся ветка железной дороги, по которой тянулся, уходя за горизонт, специальный состав.
Востряков вынул из кармана пыльника полевой бинокль и карманные часы. Какое-то время они молча и неподвижно стояли рядом, потом парторг вскользь взглянул на часы и сказал:
– Через две минуты все взлетит на воздух.
Он приставил бинокль к глазам. Две минуты тянулись мучительно долго. Вострякову страшно хотелось отвернуться, но он не мог этого сделать. Наконец, не выдержав застывшего, увязшего времени, когда стало казаться, что эти две минуты будут тянуться вечно и завод не взорвется никогда, он все же отвернулся, и в этот момент невероятной силы взрыв уничтожил завод. Востряков еще успел увидеть оседающие стены и трубу, которая словно бы аккуратно складывалась в никуда. Грохот раздался, как это всегда бывает, с некоторым опозданием. Оглушенные, прижимая руки к голове, они побежали к машине.
…Дунаев вскочил на сиденье, завел мотор, рванул машину. Его темное лицо побледнело, брови еще ближе сошлись на переносице.
– Молодцы минеры! – крикнул он, перекрывая шум мотора. – Хорошо поработали!
Востряков ничего не ответил. Он сидел, вцепившись руками в сиденье, болезненно ощущая в своем теле, издали потрясенном взрывной волной, все толчки и удары, которыми в изобилии награждала их, покрытая колдобинами и ухабами, дорога. Парторг искоса взглянул на него.
– Ничего, парень, сейчас на Урале будем устраиваться, на новом месте. Хорошие там края. Ты небось там никогда не бывал, а я вот…
Они выехали на широкое невспаханное поле. Внезапно Востряков заметил впереди, в том месте, где поле переходило в лес, ряд каких-то темных предметов, которые быстро передвигались им навстречу.
– Владимир Петрович, смотрите, что это там?
Дунаев напряженно всмотрелся вперед.
– Тракторы, что ли?
– Откуда бы им здесь взяться…
Вдруг лицо Дунаева преобразилось, оно приняло выражение крайнего изумления.
– Блядь, это же немецкие танки! – крикнул он, глядя прямо перед собой широко раскрытыми, остановившимися глазами.
Он стал бешено крутить руль, заворачивая машину на полной скорости.
– Осторожно! – крикнул Востряков, однако было уже поздно. Дунаев не учел тяжести рояля и того обстоятельства, что он ничем не был закреплен в кузове. На повороте рояль съехал к борту кузова, надавив на него всей своей массой, машина накренилась, покачнулась и опрокинулась на обочину…
Когда Востряков и Дунаев выбрались из кабины, танки были уже гораздо ближе. Они передвигались, как казалось, с фантастической скоростью. Теперь уже можно было разглядеть отчетливые черные кресты с белой, обрамляющей их линией, изображенные на серо-зеленой броне. Мимо них по дороге, дребезжа и вихляясь, промчался запыленный грузовик. Люди, сидящие в грузовике, что-то кричали и размахивали руками. Они показывали им жестами, чтобы они догоняли их. Действительно, грузовик начал сбавлять скорость. Они побежали. Потом Вострякову много раз снилось в страшных сновидениях, как он бежит по неровной дороге к этому грузовику, бежит мучительно, с трудом отрывая ноги от земли, увязая в каждом своем движении. Но на самом деле тогда, в реальности, ему бежалось легко, стремительно, ему даже припомнилось на бегу выражение «окрыленные страхом», услышанное в одном из спектаклей или где-то прочитанное, – это был, и правда, своего рода полет. К тому же тогда он был молод, поджар и довольно мускулист. Он быстро приближался, обогнав бегущего почти вровень с ним Дунаева, к спасительному грузовику, схватился за протянутые ему руки, вскочил в кузов и сразу обернулся, чтобы помочь запыхавшемуся парторгу. Его протянутая рука уже почти коснулась руки Дунаева, но тут удар отбросил его немного назад, слева от грузовика в воздух поднялся столб земли и камней. Тут же затарахтели пулеметы. Грузовик рванул с места.
Востряков, свесившись через борт грузовика, пытался поймать протянутую ладонь Дунаева, однако расстояние между ними стало стремительно увеличиваться.
Люди, сидевшие в машине, что-то кричали, размахивали руками, торопили бегущего парторга, но быстрее бежать он уже не мог. Востряков видел, как на его напряженном лице выражение усилия постепенно сменяется проступающим выражением ужаса и отчаяния. Востряков стал судорожно колотить кулаками по железной крыше кабины. «Останови! Останови!» – кричал он. Парторг тоже заорал, причем орал он только одно слово; это было имя Вострякова:
– Саша! Сашенька!
– Владимир Петрович! Владимир Петрович! Я сейчас… – Тут два мужика схватили Вострякова и повалили на дно кузова, потому что он чуть не спрыгнул с грузовика. Востряков вырывался, орал что-то… Потом он в последний раз услышал далекий, как бы детский голос, зовущий его по имени: «Саша! Саша!» В последний раз увидел уже безнадежно отставшую от них, бегущую фигурку в развевающемся пыльнике, похожую издали на маленькую бумажку, несомую ветром. В следующий момент взметнувшийся на этом месте фонтан земли и пыли заслонил Дунаева навсегда. Востряков ничего уже не мог видеть сквозь слезы, потоком хлынувшие из глаз.
Этот случай очень тяжело повлиял на Вострякова. Потом, когда уже он работал на Урале, его постоянно мучили угрызения совести. Ему казалось, что это он виноват в гибели парторга. Он даже пришел в партийную организацию и заявил, что он, Востряков, «убил Дунаева» и поэтому должен быть арестован. Ему не поверили, тем более что нашлись и другие свидетели гибели Дунаева – люди, сидевшие в грузовике, один из которых был рабочим с этого же завода. Потом Востряков много раз просился на фронт, но и это не получилось – ему сказали, что здесь он нужнее, что он ценный специалист и его труд будет полезнее, чем его непосредственное участие в военных действиях с оружием в руках. «Ваш фронт – здесь», – сказали ему. Востряков остался на заводе и много, упорно работал. Жизнь была трудная, еды не хватало, тем более что Востряков все время делился своим пайком с той семьей, в доме которой его поселили. Однако трудности не пугали Вострякова, наоборот, они отвлекали его от тягостных раздумий, от болезненных внутренних ощущений. Характер его очень изменился. Он сделался мрачен, замкнут. Если раньше у него было много друзей, то теперь он ни с кем не общался. Сидя в компании знакомых, отмалчивался, глядел в пол и поскорее уходил к себе. Многие из тех, кто знал его раньше, ожидали, что на новом месте Востряков восстановит Дом культуры, снова будет вести активную общественную и культурно-просветительскую работу в комсомольской организации. Однако они ошиблись: Востряков заниматься этим категорически отказался. Все эти самодеятельные спектакли, вечера поэзии, кружки танцев, агитационные раёшники, которым он отдавал раньше столько сил и энергии, – все это теперь было ему отвратительно. Вскоре после окончания войны Вострякова арестовали. Сначала он попал в лагерь, где ему пришлось, как и другим, очень трудно. Какой-то уголовник даже попытался убить Вострякова, чем-то навлекшего на себя его гнев. От этого случая на шее у Вострякова остался шрам от ножа. Востряков сохранил свою жизнь по чистой случайности, да и то только потому, что уголовник был еще очень молод и неопытен: более опытный убийца, конечно, не оставил бы Вострякова в живых, полоснув его ножом по горлу. Однако в лагере он пробыл очень недолго. Скоро его перевели в закрытый научно-исследовательский институт, где работали заключенные, в так называемую «шарашку». На этой «шарашке» он проработал четыре года, познакомился там со многими учеными, увлекся исследовательской работой и, выйдя потом на свободу в 1955 году, продолжал заниматься наукой. Вместе с профессором Ромадиным и его помощником доцентом Пленом он принимал участие в основании Лесной лаборатории, выбирал место для ее постройки; сам, в числе других ученых, наблюдал за строительством. Защитил кандидатскую, а после и докторскую диссертацию. Однако выше по лестнице научных степеней, званий и должностей он не поднялся, оставив, в общем-то неоправданными те большие надежды, которые возлагали на него его старшие товарищи – ученые, особенно его учитель и давний друг Антон Юрьевич Плен, скончавшийся в 1963 году в звании члена-корреспондента Академии наук, удостоенный многих почетных наград за свою научную работу.
Незадолго до своей смерти академик Плен написал Вострякову письмо, в котором были такие строки:
…В нашем деле необходимы не только талант, интуиция, не только содержательное предвосхищение, не только доскональное знание дела и фундаментальное изучение всех более ранних стадий развития данной темы, всех предшествующих разработок, которые на сегодняшний взгляд могут показаться иногда даже несколько наивными, но и сознательное, а не стихийное, упорство, «мертвая хватка», способность к поистине атлетическому напряжению.
Для этого нужно обладать физической силой, выносливостью; поэтому я всегда такое внимание уделял физическим упражнениям, закаливанию, спорту. Думаю, Вы хорошо помните, как я окунался с головой в проруби на нашей речке близ лаборатории, в тридцатиградусный мороз. Помните, как я каждое утро бегал по лесным дорогам, играл в настольный теннис? Именно занятия спортом, выдержка и требовательность к себе, доходившая порой до жестокости, но никогда не переходившая границы разумного, а также соблюдение диеты позволили мне дожить до преклонного возраста, не потеряв рабочей формы, и сделать то, что я сделал.
Саша, я пишу это, конечно, не ради самовосхваления, а для того, чтобы обратить Ваше внимание на вещи, которые лишь на поверхностный взгляд могут казаться незначительными, а на деле же именно они, узловые компоненты, составляющие технику житейского осуществления, и являются важнейшим, центральным инструментом нашей работы. Пренебрегать ими по меньшей мере бессмысленно.
У Вас есть все данные для того, чтобы реализовать свои способности, стать выдающимся ученым. Поэтому обратите внимание на мои слова. Высылаю Вам несколько переведенных мной работ по диетологии, вышедших на английском языке, а также отрывки из книги «Чтобы жить вечно», которые я сам выписал и перевел для Вас. Вы знаете, как я к Вам всегда относился. Сохраняю это отношение и по сей день.
Ваш А. Ю. Плен
Востряков получил это письмо в разгар своей очередной депрессии. Он мог только подивиться проницательности своего учителя, каким-то образом угадавшего или почувствовавшего упадок его сил, общую подавленность и некоторое затухание интереса к работе. Сам Плен был к тому времени уже очень стар и постоянно жил в Москве, редко наведываясь в Лесную лабораторию. После отъезда Плена в Москву на роль его преемника на посту заведующего лабораторией одно время прочили Вострякова, но поскольку тот не проявил достаточной для этого активности и не предпринял тех многочисленных усилий, которые необходимо было предпринять, место это занял другой человек, впрочем вполне достойный, серьезный ученый, пользовавшийся уважением и самого Вострякова, и других сотрудников. Для Вострякова же это время стало временем особенно сильного возрождения его старых мучений, связанных с гибелью парторга Дунаева. Никто об этом не знал, сам Востряков ни с кем не говорил на эту тему, но жившее в его душе убеждение, что он является убийцей парторга, не только не погасло со временем, но, наоборот, еще более укрепилось.
Особенно мучили его сны. В семье, где родился Востряков, склонность к постоянным и очень ярким сновидениям передавалась из рода в род по материнской линии. Его бабка, которую он хорошо помнил, – простая, темная крестьянка, которая так и не смогла до конца привыкнуть к городской жизни, – рассказывала, что во сне она встречалась с монахами, святыми, генералами и людьми из других, очень далеких стран. Она утверждала, что в 1914 году предсказала начало войны. Тогда ей приснился человек в простом военном мундире, в железной каске, с усами. Он встал перед ней на колени и попросил у нее благословения. «Кто ты такой? – спросила она. – И почему ты просишь благословения у женщины?» «Я император Германии, – ответил тот, – и прошу благословения потому, что собираюсь причаститься крови святой Руси». Тогда она, во сне, сняла с себя свой нательный крестик и дала ему поцеловать его.
Мать Вострякова тоже часто видела сны. Однако, поскольку она была робкой и довольно забитой женщиной, у нее не хватало смелости встречать их так спокойно и холодно, как это делала деревенская бабка. Почти каждую ночь мать Вострякова вскрикивала во сне, охала, стонала и произносила какие-то невнятные обрывки фраз, но, в отличие от бабки, она никогда не рассказывала о своих сновидениях. Сам Востряков в детстве и юности тоже видел сны, они были разнообразные, иногда страшные, иногда запоминались, а иногда, наоборот, забывались сразу после пробуждения. Однако смерть парторга подействовала на Вострякова так сильно, что с тех пор снился ему почти исключительно только один день его жизни – тот самый день, когда взорвали завод.
В дневное время он, если только не был занят напряженной работой, постоянно вспоминал и перебирал события того дня вплоть до трагической гибели парторга. Ночью же все эти события вновь оживали, трансформировались, приобретали какое-то другое значение или приводили к неожиданным развязкам, иногда благополучным, дающим какой-то выход, какую-то возможность отменить нарастающую трагедию.
Иногда он просыпался в слезах от радости, что непоправимого не произошло, что все хорошо кончилось, но, убедившись, что это всего только очередной сон, он угрюмо и обессиленно ронял голову на подушку и закрывал глаза, чтобы не видеть суровую и не имеющую выхода и утешений реальность.
В таких снах воспроизведенный в мельчайших деталях антураж обреченного завода был освещен каким-то особенно ласковым, неправдоподобно мягким, золотистым, прозрачным светом – уже сама по себе ласкающая теплота этих косых, длинных, солнечных лучей, которых на самом деле не было, создавала ощущение приподнятости, эйфории, даже какой-то неги. Герой этого сна – воздушный и радостный и чуть-чуть лживый слепок Вострякова – легко и стремительно передвигался по заводу, входил в зал Дома культуры и рассматривал все там происходящее без всякого сожаления, спокойно. Потом он встречал Дунаева, подплывал к нему в просвеченном теплым солнцем воздухе и уговаривал не откладывать отъезд; они вместе садились в поезд, и он уходил за горизонт, утопая в щедром изобилии всеобщего праздничного свечения, и они с Дунаевым и другими их общими друзьями и знакомыми, сотрудниками завода, сидели вместе в купе, перекусывали, мирно о чем-то разговаривали.
Конечно, где-то на периферии подобных снов, где-то в их затаенных уголках сохранилось воспоминание о реальных событиях, и их недосказанность делала эйфорию ненастоящей, придавала оттенок горечи этому счастью.
Другие сны начинались похожим образом, тоже все было хорошо и приятно, но, наталкиваясь на первое же препятствие, все начинало разваливаться: например, они с Дунаевым, заговорившись о чем-то, увлекшись каким-то спором (довольно отвлеченным, но удивительно вязким), опаздывали на поезд, он медленно уходил без них, и дальше они начинали, с постоянно нарастающей мучительностью, скитаться по территории завода, зная, что он вот-вот должен взлететь на воздух, но никак не будучи в силах его покинуть.
В многочисленных вариантах этого сна Дунаев успевал уехать и Востряков оставался на заводе один, или же Дунаев падал на территории завода в какую-то яму, и надо было его срочно вытащить, но ни сил, ни времени для этого у Вострякова уже не оставалось. В любом случае подобные сны заканчивались тягостным ожиданием взрыва и смерти, которая должна произойти каждую секунду, но почему-то все не происходит и не происходит. Востряков, или Востряков с парторгом, или даже целая группа людей томились и скучали в пустующих цехах, смотрели на часы и спрашивали друг друга: «Когда же мы умрем?», «Долго еще ждать?» Это продолжалось до тех пор, пока кого-то не озаряла мысль, что надо спасаться, что, быть может, еще не все потеряно. Тогда, как будто дождавшись появления этой безумной энергии, направленной на спасение, завод наконец взрывался, он взрывался медленно и вяло, многотонные куски стен и труб падали на людей, но сам Востряков к этому времени уже понимал, что спит, он уже не боялся погибнуть на заминированном заводе, а всего лишь опасался увидеть во сне что-нибудь особенно неприятное.
Но предметом, вызывающим его крайнюю ненависть, страх и отвращение, были даже не падающие трубы, даже не немецкие танки (которые тоже нередко беспокоили его своим гулом и приближением), а белый рояль, из-за которого, по убеждению Вострякова, он и убил парторга, принеся его в жертву своему пристрастию к этому холодному, гладкому предмету.
Однажды, когда Востряков был на «шарашке», ему приснилось, что он возвращается после войны туда, на место, где был завод, чтобы найти свой рояль и уничтожить его. Ему приснился рояль с головой Сталина, стоящий на дне огромной черной воронки, которая якобы осталась на месте завода. Он долго спускался туда, увязая в кучах черной, рыхлой земли. Вокруг воронки, до самого горизонта, расстилалось темное поле, покрытое искореженными обломками. Небо было мрачное, пасмурное. Он приблизился к чистому, белоснежному кентавру – ненависть душила его, ему хотелось отомстить за парторга этому холодному изваянию, изумительному по своей красоте, отомстить и тем самым смыть с себя вину. Он пошарил в карманах, в поисках какого-нибудь режущего предмета, но нашел только тонкую стеклянную пробирку. Сломав эту пробирку пополам, он стал острым зазубренным краем ее царапать поверхность рояля. В этот момент он услышал стон и увидел, что царапины наполняются темно-красной кровью, которая струйками начинает стекать вниз по лакированной поверхности. В то же время на белой и как бы гипсовой голове Сталина поднялись медленно веки и в лицо Вострякову взглянули темные, человеческие глаза, наполненные болью. В ужасе Востряков начал зажимать раны руками, но теплая кровь безостановочно струилась у него между пальцами, капала на землю, струйками текла ему в рукава. Через несколько дней после этого сна объявили о смерти Сталина. Вострякову не первый раз снились сны, которые можно было бы назвать «вещими».
После окончания войны Востряков, приехав в Москву с Урала, разыскал вдову Дунаева, которая жила в Москве с маленькой дочерью. Ольга Семеновна, уже немолодая, полная и болезненная женщина, работала учительницей музыки в музыкальной школе. Со смертью мужа она осталась совершенно одна, у нее не было ни родственников, ни знакомых. В сорок втором году она, с новорожденной дочерью на руках, была эвакуирована в Казахстан. Затем она вернулась в Москву.
Востряков знал, что у парторга осталась в Москве беременная жена, и это обстоятельство, конечно, еще усугубляло мучавшие его угрызения совести. Он нашел их с трудом, в маленькой убогой комнате в коммунальной квартире. Представился как близкий друг погибшего мужа. Стал навещать, помогать деньгами. Вскоре, однако, необходимость в этой помощи отпала: Дунаева получила большую пенсию за убитого мужа, получили они и более удобные жилищные условия. Востряков постепенно навещал их все реже и реже, тем более что Ольга Семеновна никогда не проявляла при виде него особой радости. Она была подозрительной и брезгливой женщиной, ей не совсем понятен был этот невысокий, угрюмый человек. Вскоре Вострякова арестовали.
Выйдя на свободу, он узнал, что Ольга Семеновна уже два года как умерла от сердечной недостаточности, а дочка ее Сашенька находится в детском доме. Устроившись работать, Востряков взял девочку к себе, тем более что они подружились еще до его ареста – он часто дарил ей цветные карандаши, ластики или еще какие-нибудь приятные мелочи.
Он женился и скоро с женой и приемной дочерью поселился вблизи от Лесной лаборатории, где работал, бывая в Москве лишь наездами.
Сашенька Дунаева сначала ходила в сельскую школу, а потом стала посещать специальную школу для детей сотрудников лаборатории, построенную в «ученой деревне».
Это была смышленая, покладистая девочка, наделенная спокойным, уживчивым характером. Она с легкостью вошла в чужую для нее семью, привязалась к супругам Востряковым, да и они полюбили ее – Саша заменила им родную дочь.
Тем не менее, не подозревая о том, она служила для Вострякова источником немалых страданий: ее лицо, жесты, даже манера говорить слишком живо напоминали ему покойного Дунаева и тем самым постоянно растравляли рану его души, еще глубже и прочнее увязывали его с прошлым, затягивали в угрюмые лабиринты воспоминаний. Как будто бы сам Дунаев ежедневно маячил перед ним в образе девочки: пил молоко, смеялся, делал уроки, гладил утюгом свой пионерский галстук, играл в классики на нагретом весенним солнцем асфальте, проворно прыгал через скакалку. «Дядя Саша» – так называла его приемная дочь – угрюмо смотрел на девочку. Он был неизменно заботлив и добр по отношению к ней, но внутренне осознавал достаточно ясно, что, хотя она с каждым днем растет и крепнет, для него она становится все прозрачнее и прозрачнее во всех своих проявлениях и все более отчетливым и материальным становится ее покойный отец. Жена Вострякова Нина часто замечала, каким странно-задумчивым, невеселым взглядом смотрит ее муж на ребенка, но она не знала и не могла догадаться, что мысленно он видит парторга в широком пыльнике, с мерцающим окурком в углу рта.
Все слова, произнесенные парторгом в тот роковой день, наполнялись для Вострякова каким-то особым значением, постоянно вспоминались ему. Но особенно часто, кстати и некстати, к нему приходили и мучительно притягивали к себе его внимание слова Дунаева: «Немцы, ебать их в четыре жопы…» Это и неудивительно: матерное ругательство, да еще произнесенное с чувством, ругательство, в которое покойный Дунаев вложил, как в краткую и сильную формулу, всю свою ненависть к врагам, естественно выделялось на фоне других словосочетаний, невольно выдвигалось на первый план. К тому же оно заключало в себе элемент загадочности и тайны, что несказанно усиливало мучительную акустику его звучания. Эта загадочность заключалась в числе четыре. «Почему четыре?» – часто спрашивал Востряков сам себя, сознавая одновременно всю нелепость и бессмысленность этого вопроса. Эти четыре жопы мучили его чрезвычайно, вскоре они даже приснились ему: они принадлежали четырем немцам, четырем огромным арийским юношам, которые были совершенно нагие и совершенно прозрачные, как бы отлитые из стекла. «Эсэсовцы», – подумал про себя Востряков. Внезапно появился Дунаев, веселый, брутальный и оживленный. «Сейчас ебать их буду», – подмигнул он Вострякову. Во сне Вострякова поразило не то, что Дунаев собирается совершить гомосексуальный акт, а то, что он собирается ебать четырех одновременно. И действительно, парторг расстегнул ширинку, и Востряков с изумлением увидел, что у него не один хуй, а четыре, торчащие в разные стороны. Хохоча и сопя, Дунаев стал совокупляться с четырьмя стеклянными эсэсовцами. Поскольку тела их были прозрачны, то внутри них отчетливо видны были хуи парторга. Вострякова охватило омерзение, он заставил себя проснуться ценой мучительного усилия. Последнее, что он услышал во сне, были слова Дунаева: «Вот так это делаем мы, коммунисты». Востряков сел на кровати, пытаясь стряхнуть с себя тяжелое впечатление, оставленное увиденным сном. Ему казалось, что этот сон оскорбляет память человека, трагически погибшего по его вине. Ему казалось, что он не только убил Дунаева, но продолжает издеваться над мертвым.
Одетый в полосатую пижаму, Востряков прошел босиком на кухню, вынул из холодильника банку с компотом, налил себе в чашку и сел за стол. Ароматный, холодный компот из сухофруктов, сваренный его женой Ниной, несколько погасил ощущение гадливости. Уже немного успокоившись, он продолжал размышлять о значении числа четыре. Ему даже пришло в голову, что слова Дунаева были своего рода предсказанием, что, может быть, четыре жопы означают четыре года войны, а четыре хуя, увиденные им во сне, быть может, соответствуют четырем фронтам.
Востряков стал принимать лекарства. Они подарили ему несколько спокойных ночей без сновидений, но потом он вновь увидел чудовищный сон – длинный, длящийся как будто целую вечность. На этот раз он был сосредоточен на собственных словах, которые шептал, когда они с Дунаевым везли рояль в грузовике. Это были слова: «Покарябается – покрасим». Тогда они относились к роялю, но во сне, в фокусе очередного смещения, они стали относиться к трупу Дунаева. Востряков во сне был опять молод, энергичен, как в давние времена комсомольского задора. Он заражал всех бодростью и энергией, с огоньком и шутками собирал какие-то группы людей, что-то вроде экспедиции. С песнями, держа в руках букеты цветов, повязанные развевающимися лентами, они двинулись на то место, где погиб Дунаев. Под внешней веселостью у всех сквозило сознание стоящей перед ними трудной и, в общем-то, страшной задачи. Они должны были найти останки парторга и что-то с ними сделать, каким-то образом придать трупу вид живого. Востряков объявил всем, что парторг должен воскреснуть, а для этого нужно было восстановить его тело – жизнь не могла вернуться в разрозненные части или в труп, находящийся в плохом состоянии. Они действительно нашли труп и долго с ним возились. Вострякову показалось, что прошло несколько дней, заполненных этой постоянно увязающей, тягостной работой. Они красили его, подбирали одежду. Все это затягивалось, дело валилось из рук, многих частей не хватало. Пришлось организовать поиски одной ступни, которую взрывом отбросило на большое расстояние. Наконец ее нашли. К назначенному сроку тело было приведено в более или менее сносное состояние, хотя Востряков ощущал недостаточность этого, но сделать он ничего не мог: каждого участника приходилось принуждать и подталкивать, работали все с трудом, женщин и молодых девушек часто тошнило. В день, когда должно было произойти воскресение, все собрались возле трупа, празднично одетые, с барабанами, тарелками, полными еды, предназначенной для того, чтобы накормить вернувшегося. Многие держали горящие свечи, хотя дело было днем. Дунаев стал медленно оживать, шевелиться. Он долго не мог открыть глаза, потом долго не мог встать. Востряков помог ему подняться, и они вместе пошли к заводу: парторг тяжело опирался ему на плечо, идти он почти не мог и постоянно жаловался, что тело плохо восстановлено. Пресекающимся, полумертвым голосом он сказал: «Саша, это была такая редкая возможность, почти единственная, и ты даже не мог позаботиться, чтобы тело привели в порядок. Теперь я буду инвалидом». Его глаза, устремленные на Вострякова, были полны укора, настолько сильного, что Востряков не смог вынести этого взгляда.
Проснулся Востряков в тяжелом депрессивном состоянии. Он оделся, вышел на кухню. Его жена ушла на работу, а приемная дочь сидела за столом и завтракала: какао и хлеб с медом. Ей было уже шестнадцать лет. Она приветливо, по своему обыкновению, пожелала ему доброго утра, произнесла несколько незначительных бытовых фраз, а потом сказала совершенно спокойно:
– Мой папа не умер. Он жив.
Востряков хотел что-то сказать, но промолчал. Походил по комнате, переставил несколько предметов, налил себе в чашку чай, намазал хлеб маслом. Затем спросил, пристально глядя на девочку:
– Почему ты так думаешь?
– Потому что сегодня я получила от него письмо, – ответила Саша.
Она расстегнула свой школьный портфель и вынула из него конверт. Востряков прочел письмо; оно было написано на помятом обрывке бумаги, карандашом.
Доченька.
Я не погиб мне удалось пережить войну. Я живу далеко от тебя но думаю всегда о моей Сашеньке. Твое имя я призывал когда мне было тяжело когда был на пороге смерти и оно спасало меня. Дочурка моя, знай – твой папа жив. Твой папа стал волшебником многое пришлось пережить но в письме обо всем не расскажешь. зато я могу многое и всегда все знаю про тебя знаю что тебе хорошо. издали я охраняю тебя, Саша. не ищи меня учись на пятерки и не проси в своих молитвах упокоить мою душу, потому что я не мертвец. Скоро напишу еще.
Твой папа
Почерк был неровный, сильный и корявый. Вострякову было страшно читать это письмо, ему казалось, что этот мягкий, истрепанный кусочек бумаги причиняет ему боль. Потом он опомнился: письмо представилось ему только лишь склизкой и отвратительной фантазией какого-то психопата. Он брезгливо отодвинул от себя бумажку и конверт. На конверте вместо обратного адреса были неразборчивые каракули, но адрес Востряковых был написан крупным, отчетливым почерком. Почерка парторга Востряков не помнил, но постепенно ему стало ясно, что никто другой, кроме неизвестного ему маньяка, вряд ли мог быть автором письма. На шутку, даже самую жестокую и безумную, оно не походило. Оно было написано небрежно и достаточно искренне – в этом Востряков не сомневался, это ему подсказывала интуиция. Однако неумелая пунктуация, пропуск многочисленных запятых и некоторые обороты успокаивали его. В частности, парторг, насколько его знал Востряков, никогда не стал бы писать о молитвах: он был убежденный атеист. Единственные слова, которые существенно кольнули Вострякова, были: «Твое имя я призывал когда мне было тяжело когда был по пороге смерти…» Анализируя этот текст, он мгновенно, с оттенком судорожности, вспомнил, что Дунаев перед смертью кричал: «Саша! Сашенька!» – тогда Востряков отнес этот призыв к себе, но могло быть и так, что Дунаев в последние минуты жизни вспомнил о дочери, о существе, которое любил больше всего.
Но тут же Востряков остановил себя: к моменту гибели Дунаева девочки еще не было на свете – Ольга Семеновна тогда находилась только на втором месяце беременности. Тем не менее письмо очень тяжело повлияло на Вострякова. Он понимал, что если сны и размышления являются его личным делом, замкнутым в пределах его сознания, то выход этой опасной фиксации на личности убитого Дунаева во внешний мир, в область мыслей и поступков других людей, значительно усугубляет тяжесть его положения.
Когда пришло второе, а потом и третье письмо, он стал принимать сильные успокаивающие средства. Сашенька внимательно читала письма, складывала их в специальную коробочку из-под куклы, даже показывала своим подругам. Вострякову казалось, что эта шестнадцатилетняя, уже почти взрослая девушка проявляет малолетнюю наивность, не сомневаясь в подлинности этих писем, считая, что ее папа действительно жив. Но сказать он ей ничего не мог, он старался вообще не говорить на эту тему. Правда, однажды он спросил Сашеньку, пытаясь изобразить улыбку:
– И что же ты, Сашенька, веришь, что твой папа действительно стал волшебником?
– Ну что вы, дядя Саша, это просто шутка, – рассмеялась девочка.
Между тем письма продолжали приходить, и в них опять поднималась тема волшебства.
«…Детонька, ты уже не маленькая поэтому должна знать что я волшебник. Это трудная работа и крест но уйти от этого уже нельзя хотя бы знаю что могу на расстоянии заботиться о тебе, доченька моя. Люби тех людей у кого живешь, а если тебе станет трудно позови меня мысленно – я никогда не откажу тебе, всегда услышу мою Сашеньку…»
Востряков с трепетом читал каждое новое письмо, тем более что Сашенька охотно показывала их ему. Он каждый раз искал в них каких-нибудь крошечных, но ошеломляющих деталей, которые могли быть известны только ему и Дунаеву. Но этого он не находил, да, может быть, и не существовало таких деталей.
Одурманенный таблетками, он по-прежнему каждое утро отправлялся в лабораторию, запирался в своем сарайчике, который сам же для себя построил в самом начале строительства лаборатории. Однако там он почти ничего не делал. Поработав немного, он застывал в неподвижной позе, сидя на жестком стуле, устремив взгляд в окно на мирные сосны, освещенные солнцем. Иногда он засыпал. К вечеру ему становилось хуже, ощущение зыбкости и тоски усиливалось. Это ощущение не снимала и таблетка, которую он старательно принимал и запивал стаканом теплой воды.
Нина замечала, что муж находится в плохом состоянии, переживала. Она даже предложила отнести письма в милицию, но Востряков только отмахнулся.
– Зачем огорчать девочку? – сказал он. – Она верит…
На самом деле у него уже не было ни смелости, ни сил для каких бы то ни было действий.
В этом состоянии глубокого упадка и застало его письмо А. Ю. Плена. Сперва он прочел его механически, не проникая за поверхность слов, не ощущая ничего, кроме благодарности за оказанное внимание. Но потом он задумался, вник в написанное и постепенно почувствовал справедливость высказываний учителя, почувствовал, что его старший товарищ указывает ему путь, который можно считать более надежным, чем другие. Не в первый раз Антон Юрьевич протягивал ему руку помощи.
Они познакомились на «шарашке», где этот волевой и сосредоточенный человек, видный ученый, многому научил Вострякова, причем не только в научной области, но и в области житейской: он советовал ему, как надо разговаривать с начальством, чтобы не терять собственного достоинства и в то же время не навлекать на себя гнев и неприятности, как надо вести себя, чтобы не только пережить время заключения, но и плодотворно использовать его для своего умственного и нравственного развития, для своей работы. Потом, после освобождения, Антон Юрьевич вовлек молодого специалиста в деятельность по основанию Лесной лаборатории, поручил проведение ряда интересных опытов, в чем Востряков добился немалого успеха. Хотя Востряков и не был самоучкой, все же его образование не являлось полным и кое-где обнаруживало прорехи и белые пятна: Антон Юрьевич Плен внимательно присматривался ко всем слабым местам своего подопечного, указывал ему направления, в которых он должен работать над собой, предоставлял множество специальной и иногда труднодоступной литературы.
Востряков углубился в чтение книг по диетологии, присланных Пленом, и постепенно читал со все возрастающим увлечением. Он бросил принимать таблетки, резко ограничил свое питание, исключил из него все острое и сладкое, прекратил употреблять дрожжевое тесто, соления, жареное мясо и котлеты. Стал по утрам обтираться, а потом принимать холодный душ. Его состояние улучшилось, в глазах появилась ясность, походка сделалась бодрой. Он научился плавать, и летом они все вместе ходили на реку купаться.
Однажды, ясным и теплым вечером, он заплыл довольно далеко, потом обернулся и издали посмотрел на берег. На пляже, освещенном косыми лучами заходящего солнца, пробивающимися из-за сосен и елей, сидели, лежали и двигались фигурки полуобнаженных людей. Издали они казались как бы позолоченными, окутанными покоем и мирной ленью. Он ясно различил свою жену, которая лежала на темно-синем полотенце, и стоящую рядом с ней Сашеньку. Он подумал, что жена его еще молода и хороша собой, что Сашенька за последние годы расцвела и превратилась в стройную, красивую девушку. Она только что вышла из воды и теперь вытирала вафельным полотенцем свое загорелое тело. «Она прекрасно сложена, и загар ей очень идет», – подумал Востряков о приемной дочери. Он увидел, что все детское и адское исчезло из ее внешности, а вместе с этим исчезло и сходство с Дунаевым. И тут, подумав о Дунаеве, Востряков понял, что все, терзавшее его, ушло из его души, что он больше не ощущает никакой вины, никакого отвращения. Он почувствовал, что воспоминание о том страшном дне, когда погиб Дунаев, больше не является для него ни ярким, ни существенным. Теперь ему было все равно, жив Дунаев или умер, был ли он атеистом или верующим. Он освободился от этих мыслей, похудел, стал более подвижным. Он также почувствовал уверенность, что письма от человека, называвшего себя отцом Сашеньки, больше приходить не будут. Действительно, так и случилось.
Обрадованный, он как-то даже совершил детскую шалость – написал концом зонтика на песке: «Над волшебниками не смеются и не плачут – их едят». Через несколько дней, проходя мимо этого места, он увидел, что надпись стерта, а на ее месте разбросаны какие-то объедки: огрызки яблок, куски хлеба, яичная скорлупа, кусочки колбасных шкурок.
Сашенька вскоре вышла замуж за сотрудника лаборатории, родила ребенка. Дочку молодые супруги назвали Наденькой. Поселились они в отдельном коттедже, неподалеку от дома Востряковых, и маленькая девочка часто прибегала к ним или приезжала по тропинке на трехколесном велосипеде, позванивая металлическим звонком.
С раннего детства Надя была очень самостоятельна. Она называла Вострякова и его жену Нину дедушкой и бабушкой и очень их любила. Востряков посмеивался, что, будучи еще совсем нестарым человеком, очутился в роли дедушки. Сам он тоже привязался к девочке, они с женой баловали ее, покупали ей игрушки, кормили сладостями, фруктами и другими вкусными вещами, порой забывая, что на самом деле она им никакая не внучка и кровно с ними никак не связана. Однако, не имея своих детей, они перенесли свою любовь на это существо, тем более что Наденька была хорошенькой, веселой, проказливой деткой, успешно завоевывающей симпатии большинства взрослых.
Так шли годы. Востряков продолжал работать в лаборатории, на карьеру он старался не тратить свои силы, но исследовательская деятельность снова увлекла его: он порой дневал и ночевал в своем сарайчике. Имя его стало известным в узком кругу специалистов, его работы и статьи печатались в научных журналах и переводились на многие языки. Сам он пользовался все большим авторитетом и уважением, хотя и не стремился занимать какие-то видные места. «Я кабинетный ученый, мало способный к общественной работе», – часто говорил он о себе. Тем не менее его нередко посылали за границу, где он участвовал в симпозиумах и конгрессах, выступал с докладами. Внешне он сильно изменился: облысел, отрастил густые усы и бородку, в которой обильно проступала седина. Поджарый, загорелый, в очках с темными стеклами, которые он носил почти постоянно, он одевался во все иностранное, носил хрустящие поролоновые куртки, красные или черные рубашки, швейцарские часы с пластмассовым ремешком. Наденька подросла. Незадолго до ее шестнадцатилетия ее родители уехали в Новосибирск по работе, и она перебралась к Востряковым. Нина Васильевна была рада, что девочка поживет с ними, но Востряков почувствовал некоторую тревогу.
Его интуиция не обманула его, но он не ожидал столь личного, столь неприятного события. Однажды утром Наденька протянула ему помятый конверт. Востряков вынул из конверта письмо, развернул его и прочел:
Дорогая внучка!
Тебе пишет твой дедушка, которого ты никогда не видела. Тебе сказали что я погиб на войне, но это не правда. Я живу очень далеко от тебя, совсем в другом конце нашей страны, но я все про тебя знаю, постоянно думаю про тебя. Внученька, я не простой человек, я волшебник. Тебе на днях исполнится 16 лет, ты уже почти взрослая потому думай обо мне а если же тебе плохо или что-то очень нужно только прошепчи дедушке он услышит тебя. Кто же поможет тебе, Наденька, как не родной дедушка. Это хорошо что ты Надя, Надежда. Ты Надежда моя. Рано или поздно мы встретимся и я научу тебя чудесам, чтобы ты все знала чтобы, когда я умру, вместо меня охраняла твою жизнь и детей твоих. А пока старайся, учись на пятерки. Скоро жди еще весточки.
Твой деда Вова
Востряков отнес письмо в свою комнату, положил на письменный стол. Долго ходил по кабинету, подходил к окну, задумчиво глядел на заснеженные ели (дело было зимой), постукивал пальцами по стеклу. Хотел даже сесть и написать в Новосибирск, но удержал себя от этого проявления слабости. Он подошел к шкафу, выдвинул нижний ящик, вынул из него несколько пухлых папок и, наконец, розовую коробочку из-под куклы, перевязанную шелковой лентой. Там лежали чуть-чуть пожелтевшие и обветшалые письма: он перечитал их, сравнил почерк. Написано было, без сомнения, одной и той же рукой, хотя почерк за прошедшие годы стал более дряблым, слабым, старческим. Востряков сопоставил, что и Сашенька, и ее дочка Наденька начали получать письма в канун своего шестнадцатилетия: возможно, здесь действовал сексуальный маньяк, которому нравились девочки именно этого возраста. Но это постоянство и осведомленность, это слово «волшебник», представлявшееся Вострякову слащавым и отвратительным, более отвратительным, чем слова «пердун» или «педераст».
Ему не хотелось размышлять об этом, снова погружаться в мучительные ощущения минувших лет, но он понимал, что дело это серьезное. Он ощущал свою ответственность за Наденьку, которую он взял на себя с отъездом ее родителей. Слова «рано или поздно мы встретимся» навевали мысль об угрожающей девочке опасности.
«…Скоро жди еще весточки…» – прочитал Востряков вслух и решил, что если придет еще одно такое письмо, то ему не останется другой возможности, как отнести все эти письма в милицию.
Но пришло и второе, и третье, и четвертое письмо, а Востряков все никак не мог решиться на этот поступок. Как будто что-то удерживало его. Он снова помрачнел, стал вялым и раздражительным. Особенно невзлюбил он утреннее время, когда обычно приходили письма. Встав с постели, он нервничал, хмурился, ожидая, не скажет ли Наденька о новом письме. Если письма не было, он немного успокаивался, но по дороге на работу его мысли упорно возвращались к этой неразрешенной ситуации. Он неторопливо шел по лесной дороге: равномерная ходьба, свежий утренний воздух, ласковый шорох леса словно бы старались разогнать его заботы и тяготы, но забыть о муторной, неясной реальности писем было невозможно. Востряков ежился от бодрящего ветерка, в его темных очках солнечные лучи представлялись ему чуть коричневатыми, он думал о существовании людей с поврежденным рассудком, об извращенцах, сохраняющих до глубокой старости безумный, изнурительный и таинственный пыл своих страстей. Он думал об общем космическом бесправии, о множестве слоев, которыми вынуждено продвигаться человеческое сознание на пути своего маразмирования. Он думал о выражении «выплакать все свои слезы» и о том, действительно ли наступает предел слезам, если безутешно рыдать долгое время.
Наконец, почти на полпути по направлению к лаборатории, он увидел далеко впереди высокий и еще не совсем ясный силуэт Тарковского, который медленно шел к нему навстречу, задумчиво опустив к земле свое белое лицо.
Часть вторая. Ортодоксальная избушка
Глава 1
Немые старшины
Лесная поляна была до краев наполнена туманом, который волокнистыми слоями поднимался из сырого, заболоченного овражка, заросшего густым кустарником. С одной стороны поляны стеной возвышался сумрачный лес, с другой стороны деревья редели, неуверенно расступались, и между ними просвечивало перепаханное поле, по которому также стлался туман.
Над болотом звенела невидимая мошкара, в глубине леса гулко и невнятно восклицала ночная птица, но эти звуки таяли и глохли в тумане, растворяясь в непроницаемой ватной тишине.
Только следы, оставленные гусеницами танков, поломанные деревья, вмятый в землю кустарник по обеим сторонам лесной дороги свидетельствовали о том, что и по этим местам только что прокатилась война.
Глубоко вдавленные в землю следы гусениц уходили в поле, разветвляясь во все стороны от дороги, которую, впрочем, трудно было разглядеть. Только далеко, примерно посередине поля, белел среди волокон тумана какой-то предмет.
Это был рояль. Возле него на боку лежал опрокинутый грузовик, а посреди дороги виднелось полузасыпанное землей человеческое тело в широком белом пыльнике.
Парторг Дунаев очнулся уже тогда, когда все поле покрылось белым одеялом тумана. Он пошевелился, стряхнул с себя землю. Затем попытался привстать, но не смог и обессиленно прошептал несколько матерных слов. Сознание его было затуманено, в голове бродили бессвязные мутные мысли.
«Я плакал, – подумал он, проводя рукой по своему лицу, мокрому от тумана. – Я долго плакал».
Он пополз куда-то на четвереньках, но быстро увяз в куче влажной, рыхлой земли, разбросанной вокруг небольшой воронки от снаряда. При этом он заметил, что, пока он находился без сознания, его организм каким-то образом освободился от того, что отягощало желудок, и теперь остывший кал медленно сползал по его ногам. С большим усилием он расстегнул брюки и достал кал, оказавшийся довольно плотным и компактным.
«Вот, блядь, таких навозных жуков не бывает…» – подумал он.
Положив кал на землю, парторг заметил, что выделения имеют форму, отдаленно напоминающую зайчика. Зачем-то он несколькими движениями пальцев сделал это сходство еще более очевидным: заострил ушки, вылепил хвостик, имевший вид отдельного комочка. Кончиками пальцев выдавил углубление, которое должно было обозначать глаз. Потом он окружил «зайчика» одинаковыми кучками земли, создав ему как бы некую рамку, которая должна была защищать его.
Трудно сказать, почему Дунаев поступил так. Должно быть, он бессознательно считал себя погибшим (хотя мыслей такого рода у него не возникало) и вел себя соответствующим образом. Действительно, полная тишина и густой туман, поглотивший все звуки и зрительные образы, создавали впечатление спустившейся небесной мякоти, плотно слипшейся с земляным слоем. Но назвать этот мир потусторонним у Дунаева недоставало сил. Организм его перенес чудовищное потрясение; Дунаев, видимо, был контужен.
Немного полежав на земле, он ощутил холод. Он снова попытался встать, но упал на четвереньки и пополз в тумане. Вскоре он увидел прямо перед собой большой белый предмет. Он протянул руку и нащупал педаль рояля. Стоя на коленях, он раскрыл крышку и заиграл. Играть в таком положении было трудно, ему пришлось упереться головой в холодную, покрытую капельками влаги поверхность рояля, но играл он тем не менее хорошо. Не глядя на клавиши, он бегло исполнял знакомые ему мелодии: вальсы, танго, мотивы песенок, популярных в пору его юности.
Дунаев родился в деревне, но семья вскоре переселилась в город. Отец его работал на фабрике, но старшая сестра прислуживала в горничных в одной дворянской семье. Маленький Володя вечно околачивался в большой, хорошо обставленной квартире Рязанцевых. Каждый день девочки Рязанцевых Неля и Оля упражнялись на рояле под руководством учителя музыки Карцева – чудака и балагура, известного своей неловкостью, своей поразительной неуклюжестью, но также и благодушием. Больше всего Карцев любил сушеные фрукты. Поэтому, когда он приходил, оставляя в прихожей свои галоши, кухарка наполняла белое фарфоровое блюдо сморщенными черными грушами, курагой, яблоками и черносливом и отправляла Володю Дунаева с этим блюдом в гостиную.
Заметив как-то, что мальчик проявляет интерес к музыке, демократ Карцев разрешил ему присутствовать на уроках. Так Дунаев научился играть. Кто бы мог подумать во время этих уроков, когда солнце проникало в окна сквозь прозрачные тюлевые занавески и белые платья девочек словно бы светились в полутемной гостиной, а учитель Карцев строил смешные гримасы и запускал руку в вазу с фруктами, кто бы мог предположить тогда, что младшая из сестер, Оля, выйдет замуж за Дунаева, что старшая сестра, Нелли, выйдет замуж за офицера и уедет с ним за границу, что Карцев через несколько лет умрет?
Впрочем, Дунаев никогда не играл особенно хорошо. Иногда на вечеринках, когда собравшиеся молодые люди хотели потанцевать, он с легкостью наигрывал модные в ту пору мелодии. Но сейчас, оставленный на произвол судьбы, переживающий полузабвение, воспринимающий все свои ощущения как сон или же как тусклые и невзрачные проявления собственной смерти, на которых не следовало сосредоточиваться, он играл замечательно, или же ему так только казалось. Звуки были глухие, пресные, они падали в туман и гасли в нем, отчего парторгу было особенно приятно играть – так бывает иногда приятно шептать простые повседневные фразы, уткнувшись лицом в подушку.
Ему казалось, что каловый зайчик, созданный им, ожил и подошел к его ноге, чтобы лучше слышать музыку. Он опустил руку, пытаясь погладить его, но ничего не нашел. Ему пришлось поднять лицо, и тут он увидел, что возле рояля стоят два человека.
Один из них слушал музыку, наклонившись вперед, облокотившись о крышку рояля. Другой стоял, глядя себе под ноги. Оба были в военной форме. Дунаев наконец встал в полный рост, держась руками за рояль, и присмотрелся к нашивкам в летнем ночном свете.
– Вы старшины? – наконец спросил он слегка заплетающимся языком.
Оба незнакомца кивнули.
Дунаев с горечью усмехнулся.
– Что же теперь делать будем, товарищи? Оладьи печь? Ботинки разнашивать?
Старшины молчали.
– Накрыться пиздой и детскую кашу варить? – продолжал Дунаев. – В тылу у немцев спать ебицким сном? Я чуть было не погиб. Нет, уж лучше идти куда глаза глядят. Или вы предлагаете поступать так, чтобы потом о нас сказали обманутые нами враги: не было лучших рабов? Да? Так, что ли?
Старшины молчали.
– Или, может быть, уже не обуздывать этого бесстыдства? Присутствовать при пытках и казнях преступников? Ходить ночью, в парике и длинном платье, по притонам и публичным домам, принимать живое участие в кощунственных сценических представлениях, в танце и пении? Нет, этот вариант не для меня.
Старшины продолжали молчать.
– Я коммунист. Конечно, я знаю, что положение наше с вами не из легких. Но наш долг – продолжать сражаться и здесь, в тылу. Вы люди военные, вам виднее, как именно следует перемещаться, мне трудно говорить об этом. Знаете ли вы местность?
Один из военных кивнул.
– Немцы должны быть где-то неподалеку, – продолжал говорить Дунаев, борясь с полуобморочным состоянием. – Передовые части врага, должно быть, продвинулись уже на значительное расстояние. Но… – Он запнулся, заметив странное, отсутствующее выражение лица одного из старшин.
Старшины молчали.
– Умирая, знать о том, что ничего особенного не происходит и мир не теряет в твоем лице ни великого артиста, ни великого воина? И последние слова чтобы звучали тускло, не как золото или сталь, а как эмалированная кастрюля, по которой стучит алюминиевой ложкой слепой раб? Да?
Старшины продолжали упорствовать в своем молчании.
– Смотреть на буйство пламени и аплодировать крикам горящих кошек? Нежность прятать про запас, совесть оставлять врагам, честность оставлять на черный день?
Дунаев хотел сильно ударить по клавишам рояля, чтобы резким звуком вспугнуть свое помутненное состояние, но его рука с растопыренными пальцами промахнулась и ударила по колену, издав тихий влажный шлепок. Штанина была мокрая. Старшины, почти невидимые в темноте, стали смотреть ему на ноги.
– Даже если война – пустяки или игрушка, – снова заговорил парторг, – это, ебаный колотун, не значит, что можно плюнуть на победу. Иногда дарили Родине морские водоросли или просто сучья да ветки, а она не давилась. А теперь что? По-вашему, это что – простые перетрясы? Это ни хуя не шуточки… это смертельный натиск… – Парторгу стало труднее говорить, он почувствовал резкую боль в голове. – Даже если усталость или обида не позволят… наше дело теперь – партизанить!
Ему наконец удалось выговорить ту фразу, которую он пытался составить в уме и произнести с самого начала.
Старшины молчали.
– Партизаны! Вы понимаете? Партизаны!
Старшины не произносили ни звука.
Дунаев неудачно плюнул на землю (все, что он теперь делал или говорил, было несовершенным, нелепым, ватно-потусторонним). В его сознании возникли слова, вызывающие почему-то невыносимый стыд: «Мой язык погиб».
Мелькнул образ отдельного, мертвого языка («Словно бы у животного», – подумал Дунаев), которого хоронили, как героя.
«Как героя! Как героя!» – шептали губы.
– Вы как знаете, – вдруг устало сказал парторг (и это неожиданно прозвучало почти по-человечески), – а я иду в лес.
И зачем-то прибавил: «Лесное! Лесное!» И повертел перед старшинами растопыренными пальцами, как будто он говорил с идиотами или иностранцами.
Старшины молчали и больше не шевелились. Может быть, души их отошли.
Парторг прошел между ними, не задев ни одного, и побрел к лесу, черневшему впереди плотной полосой.
Глава 2
Лисонька
Под ногами был мох. Дунаев остановился под елкой. Он держал в руке гриб и собирался рассмотреть его внимательно, чтобы узнать, можно ли его съесть. Однако что-то отвлекало его. Что-то светлое мелькало в стороне сквозь черную чащу.
Кто-то потерся о его колени.
«А, лисонька…» – расслабленно воскликнул парторг.
Животное было небольшим, грязным, с длинным хвостом. Пучки травы и глиняные пятна покрывали шкуру. Голова была повязана потемневшей сырой косынкой в красный горошек. Темный от грязи синий передник, завязанный тесемкой на спине, волочился по мокрому мху.
«Кто ж тебя так разодел, Патрикевна?» – ласково спросил Дунаев.
Вдруг он услышал ответ. Потом он считал, что именно в этот момент, а не в какой-либо другой, он стал стариком. Голос у лисы был тихий, почти беззвучный, и звуки шли откуда-то со стороны. Казалось, что говорит молодая девушка, невинная и скрытная, поверяющая кому-то свои нежные секреты.
«Бабушка-избушка приодела, братец! Посеред лесочка, в черном овражке, да творожком обложена – маслицем пообмазана, стоит, братец, бабушка и бревном не ведет».
– Кончай театр! – вдруг заорал парторг и изо всех сил ударил лису ногой. Нога попала во что-то мягкое, пушистое, прошла сквозь это и задела пень.
Не оглядываясь, Дунаев побежал сквозь кусты, перепрыгивая поваленные, почти распавшиеся от сырости стволы.
Сгущалась тьма, но впереди мелькал то ли ясный язычок пламени, то ли еще что. Вдруг Дунаев понял, что это лисий хвост, и резко остановился. Он повернул назад, прошел немного и выяснил, что заблудился бесповоротно. Задумался о чем-то, о словах лисы. В горле пересохло. «Что это за бабушка такая?» – лихорадочно размышлял Дунаев, шаря руками по коре.
Потом он подумал, что лиса – это, возможно, тайный знак партизан, который они подают ему из глубины леса. Сквозь поток галлюцинаций, вызванных контузией, он увидел этот знак, и ему показалось, что в детстве ему рассказывали о старинных «партизанских морочилках», известных в этих местах немногим старикам еще со времен войны с Наполеоном. Раньше якобы говаривали: «Мужик дубиной попусту махает, а как нужда воевать придет, он на вилы да на морочилку надеется».
Через несколько минут он вновь увидел впереди язычок тусклого пламени – лисий хвост.
– Лисонька, не взыщи! – крикнул он. – Я ж так это, по-простому…
Лиса, казалось, манила куда-то. Пространства не было, только бесконечно дробящийся орган черных стволов. Дунаев шел, задевая за стволы. Он уже не собирал грибов, но вдруг что-то сквозь моховой туман как будто прокричало ему: «Мы здесь!» Инстинктивно он нашарил под деревом какие-то склизкие комочки и в следующий момент понял, что собрал горсть мелких грибов, похожих на сморчки. Он открыл рот и отправил туда собранное. Пережевал – вкус приятный. Разыскав целую полянку таких грибков, он утолил голод и присел под деревом отдышаться. Через пять минут ощутил головокружение. Все завертелось, и неожиданно Дунаев осознал, что лежит на ровной, искрящейся площадке. Площадка почему-то зависла среди Парка культуры и отдыха. Невдалеке высилась сложенная из мелкого камня голова бессловесного богатыря, затем топорщилась детская крепость с зубчатыми стенами и башнями, рядышком на холмике стоял жестяной танк, и от его весело блестящего, посеребренного постамента каскадами сбегали куда-то вниз пруды, водопады, гипсовые бегемоты, стенки.
Глава 3
Болото
Так начались скитания Дунаева по лесу. Человек средних лет, воевавший в гражданскую за родные Советы, отдавший немало сил заводу и партии, еще полный сил и энергии, вдруг увидел, как его завод превратился в груду руин, как по родной земле идут вражеские танки, был контужен и остался в глубоком тылу у немцев, полубезумный, одинокий, мокрый от грязи и собственного кала. В его сердце прежняя жизнь и устремления не погасли, но погрузились как бы в болото, попали в плен наплывающих, как вонь гниения, бредовых идей и вязких галлюцинаций. Следы его целеустремленности и прежней железной воли казались теперь трухлявыми кочками на болоте. Только сладкая брусника оправдывает существование этих кочек, но не надежда на то, что в них можно найти себе опору. Он хотел искать партизан, чтобы продолжать борьбу. Но где они, эти партизаны? Где она, эта борьба?
Распластанный в гнилой траве у подножия дерева, парторг лежал неподвижно, с закрытыми глазами, раскинув руки и ноги, как мертвец. И только в положении головы было что-то, напоминавшее спящего ребенка. На глазах бессмысленные слезы, на губах рвота. Поедание невидимых говорящих грибов оказалось безрассудным поступком – галлюцинации завершились рвотой, которая привела к бессилию. Он то ли потерял сознание, то ли забылся обморочным сном.
Когда очнулся, вокруг была полная тьма, но какая это ночь, он не знал. Это были те часы перед рассветом, которые летом кажутся особенно темными. Тишины парторг не слышал из-за гула в ушах.