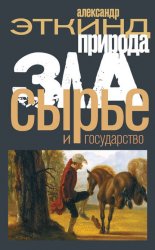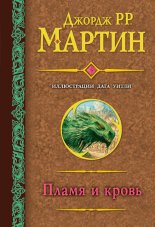Роман Сорокин Владимир
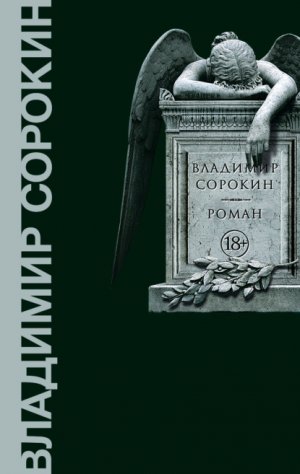
– А-а-а, чтоб вас черти разорвали, – пробормотал он, хлопками ладоней пытаясь загнать лошадей в стойло.
Но лошади не слушались, топтались, жались по углам двора. Весенний воздух притягивал их.
– Ну ладно, проказники, подышите, – проговорил Пётр Игнатьевич. – Пойдём, Ромушка, посмотрим, что там эти древляне творят.
Они вышли с конного, Красновский запер косую дверцу на деревянный клин и своим косолапым, но решительным шагом направился к дому.
Драма разыгралась в открытых воротах скотного двора, который, в отличие от конюшен, прямо примыкал к дому.
Когда Роман с Петром Игнатьевичем вошли на скотный, их взору открылась следующая картина: Настасья выпихивала рогатым ухватом для горшков здоровенного бородатого мужика в распахнутом армяке, надетом на голое тело, в грязных красных штанах и ещё более грязных сапогах. Мужик что-то ожесточённо бубнил, то и дело перехватывая направленный ему в голую волосатую грудь ухват и легко отводя его в сторону своей ручищей, Настасья же голосила непрерывно, трясясь и подступая к нему:
– Иди, иди, отсюда, пролик окаянный, пьяница чёртов, прости господи! Чтоб тебя собаки съели, бес ты водяной! Чтоб ты в подпол провалился! Чтоб у тебя брюхо лопнуло, живоглот проклятый, наказание моё!
– Да погоди ты, дура непонятливая! – пытался вставить слово мужик, но Настасья перебила его, заголосив на добрые пол-октавы выше:
– Пётр Игнатьич! Пётр Игнатьич! Пётр Игнатьич!
– Я Пётр Игнатьич! – сердито проговорил Красновский, стоя позади их. – Что здесь происходит?
Звук его голоса магически подействовал на пререкающихся: они перестали браниться, повернулись к Петру Игнатьевичу и подошли ближе, имея вид довольно-таки покорный, хотя подбородок у Настасьи всё ещё подрагивал, а мужик косил на неё диким взглядом неистовых смоляных глаз, спрятанных под густыми чёрными бровями.
Роман тут же узнал в нём одиозную крутояровскую фигуру Парамона Коробова по прозвищу Дуролом.
Этот похожий на исхудавшего медведя-шатуна мужик давно уже стал ходячей крутояровской притчей во языцех. Ещё мальчиком, приезжая летом в Крутой Яр, Роман слышал передаваемые из уст в уста бесконечные истории о проделках и похождениях Дуролома. Говорили, что он родился где-то в Сибири, чуть ли не в семье ссыльных бунтовщиков. Потом судьба занесла его в здешние места. Двадцати трёх лет он женился на девушке из соседнего села, но, прожив с ним год, она умерла в родах. Ребенок родился слабеньким и умер через несколько месяцев. Парамон запил, постепенно продавая имущество, и кончилось тем, что, продав дом, пристал к цыганскому табору и пропал на девять лет. Вернулся он, по словам старожилов, “каким-то чумовым”: хозяйство заводить не стал, а нанимался на работы к старикам да вдовам, живя у кого придётся. Работу ему поручали самую простую и грязную, в основном используя его непомерную физическую силу. Он копал колодцы и погреба, таскал мешки с зерном, чистил выгребные ямы и пас свиней.
Но прославился Парамон не выкопанными погребами, а своими дикими и нелепыми проделками.
Так, вывернув тулуп наизнанку и вымазав лицо сажей, любил он зимним субботним вечером попугать выходящих из бани баб или во время службы в церкви так выкрикнуть “Господи, помилуй”, чтоб местный священник отец Агафон испуганно присел, уронив кадило. Он катался с ледяных гор в липовой шайке без дна, бил ворон из какого-то невероятного турецкого пистолета, заряжая его горохом, лазал весной по деревьям, воруя и поедая птичьи яйца, ездил на ярмарку, “дабы попотешить жилку”, то есть подраться в кулачных боях, и возвращался весь избитый и изорванный, с ворохом невероятных историй. Любил он затевать споры, биться об заклад по любому поводу или быть свидетелем на тяжбе; любил подговаривать мужиков на различные рискованные предприятия, как то: гнать телеги наперегонки по полю, ловить ночью раков на поросячий визг (поросенка полагалось держать по шею в воде), меняться чем попадя – сапогами, жилетками, шапками; копать несуществующие клады и, конечно же, – пьянствовать.
Пить горькую Парамоша Дуролом мог бесконечно и выпивал всё, что ставилось перед ним, долго не хмелея. Потом, однако, пьянел самым чудовищным образом, наводя страх на окружающих.
Так, однажды на деревенской свадьбе он залез под стол и, приподняв его, опрокинул на гостей; в другой раз, страшно напившись на Пасху у вдовы Кораблихи, разделся донага и отправился “креститься водою и Духом Святым во реке Иордане”, то есть в местной речке.
Много раз бывал бит за мелкое воровство: то горшок каши стащит из тёплой печи, то сушащуюся на заборе дырявую рубаху, неоднократно изгонялся из Крутого Яра всем миром, но всякий раз возвращался с повинною, желая усердной работой загладить грехи, и бывал прощён.
Сейчас же он, слегка ссутулившись, стоял перед Петром Игнатьевичем и Романом, быстро переводя глаза от одного к другому, и выражение его чудного лица было таким, словно он решал: бить ли ему их или покорно подставить себя под удары. Роман с интересом разглядывал Парамона. Его узкое скуластое лицо с острым, слегка горбатым носом, большим ртом, кустистыми бровями и чёрными глазами не было ни красивым, ни безобразным. Оно было чудным, и эта характеристика, по мнению Романа, была наиболее точною.
Парамоша Дуролом совсем не изменился за эти годы, разве что седина кое-где мелькала в его лохматой голове и бороде.
– Что здесь происходит? – повторил свой вопрос Пётр Игнатьевич.
– Да вот, пролик окаянный, пристал ко мне как репей! – затараторила Настасья, во все широко выпученные глаза глядя на Красновского и идя к нему своим мелким утиным шагом. – Говорит, денег ему надо на лекарства, а какое же лекарство-то дубине-то эдакой, это ж я знаю, какое такое лекарство-то – зелья своего змеиного напиться и опять срам творить, вот какое такое лекарство!
– Да что ты мелешь, дура! – перебил её Парамон, подходя следом к Петру Игнатьевичу – Тебя да за такие слова живьём съесть мало! Начхать мне на вино, ты мне деньги отдай! Я ж ей, вше платяной, позавчера два воза дров сколол, а она всё харчами да харчами! А мне мои лекарствия нужны! У меня, мож, грудя горят! – И словно в доказательство сказанного, он распахнул свой видавший виды армяк, обнажив широкую волосатую грудь с болтающимся на толстом шнурке медным крестиком:
– У меня, Пётр Игнатьевич, третий ден у грудях быд-то змеюшный царь поселилсь! Вот здеся! – Дуролом глухо стукнул себя в грудь, сверкая глазами и наступая на Красновского. – Быдто игрища свои справляет, на мою погибель! Я уж и свечку ставил, и отец Агафон водою святой брызгал – ничего не помогает! А она, дура невразуменная, деньгу зажала, а я-то, мож, лекарствия купил бы да и поправилсь, за что ж мне помирать во цвете лет?!
– Погоди, погоди, Парамон, – строго перебил его Пётр Игнатьевич. – Не кричи. Настасья, он тебе вправду дрова колол позавчера?
– Колол, батюшка, – тихо проговорила Настасья, как-то сразу обмякнув и опустив глаза.
– Колол! А как же! Вон вишь, поутихла сразу, мокруша подтынная! – загудел Парамон, но Пётр Игнатьевич махнул на него рукой:
– Замолчи!
– Да как же молчать-то, отец родной! – выкрикнул Парамон, дёрнувшись всем телом. – Ведь люди-то – звери! Ведь я ж с чистым сердцем, со святою простотой, а мне вон – рогачом в бок! Я ж колю, колю, а сам-то как святые угодники – всё даром да опосля, мол, отдашь! Яко наг пришед, мзды не имал, прости, Господи, душу раба твоего!
Он стал быстро креститься своей большой жилистой рукой.
Настасья всхлипнула и опять заговорила быстробыстро, но уже с повинной интонацией:
– Батюшка Пётр Игнатьевич, я же ему, дураку-то, говорила, вперёд как нанять-то, что вдовица ведь, я ж коровку купила в Рождество, до сих пор должная, я ж говорила, что отдам к Пасхе, мне ж кум привезёт денег, а он припёрся, с ножом к горлу пристал – отдай, и всё. Отдам, отдам, пролик окаянный! Отдам, только жилы-то из вдовицы беззащитной не тяни…
Она всхлипнула и, волоча ухват по грязи, пошла к дому.
– Успокойся, Парамон, отдаст она тебе, – проговорил Пётр Игнатьевич без прежнего напряжения и даже с неким безразличием, – отдаст…
Роман достал портсигар, открыл и протянул Красновскому.
– Merci. – Пётр Игнатьевич взял папиросу.
Парамоша Дуролом между тем с упрямой тоскою смотрел вслед удаляющейся Настасье:
– Да мне денег не жаль. Что деньги – труха, пыль подмётная. Мне, Пётр Игнатьевич, лекарствия надобно.
– Лекарствия? – вяло переспросил Пётр Игнатьевич, прикуривая от поднесённой Романом спички.
– Лекарствия, – убеждённо повторил Парамон. – А то выгорит всё нутро дотла и, стало быть, не в чем будет душе держаться. Так вот и пекёт и пекёт…
Он почесал голую грудь.
– Настасья! – неожиданно крикнул Пётр Игнатьевич ещё не успевшей скрыться кухарке.
– Аиньки? – живо обернулась она.
– Принеси стакан водки с огурцом!
Настасья постояла немного, потом, вздохнув, пошла в дом.
Её возвращения ждали молча.
Пётр Игнатьевич курил, философски оглядываясь вокруг, Роман стоял, сунув руки в карманы пальто, думая о Зое. Дуролом несколько растерянно топтался перед ними.
“А если Зоя не приедет? – подумал Роман, стряхивая легковесный пепел себе под ноги. – Да и вообще, я же ничего не знаю о ней. Где она? Свободна ли она? Помнит ли обо мне?”
Вскоре появилась и Настасья. Мелко семеня и шлёпая сапогами по грязи, она несла перед собою небольшой круглый медный поднос, крепко держа его обеими руками. На подносе стоял стакан с водкой и лежал на блюдечке солёный огурец. Поравнявшись с Петром Игнатьевичем, она остановилась.
– Вот, Парамоша, тебе лекарство, – проговорил Красновский, бросая недокуренную папиросу и наступая на неё ногой. – Выпей и ступай с Богом.
При этих словах Парамон как-то весь сгорбился, руки бессильно повисли и лицо словно постарело. Он подошёл к Настасье, перекрестился, взял стакан и выпил одним глотком, по-петушиному дёрнувшись головою вверх.
– О-о-оха… грехи наши… – шумно выдохнул он, ставя стакан на место и нюхая левый рукав армяка. – Благодарствуйте, Пётр Игнатьевич, благодарствуйте…
Голос его сразу стал спокойным.
– Закуси хоть, эфиёп, – прошипела Настасья.
– Благодарствуйте. – Дуролом взял огурец и сунул в карман штанов. – Мы огурчик-то лучше к обеду сберегём.
– Сбереги, брат, сбереги, – кивнул со смехом Пётр Игнатьевич, – а к Настасье не приставай. Отдаст она тебе деньги.
– Да что мне деньги! – улыбаясь, махнул рукой Парамон. – Аз есмь птица Божья – что клюнул, тем и жив…
Он стремительно развернулся и зашагал прочь своей дёрганой походкой.
– И-ишь, фанфарон… – усмехаясь и втягивая голову в плечи, пробормотал Пётр Игнатьевич. Настасья молча двинулась назад. Роману вдруг стало скучно. Он зевнул, не прикрывая рта, и только теперь почувствовал сильную усталость. Ему представилась большая белая подушка со всё тем же НВ, заботливо вышитым тётиной рукой.
– Пётр Игнатьевич, а что, Зоя приедет летом? – спросил Роман.
– Так она с Надеждой на Пасху обещались, – лениво откликнулся Красновский, по голосу которого чувствовалось, что и он не прочь соснуть.
– На Пасху? – переспросил Роман.
– Ага…
Романа словно подтолкнули.
Он быстро попрощался с зевающим и вяло удерживающим его Петром Игнатьевичем и, пригласив его на ужин, пошёл домой.
V
На обрызганной кёльнской водою, обшитой кружевами свежевзбитой тётиной подушке Роман проспал часа четыре.
Проснувшись, он открыл глаза и первые мгновения с удивлением вглядывался в очертания притемнённой сумерками комнаты. Но неповторимый переплёт рамы тут же вывел Романа из забытья. Он всё вспомнил и, улыбаясь, сладко потянулся. Дневной сон в дядюшкином доме всегда во все времена для Романа был лёгким и восстанавливающим силы, и теперь, потягиваясь, он с радостью почувствовал бодрость и сладкую истому.
“Как хорошо, что я здесь, – подумал он, откидывая стёганое пуховое одеяло и закладывая руки за голову, – наконец-то”. Он вспомнил, как, просыпаясь в маленькой квартирке, которую снимал в столице, каждый раз думал о своей крутояровской комнатке, о том блаженном состоянии покоя, когда, пробудившись ото сна, можно вот так лежать, глядя в высокий белый потолок или в окно, и чувствовать себя по-настоящему свободным.
Роман протянул руку, взял со стоящей у изголовья тумбочки папиросу, размял и закурил.
“Нет, человеку творчества нужна только свобода, – думал он, спокойно затягиваясь и скашивая глаза на янтарный огонёк. – Любая зависимость, будь то служба или семья, губят человека. Даже не собственно человека, а то свободное дыхание, которое и способно породить мысль или художественное произведение. Творческая личность не должна ни с кем делиться своей свободой. Но с другой стороны – любовь? Ведь безумно влюблялись и Рафаэль, и Гёте, и Данте. И это не вредило их творчеству, а наоборот, помогало…”
Роман встал и подошёл к окну.
“Ведь они же делились своими чувствами со своими возлюбленными. И это их, наоборот, вдохновляло, придавало силы. А по человеческим меркам большая любовь должна целиком подчинить человека, не оставляя места ни на что другое”.
Он задумался, разглядывая сумеречный сад под окном с голыми переплетёнными ветвями, подпирающими вечернее чистое небо, и тут же пришла мысль, пришла легко и просто:
“Да ведь они же любили-то не как обычные люди! Вот в чём дело. Ведь свою любовь они сделали частью своего творчества, поэтому она и помогала им. А люби они просто, по-человечески, так, может быть, и не было б тогда ни «Божественной комедии», ни сонетов Петрарки и Шекспира. Их возлюбленные были их персонажами, вот в чём суть”.
Роман отошёл от окна, зажёг две из четырёх свечей стоящего на бюро шандала и, не вынимая папиросы изо рта, принялся переодеваться.
Спал он всегда в своей любимой шёлковой китайской пижаме, подпоясанный шёлковым шнурком с кистями.
Снявши её, Роман надел белую рубашку, вязаную розовую безрукавку, лёгкие бежевые домашние брюки и, причесавшись перед зеркалом костяным гребнем покойного отца, стал повязывать серый галстук.
“Интересно знать, который теперь час? – думал он, завязывая узел и прилаживая его строго по центру. – Попробую угадать. Проверим, Роман Алексеевич, как вы чувствуете время”.
Повязав галстук, он опустил руки и, стоя перед зеркалом, проговорил:
– Сейчас шесть часов вечера.
Потом подошёл к бюро, взял свои круглые плоские карманные часы на чёрном шёлковом шнуре, поднёс к свечке. Стрелки показывали без четверти семь.
– Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! – усмехнулся Роман, пряча часы в задний кармашек брюк. – Наверно, все уже за столом, а ты спишь, как Силен.
Быстро погасив свечи медным колпачком, он поспешил вниз.
Роман не ошибся: гости и хозяева ужинали в гостиной, куда был перенесён стол с веранды ввиду значительной прохлады весенних вечеров.
Ужин начался недавно – с полчаса назад. По настоянию тётушки Романа решили не будить, поверив заверениям Антона Петровича, что “Рома непременно проснётся сам, так как он не кто иной, как настоящий gentleman”.
Роман быстро вошёл в гостиную, громко желая здравствовать всем присутствующим, тут же раздались радостно-удивлённые возгласы, загремели отодвигаемые стулья, гости принялись здороваться с ним и целоваться.
Их было не так уж много, в основном одни мужчины: Рукавитинов, Красновский и батюшка отец Агафон, а в миру – Фёдор или Агафон Христофорович Огурцов с супругой Варварой Митрофановной.
– Ну вот, судари вы мои, что я говорил! – рокотал Антон Петрович, сидящий во главе стола и тоже приподнявшийся с места.
Роман пожал руки Николаю Ивановичу и Петру Игнатьевичу, поцеловался с отцом Агафоном и с Варварой Митрофановной, которые буквально прилипли к нему с двух сторон и, не переставая издавать радостные восклицания, взявши Романа под руки, повели к столу. Это была милая простодушная чета, и он и она до удивительного походили друг на друга. И Фёдор Христофорович, и Варвара Митрофановна не отличались высоким ростом, имели полное сложение, пухлые короткие руки с пухлыми белыми пальцами, мучнистые, слегка одутловатые лица с почти одинаковыми маленькими круглыми носами, походившими на молодой розовый картофель. Отец Агафон был пятидесяти восьми лет, носил рыжеватую, с сильной проседью бороду и такие же по цвету, длинные до плеч волосы, обрамляющие гладкую розоватую плешь. Его маленькие вострые глазки с рыжеватыми, а поэтому незаметными ресницами непрерывно моргали, словно стараясь поспеть за ртом, не закрывающимся ни на миг.
Службу и приходские дела о. Агафон вёл исправно, хоть и с некоей суетливостью, причиною коей были отнюдь не скаредность и расчёт, а особая склонность его мягкого и отзывчивого характера. Сердце у о. Агафона было добрым, крутояровцы его любили и уважали.
Варвара Митрофановна была лет на шесть моложе супруга и ничуть не отставала от него в суетливой подвижности членов и в непрерывных словоизлияниях.
Огурцовы жили в Крутом Яре уж более тридцати лет, детей им Бог не дал, зато у них был прекрасный яблоневый сад с пасекой в пятьдесят колод, большое подворье с бесчисленной скотиной и птицей и просторная, изукрашенная местными древорезами баня с купальней, стоящая на речке на крепких дубовых столбах.
О. Агафон и его супруга были на удивление радушными людьми. По гостеприимству и хлебосольству в округе с ними никто не мог сравниться, их двухэтажный дом всегда кишел родственниками, знакомыми, малознакомыми, а то и вовсе незнакомыми. По будням здесь садились обедать сразу человек пятнадцать – двадцать, в праздники – все сорок. Но особенно трепетно и ласково здесь относились к детям. Им позволялось всё, все двери для пяти-, семи-, семнадцатилетних Танюшек, Тишек и Настасьюшек были открыты, что подчас приводило к разного рода оказиям: битью посуды, потасовкам, объеданиям сладостями и многому другому.
И хотя вообще к детям чета Огурцовых питала невероятную слабость, но слабость и симпатия по отношению к Роману у них вовсе не знала границ.
И сейчас, идя с ними под руки и слушая непрерывный поток восторженных, радостных и удивительных восклицаний, Роман сразу вспомнил все свои шалости в их доме, вспомнил пироги и кулебяки, печённые Варварой Митрофановной на его именины, вспомнил их сад, где он валялся в траве, пасеку, где ел сотовый мёд, запивая молоком, купальню, с мостков которой нырял в речку. И церковь, милую крутояровскую церковь, где он впервые уверовал в Бога…
– Голубок ты наш ясный! Прилетел наконец к родному гнёздышку! Обрадовал всех, слава тебе, Господи! – быстро говорила Варвара Митрофановна, крепко держа Романа под левую руку, а справа шуршал чёрной шёлковой рясой отец Агафон:
– Облагодетельствовал, Ромушка, истинно облагодетельствовал! Ко святому празднику, Богу на радость, нам на умиление! Ой, как же я рад, помилуй Боже!
– Федя, так я ведь сон видела вчера, как будто журавлики мимо нашего дома летели, а один спустился и на крышу сел!
– Сны вещие мы все видеть мастера, – перебил её Антон Петрович. – Я видел, как зимою липа цвела, а Лидочка – как у нас под окном клад нашли золотой.
– Да не золотой, Антоша! – махнула рукой Лидия Константиновна. – Клад, а в нём младенец живой.
– Господи, вот чудеса! – удивилась, крестясь, Варвара Митрофановна.
– Обрадовал, вот обрадовал! – повторял отец Агафон, свободной рукой поглаживая свою бороду. – Теперь пасхальную утреню служить сил прибавится! Экий гость в наших краях!
– Надежда Георгиевна с Зоечкой тоже к Пасхе обещались, – проговорил Пётр Игнатьевич, тяжело садясь на своё место.
– Ей-богу?! – почти одновременно воскликнули Огурцовы, ещё крепче сжав руки Романа.
– Обещались, обещались, – кивал лысой круглой головой Красновский.
– Дай-то Бог, вот славно было бы!
– Надежда Георгиевна! Я её год не видала!
– А Зоинька, деточка моя! Ну вот уж радости-то было б!
– Вот был бы праздник-то, Господи, твоя воля!
– Как хорошо, как хорошо бы! – жмурясь и качая головой, повторял отец Агафон. – И Антон Петрович с Лидочкой, и Пётр Игнатьевич с Надеждой Георгиевной, Ромочка, Зоинька, Куницыны и опять же Николай Иванович с…
Он запнулся, моргая белёсыми ресницами, а Николай Иванович тут же дополнил своим мягким вкрадчивым голосом:
– Со своими жуками.
Все рассмеялись, Антон Петрович захохотал, звучно хлопнув от удовольствия в ладоши:
– Ах-ха-ха! Нуте-с, честные господа, шутки-шутками, а стол не забывать! Таков приказ фельдмаршала! Прошу садиться, хоть у нас и Страстная, а овощами Бог не обделил, так что прошу покорнейше!
Посмеиваясь над шуткой Николая Ивановича, все стали садиться.
Батюшка с попадьёй сели слева от Романа, Лидия Константиновна и Антон Петрович – справа. Пётр Игнатьевич и Николай Иванович расположились напротив.
В отсутствие Романа гости и хозяева успели отведать всё ту же анисовую и закусывали теми же мочёными яблоками, квашеной капустой и грибками. Рюмка Романа во мгновение ока наполнилась желтовато-золотистой настойкой, а его тарелку тётушка принялась заботливо нагружать всем, что было на столе.
– Милые мои братья во Христе! – громко, но с теплотой в голосе проговорил, приподнимаясь, о. Агафон, держа рюмку пухлой, слегка подрагивающей рукой. – Позвольте просить вас всемилостиво выпить за здоровьице нашего Ромушки.
Всем пришлось снова встать, потянуться рюмками к Роману, который уже начинал ощущать неловкость от обилия всех приветствий и тостов, обращённых к нему за сегодняшний день.
– За соколика нашего сизокрылого! – пропела Варвара Митрофановна и первая чокнулась с Романом.
– Благодарю вас… покорнейше благодарю… – бормотал Роман, улыбаясь и чокаясь.
Все выпили, и каждый, как водится, отреагировал на анисовую по-своему: Роман коснулся кончиком сильно накрахмаленной салфетки своих усов; Антон Петрович издал звук, похожий на тот, что издавал сегодня Пётр Егоров, расшибая поленья; отец Агафон сморщился, качнул головой и, прошептав: “Грехи наши…”, сразу принялся закусывать; попадья сказала: “Ой”; Пётр Игнатьевич крякнул, выпучил глаза, оттопырил губы и некоторое время не двигался; Николай Иванович зябко передёрнул плечами, смахнул мизинцем слезу из-под очков; Лидия Константиновна, по обыкновению, не отреагировала никак, словно воды выпила.
– Хорошо, – пробормотал Пётр Игнатьевич, выходя из оцепенения и тыча вилкою в рыжики.
– Чай, не разучились ещё, – ответил Антон Петрович, закусывая капустой. – Рука тверда. И меч булатный сдержит…
– Лидия Константиновна, а где же Клюгин? – спросил Николай Иванович.
– Сама не пойму. Я пригласила его, послала Акима сказать. Может, болен?
– Эскулап, и болен? Быть не может! – отрезал Антон Петрович. – Да ещё такой Агасфер, как Андрей… Этот никогда ничем не болел. Он, судари мои, болезням неподвластен.
– Это почему так? – спросила Варвара Митрофановна, громко орудуя ножом и вилкой в попытке разрезать солёный огурец.
– А потому что он давно уже почил в бозе и смерть его не берёт!
– Господи, что ж вы такое, Антон Петрович, говорите!
– Антоша! Как тебе не стыдно.
– В Страстную-то, Антон Петрович, ай-ай-ай… – закачал головою быстро, как кролик, жующий отец Агафон.
– Да я не к тому, чтобы унизить или что там, упаси Бог! – воскликнул Антон Петрович, тряхнув прядями. – Я же просто толкую вам о мёртвом теле и живой душе! Андрей давно уж телом мёртв, а дух живёт в нём, и ого-го какой дух! Поэтому-то и болезни его минуют, как апостола Петра.
– Ну, Антон Петрович… – словно от зубной боли сморщился Красновский, – как можете вы сравнивать Клюгина со святым апостолом? Это же чистая нелепость.
– Его лучше с юродивым сравнить, Антоша. Их ведь тоже болезни не брали, – улыбаясь, вставила Лидия Константиновна.
– Андрей Викторович – человек с чудиною, – заметил отец Агафон. – В храм Божий не зайдёт, лба не перекрестит. Много глупостей мужикам наговорил. Странный, странный человек.
– Да ну полноте вам, – с мягкой укоризной проговорил Рукавитинов. – Андрей Викторович – прекрасный врач, скольким людям жизнь спас, скольких мужиков да баб вылечил. А что в церковь не ходит, так что ж с того? В Европе многие умы в соборы до кирхи не ходили, а вышли великие учёные.
Отец Агафон непримиримо качал головой:
– Нет, Николай Иванович, никак нельзя без церкви, без храма. Церковь – невеста Христова, святыми апостолами нам завещана. Чрез церковную общину человек спасение обретает, веру, покой душевный. Что люди в миру? Грубители, прелюбодеи, мшелоимцы. А в церкви все яко агнцы пред Господом-то нашим. А одному да в миру противу зла трудно устоять.
– А подвижники? Сергий Радонежский, Кирилл Белозёрский? Одни жили, одни и молились.
– Батюшка вы мой, Николай Иванович. Так это ж подвижники, святые люди, угодники Божьи! А вы мне про мирян толкуете!
– А что миряне… Подвижники тоже сначала мирянами были…
– Да и какими греховодниками! – живо вмешался в разговор Антон Петрович. – Я читал в одной апокрифической книге об этих вот… отцах-пустынниках, что один из них, не помню кто, кажется – Марк Антиохийский, был жутким бабником! Не было в Антиохии ни одной бабёнки, которую бы он не соблазнил к блуду. А ещё, говорят, содержал он у себя двух пони, опять же, не для езды там и гужевых надобностей, а прямо скажем, для…
– Антон! – вскрикнула Лидия Константиновна, стукнув своей узкой ладонью по столу, отчего приготовленные к чаю, стоящие с краю чашки задребезжали. – Прекрати сейчас же! Ей-богу, ты же не младенец!
– Молчу, молчу, – сложил огромные руки Антон Петрович наподобие индуистского приветствия.
– Неужели больше не о чем говорить накануне Светлого Воскресения? Николай Иванович, голубчик, право, мне так плохо, когда начинаются эти querelles absurdes!
– Прошу прощения, Лидия Константиновна, – поспешил извиниться Рукавитинов. Отец Агафон вздохнул, склонил голову к тарелке и, время от времени повторяя: “Без церкви нельзя, нельзя без храма”, занялся квашеной капустой.
– Однако странно у нас с вами получается, – заговорил Пётр Игнатьевич. – Приехал наш дорогой Роман Алексеевич, из столицы, а мы на него нуль внимания и вот обсуждаем Клюгина. Как это, право… – он нахмурился, подыскивая нужные слова, – …не по-русски.
– Святая правда! – подхватила Варвара Митрофановна, кротко и даже несколько испуганно молчавшая во время спора. – Ромушка, соколик наш, расскажи, как живёшь, как твои науки?
– Да, да, Рома, я утром запамятовал спросить, кто за Прянишникова Ленского поёт? – оживился Антон Петрович.
– А что, Ромушка, отец Валентин, дай Бог ему здоровья, по-прежнему в вашем приходе? – повернулся к Роману, шурша своей шёлковой рясой, отец Агафон.
– Рома, я про Эльвиру Авксентьевну и не спросила до сих пор, как её здоровье, как Ванечка? – поспешила произнести Лидия Константиновна.
Роман положил вилку и нож, отёр губы салфеткой и принялся рассказывать всем обо всём, стараясь ничего по возможности не упустить. Он поведал о своём решении стать живописцем, обрисовал положение и жизнь столичных родственников, а свадьбу Ванечки пересказал так живо, с такими подробностями (впервые прослезившийся “железный” министр Сергей Борисович, пьяный шурин, кусок кулебяки, упавший Машеньке на колени и пролежавший там почти весь вечер), что вызвал бурное оживление у всех, особенно у Антона Петровича. О племяннице Лидии Константиновны – Эльвире Авксентьевне – он дал исчерпывающий во всех отношениях ответ; благопристойного отца Валентина назвал “истинно святым человеком”, к величайшей радости батюшки Агафона, прослезившегося по этому поводу и долго не перестававшего повторять: “Святая правда! Святая правда!” Но конечно же, более всех порадовал Роман Антона Петровича рассказом о новой постановке “Свадьбы Кречинского”. В характере Романа была одна черта, ставившая его в ряд людей необычных и даже странных. Ещё в детстве он заметил, что ему доставляет большое удовольствие освещать интересующие кого-либо события так, чтобы сильнее всего поразить слушателя, добиться в нём желаемого душевного трепета, отчего и самому затрепетать. Это вовсе не значило, что Роман был лжецом и фантазером, напротив, он пересказывал всё точно до мелочей, но делал это так, как никто другой. Он словно зажигал в себе какой-то невидимый волшебный фонарь, наводил его на описываемое событие, и всё вдруг начинало сверкать в этих лучах необычными красками, воспламеняя и будоража и слушателей, и Романа, так что неизвестно, кто больше из них радовался.
Так и теперь, повествуя дядюшке о премьере, он вдруг опять почувствовал в груди этот “волшебный фонарь”, это воодушевлённое желание воспламенить собеседника и заговорил в свойственной ему манере – страстно и увлечённо.
Безусловно, Роман знал, что “Свадьба Кречинского” – одна из любимых пьес Антона Петровича, а роль самого Кречинского – щёголя, сердцееда и мошенника – одна из любимых ролей, которой дядя отдал более двадцати лет театральной жизни. Как он играл его! Роману никогда не забыть этой осанки, этих уверенных, точных и в то же время изысканно-небрежных движений больших дядиных рук, этого голоса жуира и бонвивана, в циничной музыке которого нет-нет да и прослышатся обертоны грусти, раскаяния и вселенской тоски… Роман рассказал о новом Кречинском, о новом Расплюеве, о новых декорациях, о публике, о критике и наконец поделился своим мнением о постановке. Всё это необычайно взволновало дядю. Уже где-то на середине Антон Петрович встал из-за стола и, скрестив руки на груди на манер шиллеровского Моора, стал мерно прохаживаться от рояля к бюсту Вольтера и обратно, глаза его загорелись, массивное лицо всё как-то подобралось, он весь словно напружинился и, казалось, сам готовится через мгновенье выйти на сцену.
Роману тут же передалось его состояние, кровь прилила к щекам, глаза блестели. Все молча слушали его, а когда он кончил, тишина повисла в гостиной, лишь поскрипывали половицы под дядиными ногами.
– Да… – проговорил наконец Антон Петрович, – молодцы.
И, помолчав, серьёзно добавил:
– Спасибо тебе, Рома. Надо будет съездить посмотреть. Молодцы, черти!
После этой фразы все сразу ожили, заговорили и задвигались.
– Ах, как чудно. Я так давно не была в театре!
– Я тоже видал нового “Кречинского”, правда, не премьеру.
– Театр – дело богоугодное, а как же. Только поменьше бы разных водевилей, где барышни ноги задирают…
– А я, Антон Петрович, помню вашего Кречинского! Тогда мы на Рождество гостили у Кораблёвых и пошли в театр. И что вы думаете, как они нас приглашали – на “Свадьбу Кречинского”? Ничего подобного! Пойдёмте, говорят, сегодня Воспенников играет!
– А как ты, Антоша, помнишь, Расплюева вытолкнул слишком сильно, а он, бедняга, в декорацию вломился! Господи, то-то хохоту было!
– Антон Петрович, я вас тоже помню. Я в ту пору совсем был мальчиком. А ту фразу: “Эге! Вот какая шуточка! Ведь это…”
– “Ведь это целый миллион в руку лезет! – громово подхватил Антон Петрович, мгновенно преображаясь в Кречинского. – Миллион! Эка сила! Форсировать или не форсировать – вот вопрос! Пучина, неизведомая пучина. Банк! Теория вероятностей – и только. Ну а какие здесь вероятности? Против меня: папаша – раз. Хоть и тупенёк, да до фундаменту охотник. Нелькин – два. Ну, этот, что говорится, ни швец, ни жнец, ни в дуду игрец. Теперь за меня: вот этот вечевой колокол – раз! Лидочка – два! И… да! Мой бычок – три! О, бычок – штука важная, он произвёл отличное моральное действие. Как два к трём. Да! Надо полагать – женюсь. Женюсь!”
Резким движением он скрестил руки на груди и замер, обведя присутствующих самодовольными и наглыми глазами.
Все зааплодировали:
– Браво!
– Браво! Антон Петрович, браво!
– Bis! Превосходно!
– Чудно, право, чудно!
Антон Петрович медленно, с достоинством поклонился, его седые пряди красиво свесились вниз.
В это время в двери показалась кухарка Воспенниковых Арина с большим фарфоровым блюдом в руках.
После одобрительного кивка Лидии Константиновны она внесла его и поставила на стол.
– А-а-а! – оживился Антон Петрович, садясь на своё место. – А вот и наше овощное рагу а la Крутой Яр! Прошу.
Наклонившись над столом, он снял крышку с блюда, и чудный аромат тушёных овощей наполнил гостиную.
– Ну, Лидия Константиновна, вы просто змий-искуситель! – воскликнул отец Агафон.
– Батюшка, не беспокойтесь, всё на постном масле…
– Ой ли? Ой ли? – тряс головой батюшка, принюхиваясь. – Вон эдак шибает-то!
Арина тем временем, переменив приборы, вышла.
Выпили ещё и принялись за рагу, на этот раз уже молча. Роман ел с удовольствием, его собственный рассказ и импровизация Антона Петровича сильно подействовали на него, и он был сейчас, что называется, в духе.
Ему хотелось каких-нибудь событий, и воображение его интенсивно работало. Он думал о Зое, о том, как они встретятся, что она ему скажет и что он скажет ей, как они будут вместе гулять по лесу или кататься на лодке по реке до озера.
Но эти мечты о девушке, в которую он был влюблён три года назад, сопровождала постоянная внутренняя тревога, словно горький привкус отравлял прекрасный напиток. Если бы Роман не понимал причину этой тревоги, он счёл бы её следствием возбуждения и обострения чувств, сопутствующих ему всегда в первые дни приезда в Крутой Яр. Однако он знал истинную причину, или, вернее, чувствовал её сердцем, боясь до конца признаться самому себе. Он чувствовал Зою как личность, как девушку, и чем больше чувствовал, тем больше узнавал в её характере свой порывистый, как весенний ветер, характер человека свободы. И это пугало его.
И сейчас, сидя за столом среди этих милых простодушных людей, он вдруг неожиданно понял, что его чувство к Зое нельзя назвать любовью в том смысле слова, в котором он понимал его. Он был влюблён в неё, влюблён сильно, но – любовь… Это что-то совсем другое. Что-то высшее, основанное не только на обожании и восхищении, но и на доверии. На вере. В Зою он до конца поверить не мог, как ни старался. Может быть, именно потому они и расстались так мучительно, с таким душевным надрывом…
Подали чай.
Роман полностью ушёл в свои мысли и плохо замечал, что происходит вокруг. Ему стало неуютно, словно он оказался в чужой малознакомой компании; все говорили, смеялись, а он всё думал и думал про Зою, образ которой с такой яркостью стоял в воображении, что заслонял всё вокруг.
Роману захотелось уйти. Он встал и, сославшись на головную боль, вышел в сад, набросив пальто на плечи.
В саду было темно и прохладно. Стояла тихая весенняя ночь с низким тёмно-фиолетовым небом, кое-где тронутым едва различимыми искорками звёзд. Ветра не было, но откуда-то снизу от земли проистекал прохладный бодрящий воздух, он забирался под пальто и холодил. Роман пошёл меж деревьев, чувствуя, что лёгкие заморозки коснулись земли и она уже не такая мягкая под ногами, как днём.
Сад был запущен, это было видно даже теперь, ночью. Яблони разрослись, въехав ветвями друг в дружку, на месте вишен вообще стояли какие-то немыслимые заросли, малинник захватил всё пространство у забора.
Роман прошёл в глубь сада и присел на небольшую скамейку, стоящую меж двух старых яблонь.
Сюда летом выносили круглый стол и пили чай.
Роман потрогал сиденье скамейки. Оно было сухим и холодным.
“Неужели я увижу её?” – подумал он, и сердце, успокоенное холодом апрельской ночи, забилось в его груди с новой силой.
VI
Чистый четверг и пятница, полные предпасхальных хлопот, пролетели незаметно. К тому же Роман получил свои художественные принадлежности и большую часть времени посвятил оборудованию летней мастерской, под которую пошёл мезонин – не очень большое, но чрезвычайно светлое помещение, пол и потолок которого были сработаны из струганых еловых досок, что очень нравилось Роману.
Он перенёс сюда пару стульев, тумбочку для красок, ломберный столик, кучу склянок и горшков и лишь потом, усевшись на стуле, принялся распаковывать краски. Они сразу поразили его своим присутствием в этом доме – казалось немыслимым, что охра, жжёная кость, берлинская лазурь и тиоиндиго существуют здесь, в Крутояровской обители Воспенниковых. Радуясь словно ребёнок, Роман выдавливал их из тюбиков на клочок бумаги, смотрел, любуясь цветами, казавшимися почему-то ещё более притягательными и необыкновенными.
Забыв про тумбочку, он стал раскладывать их на узком подоконнике, тянущемся по двум застеклённым стенам, раскладывать в порядке дисперсного разложения света – от красного кадмия и охры до ультрамарина. Белила и жжёную кость Роман убрал в тумбочку – он редко пользовался ими.