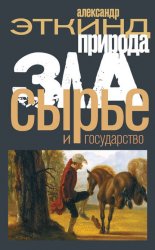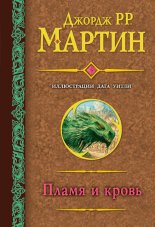Роман Сорокин Владимир
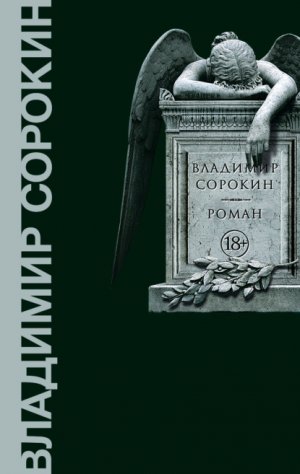
Покончив с красками, он распаковал картонный тубус с кистями; кисти лежали в нём, как стрелы в колчане, каждая была обёрнута в пергамент.
Роман не забыл переправить из столичной мастерской китайскую синюю вазочку, в которой обычно хранились кисти.
Распаковав вазочку, он поставил её на ломберный стол и, освобождая каждую кисть от пергаментного плена, водружал на прежнее место. Кисти были разные, и каждую из них он знал, помнил, мог отличить от другой: плоские, круглые, колонковые и беличьи – они все, как и краски, были неповторимы.
Роман наполнил ими вазочку и улыбнулся, любуясь этим ощетинившимся букетом, вид которого всегда будил чувства Романа, заставлял забывать про усталость и разрушал равнодушие.
После кистей он занялся сборкой мольберта – не очень большого, но крепкого, удобного и простого в конструкции. Собрав мольберт, Роман поставил его в самом центре комнаты, по привычке задрапировав холстом.
Потом настала очередь подрамников, потом пришлось зачистить и поточить мастихины, проолифить палитры, развести грунт и прогрунтовать дюжину картонок для эскизов и многое, многое другое. Роману хватило работы на два дня, он стучал, тёр, мазал, скоблил, двигал, не выпуская папиросы изо рта, так что тётя, принёсшая ему в полдень на подносе стакан компота, назвала его “столяр” и, зажав носик – “как остро пахнут эти все художества!” – смеясь и качая головой, поспешила ретироваться. Зато Антон Петрович отозвался о трудах Романа с одобрением, посетив новую мастерскую и досконально осмотрев реквизит молодого живописца.
– Славно, славно… – повторял он, прохаживаясь возле окон и трогая краски. – И хорошо, что наверху. Здесь, брат, тебя мирская суета не так будет тревожить. Будешь зрить красоту нашей землицы во всей полноте.
И, уходя, добавил со значительностью:
– Успехов тебе, Рафаэль Крутояровский!
Роман поблагодарил витиеватой сентенцией из Кальдерона, чем вызвал громоподобный хохот удаляющегося Антона Петровича…
А между тем все кругом готовились к Пасхе.
Арина под неустанным руководством Лидии Константиновны испекла шесть больших куличей, замесила пасху, покрасила три дюжины яиц. Всё это в пятницу носили освящать в церковь, а в субботу разложили по веранде на большом столе, накрыв рушниками.
Роман проснулся поздно – тётушка и кухарка уже вернулись с заутрени и собирали на стол. Антон Петрович читал газеты, мурлыча что-то себе под нос.
Позавтракали одним чаем и разошлись по своим делам – тётушка с Ариной на кухню, Антон Петрович в спальню.
Роман же решил съездить в сосновый бор. Это было не так далеко – сине-зелёная полоска виднелась за большим полем, примыкающим к Крутому Яру с южной стороны.
Погода стояла тёплая – солнце грело мокрую землю, галдели грачи на деревьях, мальчишки бегали взапуски, шлёпая по лужам. Роман надел свою тёмно-коричневую замшевую куртку, сапоги, надел на голову чёрную широкополую дядюшкину “конную” шляпу с резинкой под подбородок и, взяв любимый стек с жёлтой ручкой из китового уса, отправился через сени на скотный двор, где со вчерашнего дня томился в стойле каурый жеребец, нанятый тётушкой у Архипа исключительно для верховых прогулок племянника.
Перепрыгивая через лужи, Роман прошёл мимо хлева, где уже который год вместо коров содержались свиньи, и открыл сильно перекошенную дверь конюшни. Она заскрипела так протяжно и громко, что свиньи вопросительно захрюкали, заворочались в навозе.
Роман меж тем прошёл в дверь и оказался в весьма просторном, но тёмном и запущенном помещении.
Здесь было четыре отгороженных стойла, три из которых пустовали, а в четвёртом стоял, прядая ушами, архиповский жеребец Орлик.
Роман приблизился к нему, ласково повторяя это весьма распространённое лошадиное имя, достал из кармана шерстяных галифе большой кусок сахара и на ладони протянул жеребцу.
Тот, отфыркиваясь и переминаясь с ноги на ногу, покосил на Романа чёрным как смоль глазом, протянул морду над старой, облизанной и обглоданной не одним поколением лошадей переборкой и, взяв мягкими, словно бархатными, губами сахар, захрустел им.
– Ну вот и познакомились, – гладил Роман его по красивой морде с белой звёздочкой на лбу. – Кататься поедем?
Жеребец грыз сахар, поглядывая на Романа. Уздечки и седла висели вдоль стены на крепких кованых гвоздях. Роман снял уздечку, сразу отыскал своё любимое седло, которое, кстати говоря, было единственно приемлемым для езды, ибо остальные давно пора было выбросить.
Надев узду на морду Орлика, Роман отпер переборку и повёл коня на двор, неся в левой руке седло. Стек он по привычке заткнул за голенище сапога.
Орлик шёл за Романом, подрагивая мышцами плеч и отфыркиваясь.
Роман вывел его с конного к палисаднику, оседлал, достал из кармана куртки лёгкие замшевые перчатки, натянул на руки, вынул стек и, продев левую ногу в стремя, ухватившись за луку седла, сел на Орлика.
Конь всхрапнул, дёрнулся и, скаля зубы, прянул вперёд, уши его торчали словно рожки.
– Спокойно! – натянул повод Роман и сжал ногами Орлика.
– Что, норовист Буцефал? – раздалось сверху, и Роман заметил Антона Петровича, стоящего на балкончике, расположенном над террасой.
– Ничего, справлюсь, – усмехнулся Роман, отклоняясь назад и хлопая коня ладонью по крупу.
Орлик заржал и взял лёгкой рысью.
– “Весна, весна его сердце тревожит!” – продекламировал Антон Петрович, простирая руку перед собой. – Счастливый путь!
– Счастливо оставаться, дядюшка! – крикнул удаляющийся Роман. Орлик взял намётом, они миновали толстые старые дубы, росшие неподалёку от дома Воспенниковых, и оказались на дороге, ведущей через поле к бору. Роман привстал на стременах и слегка ударил Орлика стеком по крупу.
Конь сразу пошел растяжистым ровным галопом, воздух засвистел под полями Романовой шляпы.
Роман обожал верховую езду.
Научившись ездить ещё мальчиком, он не упускал ни малейшей возможности скакать верхом навстречу крутояровским просторам, минуя поля, перелески, углубляясь в лес.
Езда на лошади будила в нём радость, будоражила душу и воображение. В юности он представлял себя то Ланселотом, то королём Артуром, то смелым и бесстрашным Тристаном, пробирающимся сквозь лес к замку своей возлюбленной.
Сейчас же Роман просто с удовольствием отдавался езде, радуясь прекрасной солнечной погоде, вешнему воздуху, простору полей, раскинувшихся во все стороны, молодому горячему коню и сознанию того, что сегодня ночью будет чудесный праздник, самый любимый и таинственный.
Орлик легко скакал, хрипло и шумно выдыхая, в нём чувствовалась порода и сытая лёгкая жизнь скакуна, шея которого никогда не знала хомута.
Миновали середину поля, а бор, казалось, оставался на том же самом месте; ни приближаясь, ни отступая, он лежал на горизонте зелёно-голубой лентой, словно пояс, сброшенный лесной богиней Дианой.
Справа, шагах в двухстах, по другой дороге тащилась чья-то телега, которую Роман не сразу заметил. Мужик, сидящий в ней, снял шапку, махнул ею Роману. Роману показалось, что это Сидор Горбатый, но он, не обращая внимания на мужика, скакал дальше, наслаждаясь простором и волей.
Дорога уже пошла под уклон, замелькали знакомые овраги, показался край поля с зарослями ивняка. Бор был близок. Роман смотрел на него глазами художника, замечая, как по мере приближения исчезает в сосновых кронах голубое, уступая место зелёному, как явственно проступают оранжеватые стволы и наливаются коричневым проёмы меж стволами.
Он ударил Орлика ещё раз, пролетел сквозь кустарник, проехал выжженную пожаром просеку и совсем возле бора натянул повод. Орлик остановился, всхрапывая и перебирая ногами. Опустив повод на луку седла, Роман любовался высокой частой стеной могучих сосен, вставших у него на пути молчаливой суровою ратью великанов.
Сосновый бор. Он всегда поражал Романа единством и монолитностью. Как сильно разнится он с простым смешанным лесом, высылающим навстречу путнику сначала кустарники с подростом, потом подлески и одиночные деревья, а потом уж наползающим стихийно, где дубом, где берёзами, где осинником вразброд, подобно пёстрому войску наших предков. Не таков сосновый бор. Нет перед ним ни подлесков, ни бурьяна. Он наступает широким фронтом, сразу обрушивая на путника всю свою вековую мощь и разя его в самое сердце.
Роман замер, поражённый величием и красотой.
Лёгкий ветерок шевелил вечнозелёные кроны, шуршал по стволам отслаивающейся корой. Он доносил до Романа запах хвои – такой терпкий и будоражащий.
За три года бор нисколько не изменился, как и положено всему великому, – сосны не стали выше и не поредели, всё осталось на своём месте.
“Какое чудо, – думал Роман, стараясь охватить единым взглядом живую стену. – Лес вечен, как сама жизнь. И, как жизнь, прекрасен. Но как странно отчуждён он от человека, как далёк он от него в своей самости! Он существует сам по себе и живёт своей особой жизнью, в которую мы можем вмешиваться со своими топорами, пилами и огнём, но с которой мы не можем слиться, соединиться, поиметь родство. Она так или иначе проходит мимо, не даётся в наши грубые руки. Мы идём по лесу, а он стоит, не обращая на нас внимания. Мы любуемся его красотою, а он не видит нас. Мы кричим, а он молчит, возвращая нам наши голоса многократным эхом. Ему ничего не нужно от нас. Он свободен. Как это прекрасно…”
Роман тронул упругие бока Орлика пятками сапог, конь пошёл быстрым шагом, и они оказались среди сосен. Сразу стало прохладней, дорога наполнилась талой водой, и чем дальше въезжал Роман в лес, тем чаще мелькали внизу меж стволов белые пятна нерастаявшего снега. Солнце скользило по могучим стволам, играло в лужах. В вышине перекликались редкие птицы.
Роман стегнул Орлика стеком, и тот поскакал дальше по дороге, тянущейся через бор ровною полосой. Сосны неохотно расступались, пропуская её.
Роман захотел побыстрей добраться до “креста” – пересечения двух дорог, места, которое он так любил.
“Как чудно, что можно наконец увидеть то, о чём помнилось все эти годы, – мелькало в его голове. – Как прекрасно, что всё это существует помимо меня… ”
Орлик нёсся галопом, разбрызгивая воду. Мелькнула знакомая груда валунов. От неё было совсем недалеко до “креста”. Вдали по правую сторону дороги стал вырастать силуэт огромного камня, прозванного в семье Воспенниковых “слоном”. “Слон” лежал возле “креста”.
Вдруг из-за него выехали двое конных. Роман натянул повод, переведя Орлика на рысь и, всматриваясь, подъехал. Люди на лошадях смотрели на Романа. Одним из них был незнакомый молодой человек в жокейской фуражке, другим… другой была… Зоя.
“Не может быть!” – содрогнулся Роман, придерживая повод и переводя Орлика на шаг.
– Да это же Роман! – громко произнесла Зоя своим звонким неповторимым голосом, и Роман убедился, что это действительно она.
Он остановил Орлика.
В пяти шагах на каурой лошади сидела Зоя – молодая, ослепительно красивая, в чёрном бархатном платье с серыми каракулевыми обшлагами и стоячим каракулевым воротником. Голову её покрывала небольшая чёрная амазонка.
Её маленькие руки, затянутые в чёрные шёлковые перчатки, небрежно держали повод и стек – тот самый, из светлой кожи, с самшитовой рукоятью.
– Здравствуйте, Зоя Петровна, – проговорил Роман, глядя в её чёрные быстрые глаза.
– Здравствуйте, здравствуйте! – весело и звонко повторила она. – Я вас долго узнать не могла. Вижу, кто-то скачет, согпше un chevalier galant. Прямо страшно стало! Мы с Олегом Ильичом перепугались, за камень спрятались… Кстати, познакомьтесь, пожалуйста, Роман Алексеевич, это Олег Ильич Воеводин, наш большой друг.
– Очень рад, – проговорил Роман, переводя взгляд на спутника Зои и кивнув головой.
Молодой человек, учтиво улыбаясь, сделал то же самое. На вид ему было лет двадцать пять. Он был приятной наружности. Под жокейской фуражкой у него оказались курчавые белокурые волосы, лицо его с округлым подбородком, ямочками на белых щеках и маленьким круглым носом напомнило Роману тициановского Купидона.
Он только что заметил, что Воеводин облачён в коричневый полосатый жокейский костюм на английский манер. Руки в серых перчатках сжимали чёрный, длиннее обычного, стек.
– Как хорошо, что вы здесь, – проговорила Зоя, поворачивая свою лошадь на дорогу и приглашая мужчин следовать за собой. – А то мы с Олегом Ильичом уже успели умереть со скуки. Nous, pauvres russes, sommes nes dans le plus ennuyeux des pays.
– А вы… давно приехали? – Роман всеми силами старался побороть охватившее его волнение.
– Вчера вечером. Здесь по ночам ещё так холодно! Представьте себе, утром, когда Настасья топила печь, я сидела рядом и грела руки.
– Это нетрудно представить, – с улыбкой проговорил Воеводин, и они с Зоей засмеялись.
Лошади шли шагом, Зоя ехала в центре, мужчины держались по бокам.
– Я рассказывала Олегу Ильичу про вас, – говорила Зоя, вполоборота глядя на Романа, – но никак не думала, что вас можно здесь встретить. Сейчас, весною.
– Mais pourquoi pas? – спросил он.
– Parce que cela contredit votre i de dachnik.
– Vous me voulez dire que pour vous j’ai ete toujours un dachnik? – Роман резко дёрнул повод влево.
– Pas toujours! – нервно рассмеялась она.
– Et quelles sont les circonstances qui vous ont obliges a venir ici a cette epoque de Гаппёе?
– Ce serait trop difficile a vous expliquer. – Она снова нервно рассмеялась, поигрывая стеком.
– Trop difficile? – переспросил Роман, уклоняясь от молодой сосновой ветки.
– Trop difficile! – звонко откликнулась она и вдруг неожиданно резко ударила стеком по лошадиной шее.
Всхрапнув, лошадь рванулась вперёд, Зоя, грациозно изогнувшись в седле, махнула стеком у себя над головой, срезав молоденькую веточку.
– Ай да Зоя Петровна! – выдохнул от неожиданности Воеводин, и Роман удивился поразительному несоответствию глухого басовитого голоса этого человека и его купидоноподобной внешности.
Они хлестнули своих лошадей и пустились за Зоей.
Рой мыслей и чувств, как всегда бывало во время быстрой езды, охватил Романа, но это был какой-то бурный, клокочущий и поэтому нечленораздельный поток, в котором выделить что-либо было невозможно. Роман нёсся словно через пургу или сквозь раскалённые крутящиеся вихри, нёсся, видя впереди всё туже чёрную, влитую в седло фигуру.
Воеводин не отставал от него.
Краем глаза Роман заметил, что тот по-жокейски высоко привстал в стременах, вцепившись одной рукой в поводья, а другую – со стеком – на отлёте вытянув назад.
Лошадиные копыта громко врезались в мокрую землю, отвечавшую не глухим, а открытым поверхностным звуком. Дорога стала петлять, и вскоре они догнали Зою, которая придержала лошадь, опасаясь, по-видимому, многочисленных корней, выступающих из земли на этом участке дороги.
– Испугались? – весело воскликнула она, крепко натянув поводья и успокаивающе похлопывая по шее всхрапывающую лошадь.
– Вы просто настоящая амазонка, Зоя Петровна! – почти выкрикнул возбуждённый Воеводин. – Это было так неожиданно!
– Здесь легко разбиться, – пробормотал Роман, косясь на корни. – Очень неудобное место для галопирования.
– И это вы говорите? – рассмеялась она. – Ну, Роман Алексеевич, я вас не узнаю! Такой отчаянный наездник – и толкует, что можно разбиться.
– Я просто вам советовал… – пробормотал Роман, чувствуя, что начинает краснеть.
– Роман Алексеевич прав, Зоя Петровна, – промолвил Воеводин, подъезжая к ней ближе. – Здесь коварное место. Взгляните, какие корни. Они похожи на змей… – Он указал стеком вниз.
– Милый Олег Ильич, – перебила его Зоя, – я не боюсь ни змей, ни чёрта, ни papa. Я так рада, что сегодня весна, что я снова в Крутом Яре! Поедемте лучше к моему любимому месту!
– Где же ваше любимое место? – спросил Воеводин, пропуская вперёд Зою, которая, развернув лошадь, направила её по узкой просеке.
– Пока это тайна. Впрочем, не для всех… – проговорила она, улыбнувшись и кольнув взглядом Романа.
Роман вздрогнул, сердце его тяжело забилось. Он понимал, о каком месте говорила Зоя, но не мог, не хотел верить, что они направляются именно туда.
Просека за эти годы стала ещё уже, трём всадникам пришлось выстроиться друг за другом. Роман оказался последним. Он ехал шагом, изредка придерживая всхрапывающего Орлика и поглядывая на едущего вперёд Воеводина. Своей клетчатой фигурой тот полностью заслонил Зою, которая что-то напевала вполголоса, похлёстывая стеком по кустам.
“Господи, неужели это не сон? – думал Роман. – Неужели это и впрямь Зоя? С этим странным человеком? И мы сейчас едем туда?”
И словно в подтверждение того, что это действительно не сон, ветка орешины больно стегнула его по колену.
– Роман Алексеевич, не отставайте! – прозвучал впереди голос Зои.
Роман почувствовал, что губы его совсем пересохли, а сердце готово выскочить из груди. Зоя разговаривала с ним так, будто он всего лишь знакомый по летней дачной жизни и, кроме нечастых встреч у кого-нибудь на именинах за чашкой чая, их ничего не связывает.
Он лихорадочно вспоминал их встречи, объяснения в любви и клятвы верности, тайные прогулки при луне и тайные объятия. Эти картины быстро наплывали одна на другую, будоража сознание Романа; поток мыслей проносился в его голове.
“Как всё это неожиданно, – думал он. – Она совсем другая. А может, она потому так ведёт себя, что рядом этот Воеводин? А если они помолвлены? Как это всё глупо… Я еду за ними… Так вот почему она целый год не отвечала на письма… ”
Впереди мелькнул просвет, просека кончилась, кончился и лес.
Они выехали на широкое просторное место, именуемое Луговиной, и Зоя, снова ударив стеком свою лошадь, понеслась вперёд.
Роман с Воеводиным понеслись следом. Издали могло показаться, что они преследуют молодую беглянку. Луговина упиралась в берег речки, вдоль которой и направила свою лошадь Зоя.
Этот берег был ровный, почти без растительности, и назывался Лысым. Зато на другом берегу росла прекрасная берёзовая роща – постоянное место встреч и прогулок Зои и Романа. И теперь, скача по Лысому берегу, Роман смотрел направо, туда, где мелькали высокие, пока ещё голые берёзы. Над ними летали грачи, устраивая в чёрных ветвях свои гнёзда.
Зоя опережала мужчин на добрых два корпуса, её грациозная фигурка, казалось, слилась с лошадью.
Воеводин скакал всё так же на жокейский манер, а Роман, по своему обыкновению, – прямо держась в седле. Теперь он уже окончательно понял, куда вела их Зоя, и старался справиться с нервной дрожью, постепенно овладевающей им. Лысый берег тянулся недолго: промелькнули появлявшиеся то тут, то там кусты, молоденькие ивы, а потом влажная, дышащая паром земля вдруг вздыбилась, поднялась, заставив всадников натянуть поводья.
Лошади покорно остановились.
Все трое оказались на высоком обрыве. Впереди распласталось Крутояровское озеро. Голубое небо отражалось в нём, солнце играло по краю воды, наползающей на белый песчаный берег. Некоторое время все молчали, лишь вздрагивали, бренча сбруей, лошади.
– Какая красота! – покачал головой Воеводин.
– Это и есть моё любимое место, – проговорила Зоя, глядя вниз.
Роман молча смотрел туда же, до боли сжав рукоятку стека.
Зоя сказала правду. Этот обрыв действительно был её любимым местом. Каждый раз, выезжая с Романом на верховую прогулку, она не могла не оказаться у обрыва и, бросив поводья, подолгу смотрела на озеро. Обычно выражение её красивого лица было такое, словно она готовится броситься вниз и, обернувшись диковинной птицей, лететь, лететь над водою, полем, лесом. В такие минуты она, казалось, забывала обо всём, и это тревожило Романа. В нём зрело смутное предчувствие чего-то резкого и безжалостного, что может обрушиться на него по воле этой девушки-птицы, так упоённо жаждущей свободы. Теперь же в её лице, помимо неутомимой жажды свободы, появилось выражение абсолютной уверенности в себе. Роман искоса смотрел на Зою и чувствовал какой-то демонический холод, проистекающий от чёрной, влитой в седло фигуры, от прекрасного, словно выточенного из слоновой кости лица.
– Да, лихое место, – проговорил Воеводин, поправляя свою жокейскую фуражку. – Зоя Петровна, у вас голова не кружится?
– Кружится. От желания прыгнуть, – ответила Зоя, не отрывая взгляда от раскинувшихся за озером полей. – Были б у моей Розы крылья, сейчас бы так и полетели с нею над землёй…
– Et vous nous laisseriez manger par les loups du coin, – пробормотал, усмехаясь, Воеводин.
– Я люблю летать, – проговорила Зоя чуть слышно. – Очень люблю.
Они постояли молча, и вдруг Роман неожиданно для себя произнёс:
– Завтра Пасха…
Зоя повернулась и, внимательно посмотрев на него, ничего не сказала.
Воеводин быстро кивнул и произнёс рассеянно:
– М-да-с… действительно…
Роман устыдился своей фразы, а потом устыдился и собственного стыда. “Как всё глупо, – мучительно подумал он, глядя, как Зоя разворачивает лошадь. – Совсем рехнулся. Веду себя как олух…”
Развернувшись, они поехали шагом.
– Роман Алексеевич, вы надолго здесь? – спросила Зоя.
– Боюсь, что надолго.
– Почему?
– Я больше не служу.
– Правда? И кто же вы теперь?
– Ну… наверно – свободный художник.
Она улыбнулась и повторила, растягивая слова:
– Свободный художник. Но всё-таки это лучше, чем ад-во-кат.
– Я тоже так думаю, – проговорил Роман и попытался улыбнуться.
– Вы служили адвокатом? – спросил, или, вернее, выкрикнул, Воеводин, ехавший справа от Зои.
– Да, – быстро ответила за него Зоя, – у Романа Алексеевича была очень хорошая репутация. Он стольких спас от безжалостной российской Фемиды.
– Вы преувеличиваете, – усмехнулся Роман, – последнее время я был вовсе равнодушен к моим подзащитным.
– C’est difficile a croire, – молвила Зоя. – Для вас – всё что угодно, только не равнодушие. Вы не умеете быть равнодушным…
Впервые за всё это время её голос обрёл естественность и стал похожим на голос той Зои, которая была раньше. Но эти знакомые интонации не успокоили Романа, а, наоборот, укололи его сердце новой болью. Эта фраза о равнодушии невероятно просто и ярко напомнила Роману, что перед ним та самая Зоя, которую он целовал под сенью ночных лип и подсаживал в растворённое окно террасы.
И словно почувствовав это, Зоя снова резко ударила стеком свою Розу, сорвалась с места. Воеводин заспешил следом, а Роман слегка поотстал, не слишком погоняя Орлика.
Так, друг за другом, они проскакали до самого бора.
Зоя выбрала другую дорогу – широкий большак, ровно и прямо пронизывающий бор, и понеслась чёрной молнией сквозь залитый солнцем лес. Лишь на середине поля, у развилки дорог, остановила тяжело дышащую Розу, похлопав по взмыленной шее:
– Ah, ma chere petite fille.
Разгорячённый ездой Воеводин подъехал к Зое и, сняв наотлёт свою фуражку, произнёс, почти декламируя:
– Зоя Петровна, вы бесспорная чемпионка среди всех наездниц и наездников! Браво!
– Я боялась, что вы потеряетесь в бору! – рассмеялась Зоя.
– Ни за что! – выкрикнул своим хоть басовитым, но всё ещё юношеским голосом Воеводин. – Как тут замечательно! Какие места! Вот бы где устраивать скачки!
– Вы тоже так думаете, Роман Алексеевич? – неожиданно спросила Зоя, взглянув на подъехавшего и стоявшего поодаль Романа.
– Не думаю, – сухо ответил Роман.
– Ах да, вы же боялись разбиться, – насмешливо, но с какой-то мягкостью в голосе проговорила она.
– Я боялся за вас, – всё так же сухо проговорил Роман и вздрогнул, поразившись неуместности своей фразы.
Зоя замолчала, перестав улыбаться.
Воеводин непонимающе смотрел на неё. Молча они стояли на развилке. Правая дорога вела в сторону дома Романа, левая – к Красновским.
Роман приподнял шляпу:
– Прошу простить. Мне уже пора.
– Очень рад был познакомиться, – кивнул Воеводин.
– До свидания, Роман Алексеевич, – тихо проговорила Зоя.
– До свидания, – ответил Роман и, развернув Орлика, хлестнул его стеком по крупу.
VII
“Боже мой, неужели это была Зоя?! – мысленно в который уже раз спрашивал себя Роман, расхаживая по своей комнате и нервно куря. – Холодная красотка с патологическим кокетством, упивающаяся собой, – Зоя? Зоя – не замечающая меня, Зоя – со смехом принимающая идиотские комплименты этого клетчатого паяца? Зоя – с артистической глумливостью перечёркивающая всё, что было между нами? Не верю, не верю!..”
Сжав себя пальцами за локти, он присел на кровать.
Его душа напоминала теперь большое и глубокое горное озеро, растревоженное и взбаламученное неожиданно налетевшим на него штормом. Ещё вчера гладкая, как стекло, поверхность с величественным спокойствием отражала простёршийся над ней голубой небосклон, а сегодня мутные пенные валы с грохотом обрушиваются на каменные берега, грозя разбить их и вырваться на свободу. Все чувства, помыслы и переживания, связанные с Зоей, что дремали в глубине этого озера под прозрачной толщей обыденного и повседневного, теперь ожили и с шумом поднялись на поверхность.
“Я одного не могу понять, – размышлял Роман, жадно втягивая в себя дым. – Если она действительно забыла меня, то почему так зло играет со мной? Эта демонстративная поездка на место наших тайных свиданий, эти колкости в мой адрес… Если она полюбила Воеводина или ещё кого-то, то отношение ко мне по всем законам женской психологии должно быть мягкое и доброе. Даже грязных соблазнителей женщины впоследствии вспоминают, как правило, без злобы. Но – я! Я же любил её и люблю. Неужели она не видит этого? Или не хочет видеть? А может, она на меня в обиде? Но за что? Я столько раз посылал ей письма и ни разу за три года не получил ответа. Один Бог знает, что я пережил тогда. Я думал, что она больна, но потом выяснил через знакомых, что Зоя Красновская – жива, здорова и даже берёт уроки игры на фортепиано у Блюменфельда… А может, я обидел её раньше? Но чем?”
Он провёл рукой по своим мягким вьющимся волосам и рассеянно потёр висок. Сегодняшняя Зоя совершенно не укладывалась в рамки старых представлений и воспоминаний о ней. Сравнивать этих двух абсолютно разных девушек было мучительно трудно, и чувствительное сознание Романа буквально разрывалось, силясь совместить прежнюю Зою и теперешнюю.
Неужели за три года человек способен так перемениться? Где её искренность и непосредственность? Где порывистость и доверчивость? Где, наконец, её честность – тот нелицеприятный критический взгляд на людей, всегда выделявший её в кругу сверстниц? Неужели она не видит, кто рядом с ней? Иль она вправду влюблена в этого клетчатого жокея?”
– Я должен с ней говорить, – неожиданно произнёс он вслух.
Папироса успела потухнуть.
Роман бросил её в пепельницу, встал с кровати и подошёл к окну Оно было раскрыто, длинные лучи вечернего солнца ползли по еле колышущимся занавескам. Озарённый этими красноватыми лучами сад казался зловещим. Что-то угрожающее было в переплетении тёмных ветвей, кое-где тронутых алой кровью заката. Да и земля, раскинувшаяся за садом пахаными и непахаными полями, тоже выглядела сумрачно и отчуждённо. Виднеющийся за полями лес багровел, слившись с алыми слоистыми облаками, в которых плавился оранжевый солнечный диск.
Оперевшись руками о подоконник, Роман долго вглядывался в необычный пейзаж, и чувство тревоги постепенно овладело им. Он всегда остро чувствовал связь с родной природой, а иногда и вовсе ощущал себя частью этих полей и лесов, переживая в душе все их перемены. Теперь же этот неестественно красный закат ещё больше встревожил и без того возбуждённую душу Романа.
Стоявшая кругом тишина усиливала впечатление. “Кровь… – подумал Роман и прошептал: – Кровь”. Он вдруг явственно представил себе худые руки Христа, пригвождённые к кресту, и содрогнулся от привычного, сотни раз испытанного переживания. Оно проснулось в нём в юношеском возрасте, когда история Иисуса Назарянина перестала быть простой книжной историей и вошла в юную душу Романа огненным стержнем веры. И, как часто бывает в юности, он уверовал сразу, уверовал бесповоротно и сильно, обретя на всю жизнь тот прочный неколышимый фундамент, позволяющий по-настоящему верующим людям жить без страха и упрёка. Именно так и жил Роман. Вера дала ему некое новое небо – огромное и бесконечное, на фоне которого проплывали облаками различной конфигурации все душевные порывы Романа: любовь и ненависть, радость и надежда, грусть и печаль, горе и, наконец, сомнения. Здесь было всё, но ничто из всего этого не могло уже затуманить ту беспредельную синеву, раскинувшуюся в душе Романа от края и до края…
Роман любил Христа как Бога, но как человека он переживал Его. Это было сложное невыразимое чувство, целиком охватывающее Романа и заставляющее его отождествляться с Иисусом, ощущая все движения Иисусовой души. Роман всё пропускал через свою душу – Нагорную проповедь, исцеление прокажённого, моление о Чаше. Во всех случаях душа его трепетала радостью, и он явственно понимал, что такое быть в Духе.
И только слова “распят же за ны при Понтийстем Пилате” давали волю боли и отчаянию. Роман понимал, что распятие – поистине самая страшная казнь для человека: подвешенный между небом и землёй, оторванный от людей и от Бога, он умирает, чувствуя страшное сиротство и физические страдания. Только смерть способна избавить его от мук. И всё существо Романа содрогалось, чувствуя, как широкие четырёхгранные гвозди намертво входят в его ладони…
Остаток вечера Роман провёл у себя в комнате, куря и прохаживаясь по скрипучему полу. Солнце зашло, миновали голубоватые весенние сумерки, из окна потянуло холодом, наступила пасхальная ночь.
Роман почувствовал, что озяб, сунул папиросу в переполненную окурками пепельницу и, подойдя к окну, стал закрывать его. В этот момент старый сорокапудовый колокол крутояровской колокольни протяжным басом возвестил на всю округу, что пора идти к заутрене. Вслед за этим внизу послышались женские голоса. Роман принялся собираться. Переменив рубашку, он облачился во всё тот же серый костюм с жилеткой, повязал сдержанного голубого тона галстук и спустился вниз.
Там в прихожей Лидия Константиновна и кухарка Аксинья громко помогали Антону Петровичу влезть в синее осеннее пальто, а он, кряхтя и двигаясь своим грузным телом наподобие тюленя, бормотал ругательства в адрес далёкого портного, подложившего, по его мнению, слишком много ваты в подстёжку рукавов.
– Чтоб тебя собаки сожрали… чтоб тебе… ни дна ни покрышки… – бормотал Антон Петрович.
– Антоша! Антоша! – укоризненно качала головой Лидия Константиновна. – Перестань, пожалуйста….
Наконец пальто было надето, и Аксинья принялась старой платяной щёткой чистить спину Антону Петровичу, а он, повернувшись к Роману, нравоучительно поднял вверх свой толстый палец:
– Вот, сударь вы мой, что бывает, когда доверишься мошеннику!
– Полноте, Антоша. Ну какой он мошенник? – качнула головой тётушка, поправляя выбившееся кашне. Она была уже одета в своё лёгкое бежевое весеннее пальто, подчёркивавшее её прекрасно сохранившуюся фигуру.
– Мошенник, истино мошенник… – не унимался Антон Петрович, застёгивая пуговицы и берясь за свою неизменную черешневую палку. Аксинья, открыв картонную коробку, достала шляпку с вуалью и подала Лидии Константиновне.
Роман надел пальто, шляпу и вскоре уже шёл рядом с четой Воспенниковых, вдыхая сырой ночной воздух, вслушиваясь в размеренные удары колокола. Дорога к церкви пролегала сквозь дубовую аллею, затем тянулась вдоль речки и по деревне. Можно было идти коротким путём— через школу и дом Рукавитинова, но такой путь показался Антону Петровичу не по-праздничному поспешным. Лидия Константиновна была солидарна с ним.
Шли молча. Только поотставшая Аксинья вздыхала, изредка бормоча: “Господи, Твоя воля”.
Когда шли по берегу, Роман залюбовался бледным месяцем, чисто и спокойно отражающимся в чёрной воде. Ему подумалось, что звон идёт от этого неяркого серпа, повисшего над сумрачной зеленью.
На деревне было оживлённо.
Мужики, бабы, ребятишки, по-праздничному одетые, все шли к церкви, галдя и переговариваясь. Завидя чету Воспенниковых и Романа, мужики, снимая картузы, кланялись, а бабы громко здоровались в темноте, склоняя свои аккуратные, повязанные новыми белыми платками головы. Возле церкви разговоры смолкали, все дружно крестились и тихо входили. Только совсем маленькие ребятишки бродили возле, смеясь и озорничая.
Прежде чем войти, Роман оглядел церковь.
Это было незатейливое каменное строение, сложенное почти полвека назад и стоявшее прочно, на радость крутояровцам. Вокруг храма не было ни ограды, ни кладбища, лишь два гранитных креста торчали из земли почти возле самых зарешёченных окон. Под ними покоились отец Владимир и отец Ювеналий – священники, ранее содержавшие Крутояровский приход. Отец Владимир умер молодым сорок два года тому назад и помнился только местным старожилам, отца Ювеналия Роман смутно помнил – этот тихий, любящий уединение человек умер, когда Роману было шесть лет.
Оба купола – и придела, и колокольни – были в весьма плачевном состоянии, что было заметно и в сумерки. Но стены храма, выступы и перекрытия светились белизною – в прошлом году его основательно побелили. Колокол, ухавший над самой головой, смолк, послышалось слабое кряхтенье старого звонаря Григория, спускающегося вниз по узкой винтовой лестнице.
– Всегда опаздываем, – пробормотала тётушка и первой вошла в раскрытую настежь дверь храма.
Роман вошёл следом и, вдохнув до боли родной запах ладана и горячего воска, улыбнулся радостной, почти детской улыбкой.
Церковь была полна народа. Сотни свеч озаряли её.
Справа, как обычно, стояло мужское население Крутого Яра: старики, мужики и молодые – все одетые по-праздничному, в новых пиджаках и кафтанах. Слева расположились бабы с детьми, старухи и молодые девки. Эта половина пестрела плисовыми поддёвками, плюшевыми фуфайками и разноцветьем юбок и платков.
Было празднично, светло, тепло, слышался тонкий голос дьяка, уже кончающего читать “Деяния святых апостолов”.
Купив свечку и пропустив вперед тётушку с дядей Антоном, Роман двинулся за ними по узкому, еле различимому проходу, и по мере того как они пробирались вперед, все поворачивались и смотрели на них. Впереди на аналое дьяк, облачённый в серебристый стихарь, читал “деяния”, вокруг него полукругом стояли первые ряды.
Дядюшка с тётей встали справа, поближе к алтарю, Роман, по своему обыкновению, прошёл налево и встал у самой стены, между иконами святых Пантелеймона и Варвары.
Дьяк читал плохо, неразборчиво, глотая слова, но это нисколько не опечалило Романа, он с радостным, праздничным чувством стоял, держа в окрещённых на животе руках шляпу, и скользил глазами по всему, что его окружало. Напротив, по ту сторону аналоя, рядом с Антоном Петровичем и Лидией Константиновной стояли Пётр Игнатьевич и Надежда Георгиевна Красновские. Ни Зои, ни Воеводина с ними не было. Зато большой группой теснились многочисленные родственники и знакомые о. Агафона и Варвары Михайловны, стоявшей в их окружении.
“Зои нет, – подумал Роман, и тоска опять наполнила его сердце. – Значит, она и в церковь уже не ходит… Да впрочем, не в этом дело. Ведь это личное, тайное… Но где же она? С этим Воеводиным? Как это глупо.
Он бессознательно, но искренне надеялся, что она непременно будет в церкви, и его праздничное настроение отчасти было и из-за этого. Он видел в этом последнюю надежду, ибо это была их церковь, в которую они почти всегда ходили вместе…
Дьяк читал, а Роман всё более и более погружался в свою печаль, равнодушным взглядом скользя по лицам. Все улыбались ему: и Пётр Игнатьевич, и Надежда Георгиевна, и какая-то дальняя родственница отца Агафона, но он уже не различал этих улыбок.