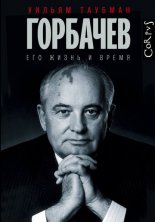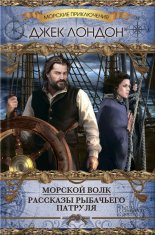Русская культура заговора Яблоков Илья

Книга издана при поддержке Фонда имени Генриха Бёлля
Редактор Наталья Нарциссова
Научный редактор Валентина Быкова, канд. полит. наук
Руководитель проекта А. Казакова
Дизайн обложки А. Бондаренко
Корректоры И. Астапкина, М. Миловидова
Компьютерная верстка М. Поташкин
© Ilya Yablokov, 2018
This edition is published by arrangement with Polity Press Ltd., Cambridge
© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «Альпина нон-фикшн», 2020
Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.
Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
Посвящается моим родителям, Ольге и Александру
Благодарности
У этой книги долгая история: с момента, когда у меня впервые возникла идея написать о теориях заговора в России, и до ее выхода из типографии прошло около 14 лет. За эти годы я встретил множество людей, которые помогли мне продумать теоретическую часть работы, подобрать правильные примеры, чтобы проиллюстрировать историю конспирологии в России, критически отнестись к тому, что я говорю и пишу, и словом и делом содействовали тому, чтобы довести этот проект до конца.
Все началось в Томске, в 2005 г., когда Виктор Мучник после кафедрального спецсеминара предложил «повнимательнее» посмотреть на конспирологию. Этот совет во многом определил всю мою академическую карьеру. Однако она никогда не сложилась бы без безграничной поддержки профессора Манчестерского университета Веры Тольц. Она не только поверила в проект, как только увидела описание моей докторской, но и сделала все, чтобы помочь мне стать профессиональным ученым. Вера Тольц и Виктор Мучник по справедливости могут считаться ролевыми моделями настоящего гуманитарного ученого, и я благодарен судьбе за то, что она свела меня с ними. Внимательное и критическое отношение к идеям и текстам, вдумчивые разговоры с учениками, креативное мышление и фундаментальные знания – все это стало основой формирования моего научного мировоззрения.
Однако подарить идею и поверить в нее – это одно, а создать условия для успешной работы – совсем другое. Мой академический путь пролегал через несколько институций. На кафедре методологии истории исторического факультета ТГУ мне не только дали фундаментальные знания, но и поддерживали мои самые экстравагантные академические идеи, за что спасибо, в первую очередь, Олегу Хазанову и Николаю Соколову. Первый опыт работы в международном коллективе и обсуждения теорий заговора я получил благодаря «Сэферу» – московскому центру научных работников и преподавателей иудаики в вузах. Рашид Капланов, Семен Гольдин, Виктория Мочалова, Ирина Копченова, Анна Шаевич, Михаил Туваль, Даниил Романовский, Виктор Шнирельман – среди тех, кто помог мне ощутить вкус настоящей академической жизни. Майкл Миллер, Алексей Миллер, Антон Пелинка, Миклош Шукошд – профессора Центрально-Европейского университета в Будапеште – сделали многое, чтобы сырая идея проекта о теориях заговора в России превратилась в четкий план работы и, впоследствии, в докторскую, написанную в Манчестерском университете. Там же, в Манчестере, мне повезло поработать с одним из столпов академического изучения теорий заговора – Питером Найтом. Будучи докторантом одной из лучших в мире академических программ в области славистики, я имел возможность трудиться вместе с прекрасными коллегами Стивеном Хатчинсом, Линн Эттвуд, Елизаветой Алентаевой и Еленой Симмс, а также быть частью активного сообщества молодых исследователей России, среди которых хочется особенно отметить Янека Гриту, Алистера Дикинса, Виталия Казакова, Марко Бьясиоли, Дениса Волкова, Пола Ричардсона, Светлану Горшенину и Кензи Берчелла. И разумеется, отдельную благодарность выражаю моему другу и постоянному соавтору Элизабет Шимфоссль, совместно с которой мы начали в Манчестере многие проекты.
Сама книга была написана в Университете Лидса, где благодаря поддержке коллег и друзей я сумел довести ее до ума и отдать рукопись в издательство. Джеймсу Харрису, Джеймсу Уилсону, Наталье Богославской, Роберту Хорнсби, Натану Брэнду, Павлу Гудошникову, Валерию Частных сердечное спасибо за то прекрасное время, что мы провели вместе, за поддержку и интереснейшие разговоры о России и не только. А представители молодого поколения специалистов по российской политике, истории, антропологии и социологии стали моими главными критиками и помощниками. Среди них Ольга Зевелева, Всеволод Самохвалов, Арсений Хитров, Мариэль Вийермарс, Александра Симонова, Полина Колозариди, Александра Архипова, Тарас Федирко, Лиза Гауфман, Григорий Асмолов, Егор Лазарев, Наталья Форрат.
Я благодарен и своим старшим коллегам – некоторые из них впоследствии стали моими друзьями – за безусловную поддержку и щедрость. Борис Куприянов, Максим Трудолюбов, Василий Гатов, Ольга Шергова, Сэм Грин, Марлен Ларюэль, Питер Померанцев, Лара Рязанова-Кларк, Люк Марч, Элиот Боренштайн, Стивен Норрис, Зара Торлон, Марк Бассин, Сергей Самойленко, Владимир Гельман, Мария Липман, Юрий Сапрыкин, Анна Наринская, Илья Калинин, Александр Эткинд, Александр Морозов – спасибо вам!
Спасибо моим друзьям: Андрею Рябинину, Вадиму Нигматову, Геворгу Аветикяну, Марии Скрипальщиковой, Юлии Кузмане, Анастасии Степанянц, Ирине Баулиной, Алексею Пономареву, Анне Косинской, Анатолию Каргаполову, Самуилу Вольфсону, Николаю Воронину, Нине Рожановской, Оксане Вождаевой, Сергею Пермякову, Оксане Мороз, Константину Гаазе, Виктору Вахштайну, Андрею Горянову, Тиграну Амиряну, Илье Мясникову, Юлии Эмер, Максиму Буеву, Надежде Древаль, семейству Чурбаковых, Алексею Ковалеву.
Нурие Фатыховой и Наталии Виттол из фонда Генриха Белля я выражаю благодарность за финансовую поддержку в процессе подготовки российского издания книги. Валентине Быковой – за научную редактуру. Коллективы издательств «Polity» (в особенности Джона Томпсона) и «Альпины нон-фикшн» – Павла Подкосова, Александру Казакову и Дарью Петушкову – благодарю за саму возможность издать эту книгу и за помощь в процессе издания.
Всего этого, конечно же, никогда не случилось бы, если бы не моя семья и мои родители – Александр и Ольга Яблоковы. Именно благодаря их любви и заботе у меня многое получилось. Любых слов, чтобы выразить мои чувства, будет недостаточно. Жаль только, что мой отец уже никогда не прочтет эту книгу. Ему бы понравилось, но и поспорили бы о многом…
И наконец, спасибо Ольге. За все. Что было и что будет.
Санкт-Петербург, январь 2020 г.
Антирусский заговор, безусловно, существует – проблема только в том, что в нем участвует все взрослое население России.
ВИКТОР ПЕЛЕВИН. GENERATION «П»
OXXXYMIRON. ВСЕ ПЕРЕПЛЕТЕНО
- Все переплетено, море нитей, но
- Потяни за нить, за ней потянется клубок.
- Этот мир – веретено, совпадений – ноль.
- Нитью быть или струной, или для битвы тетивой.
- Все переплетено, в единый моток.
Введение
Все переплетено
«Это неспроста», «Кому-то это выгодно» – наверняка вам доводилось слышать подобные комментарии к событиям в мире, России или даже собственном городе. Невидимая рука таинственных выгодоприобретателей обнаруживается всякий раз, когда требуется объяснить, почему «обычные люди, как мы» стали жить хуже или почему то или иное несчастье случилось именно с нами. Взрывы в метро, невзлетевшие ракеты, финансовые кризисы – что бы ни происходило в мире и в России, одна объяснительная модель возникает вновь и вновь: это заговор, зловещий план тайной силы, стоящей за чередой исторических событий и превратившей жизнь россиян в мучения.
Чтобы избежать недопонимания предмета исследования, дадим определение теории заговора сразу же, на первой странице: теория заговора – это способ восприятия реальности, основанный на идее о том, что миром правят тайные силы.
Поскольку выражение «теория заговора» состоит из двух частей – «теория» и «заговор», важно пояснить: заговоры действительно существуют, больше того – они являются частью нашей повседневности. Спецслужбы, политики всех уровней, наконец, чиновники и офисные работники с разными целями договариваются о чем-то, не афишируя эти договоренности, и таким образом пытаются достичь каких-то своих целей. Как же понять, что перед нами теория заговора, а не заговор? Те, кто утверждает, что зловещие тайные умыслы реальны, ссылаются на заговоры, существовавшие в истории, – это их главный аргумент. Однако наличие определенных критериев показывает, что перед нами только теория – размышление, интерпретация событий особым образом. Вот эти критерии:
Наличие тайного плана, преследующего своей целью уничтожение мира или государства, мировой финансовый кризис. При этом почти никто в мире не подозревает, что такой план существует. О нем мы узнаем из конспирологического текста.
Наличие тайной организации, которая и занимается реализацией тайного плана. В ней могут состоять как люди, так и существа, не имеющие ничего общего с homo sapiens (например, знаменитые рептилоиды Дэвида Айка[1]).
Результатом реализации тайного плана, как правило, становится ухудшение условий жизни того сообщества, где данная теория заговора популярна. В редких случаях в современной поп-культуре можно обнаружить тайные общества, пытающиеся защитить человечество от угрозы, но такие примеры невероятно редки (разве что тайные общества супергероев Голливуда).
В сухом остатке тайная организация стремится получить в свои руки еще больше власти, чем у нее есть. В этом плане теории заговора ставят вопрос о власти не хуже большевиков! Впрочем, тут кроется и одно из противоречий конспирологии: если какая-то группа способна организовать глобальный заговор, значит, у нее уже достаточно власти. Но авторы теорий заговора никогда не останавливаются в своих поисках виновных: раз жизнь ухудшается, значит, ненасытные заговорщики продолжают свое черное дело.
Не будет преувеличением сказать, что теории заговора стали одним из самых популярных способов интерпретации социальной и политической реальности постсоветской России. И это не только эмпирические наблюдения человека, больше 15 лет исследующего теории заговора. Хотя количественных исследований этой темы фактически нет, на какие-то данные мы опираться можем. Согласно исследованию агентства «Медиалогия», количество упоминаний различных теорий заговора («заговор историков против России», масонский заговор, ГМО как заговор) за последние семь лет выросло в шесть – девять раз[2]. Среди теорий, покоривших сердца россиян, есть и всемирно популярные – о том, что СПИД придуман в медицинских лабораториях, а Земля плоская, – и традиционные, характерные только для российского общества, – об антироссийском заговоре.
Идея о том, что Россия ежесекундно подвергается атакам Запада снаружи и изнутри при содействии «пятой колонны вредителей», волнует умы многих (или, по крайней мере, занимает обширное пространство в публичной сфере): книжные полки российских магазинов в разделах «история» и «политология» ломятся от работ о «врагах России». Многочисленные телешоу рассказывают об ущербе, который наносят российскому государству и его гражданам западные политики и их «марионетки». А во время украинского кризиса 2014–2016 гг. казалось, что российское общество буквально помешалось на поиске внутренних врагов национального единения на почве «возвращения» Крыма.
Однако события 2014 г. и охватившая тогда российское общество волна паранойи (отголоски которой мы чувствуем и сегодня) тесно связана с другим важнейшим политическим событием ХХ в. – развалом СССР, произошедшим в 1991 г. и во многом обусловившим российскую культуру заговора конца ХХ и начала XXI вв. Распад СССР – центральный элемент российской культуры заговора и, если угодно, главная конспирологическая теория постсоветского периода. Кто способствовал развалу громадного государства за считаные месяцы 1991 г.? Имел ли место сговор советского и российского руководства с геополитическим врагом СССР – США? Куда после 1991 г. делось золото партии? Кто стоял за планом перестроечных реформ и насколько советское руководство подготовилось к тяжелейшему трансферу власти? Все эти вопросы будоражат как обычных граждан, так и элиты. Недоверие, пропитавшее все слои российского общества, распространилось и на тех, кто был у руля государства в годы коллапса и неолиберальных экономических реформ. Потрясение от развала империи не обошло стороной и руководство страны (вспомним восприятие Путиным демонстраций в Германии в 1989 г.), поэтому некоторые предложения о радикальном отделении России от мира (или, вернее сказать, от Запада) нередко становятся стратегическими концептуальными решениями для российского правящего класса.
За десять лет до присоединения Крыма и попыток изолировать Россию от западных партнеров Михаил Юрьев, известный бизнесмен, в прошлом депутат и заместитель председателя Госдумы, опубликовал статью под названием «Крепость Россия: концепция для президента», в которой приветствовал культурную изоляцию России от Запада с целью сохранения нации[3]. Чрезмерная открытость, по словам Юрьева, грозит России разрушением. Эта идея, мягко говоря, неуникальна и отсылает к радикальным взглядам славянофилов второй половины XIX в., а также к политической и культурной изоляции времен холодной войны, когда конспирологическое деление мира на своих и чужих было идеологически легитимно. Однако для молодой путинской России, на ранних этапах готовой даже вступить в НАТО, предложение Юрьева стало знаком времени: именно в том году начался полномасштабный идеологический поворот в сторону антизападничества. Юрьевская статья оказалась во многом визионерской: то, что в 2004 г. начиналось как попытка предложить альтернативную повестку и приручить теории заговора с целью разрушить репутацию политических оппонентов Кремля, к 2019 г. превратилось в культурный мейнстрим: что бы ни происходило в России или у ее границ – все это коварные козни Запада. Точка. А значит, читалось в работе Юрьева, граждане должны сплотиться вокруг власти, ведь она единственная способна защитить их от внешнего заговора. Объединение народа и власти таким образом вновь сделало бы Россию великой. Хотя в 2004 г. Россия была еще далека от полной изоляции, а ее элиты вполне интегрированы на Западе, страх потерять власть заставил и продолжает заставлять российский политический класс снова и снова апеллировать к идее заговора и идее «крепости», чтобы найти поддержку в обществе.
Но так бывает не только в России: в США после неожиданной победы Дональда Трампа началась настоящая истерия по поводу влияния Кремля на нового президента и воздействия российских хакеров на выборную систему США[4]. В американском обществе возродились страхи времен холодной войны: согласно многочисленным публикациям в местной прессе, российские интернет-тролли из петербургского Ольгино[5] и всесильные хакеры из ГРУ[6] сумели «взломать Америку». Глубоко мифологизированный образ русского стал важной частью внутриполитической американской повестки[7], а «русский след» начали видеть за самыми разными событиями в США и во всем мире[8]. «Опасная Россия» вновь стала хорошо продаваться за рубежом, прямо как во времена холодной войны, а прежние иконы либеральной Америки за считаные месяцы превратились в главных провозвестников «русского вторжения» в американскую жизнь[9]. «Параноидальный стиль сознания» (о котором пойдет речь в главе 1), как показал 2017 г., характерен для всех сегментов политического спектра даже самого, казалось бы, демократического общества.
Внутри России у этой истерии было две, на первый взгляд, противоречащие друг другу трактовки. Первая: русофобия на марше во всем мире, что еще раз доказывает, что Россия в кольце врагов. Вторая: русских теперь боятся, как в прежние времена, а это успех![10] Страхи американцев послужили подпиткой чувства гордости россиян и подтверждением того, что Россия и в самом деле перевернула шахматную доску американской политики. Результаты американского расследования взаимоотношений Трампа с Кремлем и степени влияния российских хакеров на Facebook продемонстрировали, насколько минимальным был эффект этих усилий со стороны России[11]. Тем не менее, я уверен, многие остались убеждены в том, что все подобные доказательства – плод очередного антирусского заговора.
Удивительно, насколько российское и американское общества похожи в своем стремлении повсюду находить заговоры. Конспирология была и остается основополагающим элементом национальной идентичности, политики и популярной культуры американцев[12]. Историк Тим Мэлли даже назвал свою книгу на эту тему «Империя заговора»[13], и этой же теме посвящены многочисленные работы, исследующие феномен теории заговора в мировой науке. Внимательный сравнительный анализ демонстрирует, что, несмотря на все социокультурные расхождения, Россия и США имеют много общего в плане «культур заговора». Именно этот термин, предложенный британским историком Питером Найтом для описания традиции теории заговора в США, я и буду использовать для описания объекта своего исследования.
В российской истории последних нескольких веков страхи заговора возникают регулярно[14] – под подозрением оказываются то франкмасоны, то евреи, то католики, то разные шпионы, – точно так же как и в США[15]. Идея «Москва – Третий Рим» имеет определяющую роль для российской националистической традиции и легитимирует восприятие России как особенного, не похожего на другие государства, имеющего глобальную миссию, которой угрожают коварные планы извне[16]. Точно так же в США концепция «Города на холме» – мессианской идеи об избранности американского народа – со времен основания первых американских колоний играла роль катализатора страхов заговора[17]. В течение большей части ХХ в. и в США, и в СССР идеологии конструировались вокруг идеи противостояния мощнейшему врагу, который строит разнообразные козни, чтобы уничтожить соперника. С окончанием холодной войны эти идеи, как показывает практика, не исчезли, но с разной степенью силы вновь проявились и в США, и в России.
Однако между американской и российской культурами заговора есть одно важное различие: в США теории заговора традиционно вырастают с низовых уровней общества как реакция на меняющиеся социально-культурные и политэкономические условия, но при этом по большей части остаются на обочине политической риторики. Исключения немногочисленны, и, пожалуй, самое яркое – «охота на ведьм» середины ХХ в., когда на несколько лет одним из главных политиков в стране стал конгрессмен Джо Маккарти, буквально во всем видевший происки коммунистов[18]. В результате его деятельности тысячи людей были уволены по подозрению в шпионаже и сочувствии СССР. Итогом этой паники стал своеобразный неформальный запрет на использование риторики заговора в политической речи, традиционно сохранявшийся до прихода в Белый дом Дональда Трампа[19].
В постсоветской России, напротив, именно политические и интеллектуальные элиты выступают основными производителями, распространителями и выгодоприобретателями теорий заговора. Во многом это похоже на происходящее в авторитарных государствах Латинской Америки, стран Ближнего Востока и Малой Азии. В Турции идея «глубинного государства» стала важным инструментом внутренней мобилизации для сторонников авторитарного режима Эрдогана[20]. Как показал Нефес Тюркай, на протяжении второй половины ХХ в. эта идея была важным инструментом мобилизации сторонников различных политических движений[21]. Ее даже удалось успешно экспортировать в США, где «глубинное государство» породило одну из самых популярных теорий заговора последнего времени – движение QANON[22]. Политолог Мэтью Грей в исследовании конспирологии в арабских странах Ближнего Востока назвал государство главным «рассказчиком теорий заговора»[23]. Грей продемонстрировал, что эти теории стали важным способом легитимизации политических режимов и способствуют социальному сплочению граждан в периоды, когда общество сталкивается с растущими экономическими и социальными трудностями. Это позволяет лидерам ближневосточных государств удерживать власть в своих руках. То же можно сказать и о России последних 15 лет, однако здесь присутствует одна сугубо российская особенность: местная политическая элита стремится превратить теории заговора в популярный политический инструмент общественной мобилизации в период наибольшего за весь постсоветский период экономического процветания. Почему так происходит – я попытаюсь рассказать на страницах этой книги.
Моя цель одновременно проста и довольно амбициозна: несмотря на изредка появляющиеся публикации о теориях заговора в России, пока нет ни одной работы, которая доходчиво и концептуально объясняла бы природу этих теорий и способы, которыми их можно научно изучать. В последние годы в зарубежной историографии стало появляться больше работ, связанных с российской культурой заговора, тем не менее в самой России на этот счет до сих пор существует масса предубеждений и присутствует непонимание того, что такое теории заговора[24]. Эта книга – попытка осмыслить эволюцию конспирологического мышления в постсоветское время, основываясь на текстах представителей политической и интеллектуальной элиты России. В то же время это и попытка открыть научную и общественную дискуссию о том, что такое культура заговора в России, и помочь всем нам, интересующимся этим вопросом, отрефлексировать, насколько мы сами погружены в культуру заговора и в какой мере может быть нормальным верить в заговор.
Рассматривать теории заговора в отрыве от политической повестки дня, разумеется, можно. Однако для лучшего понимания того, почему конспирология в качестве объяснения происходящему приемлема для многих россиян, стоит взглянуть на два эпиграфа к этой части книги. Первый – известная цитата Виктора Пелевина об «антирусском заговоре» как производной массовых иллюзий и снятии с себя ответственности за происходящее. Теории заговора часто определяются как способ взаимодействия с реальностью, в которой человек, верящий в заговор, склонен делать это из чувства собственного бессилия[25]. Социальная критика раннепостсоветского общества указывает здесь на традиционное представление о чьей-то ответственности за происходящее, вульгарно описываемое фразой «опять американцы нагадили в подъезде». Популярность этой объяснительной модели с начала 1990-х, гениально отраженная Пелевиным, указывает на одну из форм бытования и популяризации теорий заговора в российском обществе, часто используемую провластными или националистическими авторами.
Второй эпиграф – строчка из песни Оксимирона «Все переплетено». Эта песня – яркое, полное метафор полотно об условно-мифическом месте Горгороде, где вся власть монополизирована криминальным Левиафаном с всесильным и коррумпированным мэром. Писатель-протагонист Макс описывает эту реальность, где все друг с другом связаны через семейные или коррупционные связи, а допустить мысль о том, что даже самый параноидальный сценарий событий может оказаться реальностью, – часть возможных опций. И этот образ не так далек от российской повседневности[26]. Песня, созданная спустя почти два десятилетия после текста Пелевина, показывает другую плоскость бытования и использования теорий заговора – как часть модуса мышления российской политической оппозиции правящему режиму, как способ его социально-политической критики, пусть и своеобразной.
В этих двух плоскостях мы и будем рассматривать феномен теорий заговора в постсоветском контексте. Мы разберем причины того, почему российские политические и интеллектуальные элиты (как провластные, так и либеральные) столь часто используют в своих кампаниях теории заговора и как это помогает бороться за власть в обществе. Поскольку рынок производства теорий заговора направлен прежде всего на внутрироссийское потребление, я сфокусируюсь на том, как достигается общественная мобилизация в поддержку той или иной политической платформы через теории заговора, как эти теории помогают создать национальную идентичность, а также как они способствуют общественному сплочению.
На страницах книги я попытаюсь дать ответы на следующие вопросы:
Какую роль играют публичные интеллектуалы в процессе создания и распространения теорий заговора?
Какие ключевые события прошлого и настоящего способствовали популярности теорий заговора на постсоветском пространстве?
Как политические и интеллектуальные элиты постсоветской России используют конспирологические концепты, появившиеся в имперский и советский период?
Как теории заговора становятся инструментом электоральных процессов?
Как теории заговора помогают сохранить и преумножить власть правящих элит и как они используются оппозиционными Кремлю движениями?
Какова роль теорий заговора в эскалации кризиса в Украине в 2014–2016 гг.?
Процесс демократизации, запущенный Михаилом Горбачевым в конце 1980-х, помог создать в России ключевые институты демократического общества, которые, впрочем, позднее, в 2000-х, были сильно изменены и дискредитированы правящими политическими элитами. Транзиту российского государства к авторитарному режиму способствовали, в частности, теории заговора, подрывающие репутации политических оппонентов и легитимирующие авторитарное законодательство. Тем не менее эти идеи до сих пор рассматриваются как неотъемлемая часть маргинальных идеологий – как эксцентрические и параноидальные. В этой книге я пытаюсь «нормализовать» теории заговора, найти другой способ описания этих идей, показав их центральное место в политическом дискурсе любого политического режима. А для этого необходимо обратиться к истории исследования явления и взглянуть на то, какие способы изучения теорий заговора в последние несколько десятилетий используют западные коллеги.
Глава 1
Как изучать теории заговора?
Это, пожалуй, один из ключевых вопросов книги: как можно изучать нечто настолько странное, как теории заговора? Тем более в России, где не было проведено ни одного количественного и качественного исследования этого явления. Тем не менее задел уже есть: за последние 20 лет в зарубежной славистике был опубликован ряд работ о разных аспектах культуры заговора в России. Кит Ливерс[27], Элиот Боренстайн[28] и Тигран Амирян[29] исследовали теории заговора в современной постсоветской литературе, а Ольга Сконечная изучила русский параноидальный роман ХХ в.[30] Юлия Федор проследила эволюцию теорий заговора, связанных со спецслужбами[31]. Анна Разувалова[32] проанализировала современные российские документальные фильмы, а Александр Панченко[33], Анастасия Астапова[34], Александра Архипова и Анна Кирзюк[35] исследовали конспирологическую компоненту в современных российских фольклорных практиках. Сергей Голунов проанализировал, как теории заговора проникают в российское образование через учебники[36], а Марлен Ларюэль[37] и Константин Шейко[38] – как эти теории становятся ключевой интерпретативной рамкой исторического прошлого. Были также предприняты попытки рассмотреть теории заговора в качестве элемента внешней политики[39] и международных отношений[40], а также взглянуть на то, как обстоит дело с ними в бывших советских республиках[41].
На русском языке было напечатано несколько работ, освещающих теории заговора на постсоветском пространстве. В 1999 г. Вардан Багдасарян выпустил монографию о развитии конспирологических идей в новое и новейшее время. Он рассмотрел огромное количество текстов, содержащих теории заговора и появившихся в русской интеллектуальной мысли за период с XVIII до начала XXI в.[42] Похожий подход избрал и Михаил Хлебников, изучивший эволюцию конспирологического сознания от позднего Средневековья к настоящему времени через историю тайных обществ[43]. Виктор Шнирельман сфокусировался на специфических теориях заговора антисемитского характера, проследив связь между антисемитизмом и эсхатологическими концепциями, популярными в постсоветской России[44]. К сожалению, все три перечисленные работы обладают общим недостатком: отсутствием четкого методологического аппарата, позволяющего детально проанализировать не только структуру теорий заговора, распространенных в российском обществе, но и причины их успеха. Учитывая популярность теорий заговора в политическом мейнстриме путинской России, требуется новый, более концептуальный подход к их изучению.
Америка: колыбель изучения теорий заговора
Ни в одной другой стране мира теории заговора не заметны в публичном пространстве так, как в США. Первые колонисты, прибывшие покорять Новый Свет, будучи людьми радикально религиозными, всюду видели попытки уничтожить проект «Город на холме». С начала истории первых поселений до восстания против британцев в 1776 г. по колониям прокатилось несколько волн паники по поводу внутренних врагов – католиков, индейцев, а затем и ведьм. «Сражение за Бога против заговора Сатаны оправдывало жестокость, а зверства были самым обычным делом»[45]. Самым ярким проявлением этой подозрительности и жестокости стало противостояние коренным жителям – индейцам, которые в первые десятилетия существоваия поселений оказались главным врагом колонистов, воплощавшим в себе образ «другого». Исследователи отмечают, что конфликт с индейцами сыграл важную роль в формировании американской культуры заговора. «В то время, когда много внимания уделяется Соединенным Штатам как “нации заговора”, важно осознать, что данная культура заговора простирается за границы истории государства, характеризуемая паранойей, укорененной в самом процессе колонизации континента»[46].
Ожесточенные войны с местным населением – индейцами – вынуждали многих поселенцев обратиться к идее о том, что за индейцами – менее технологически развитыми – стоит всесильный враг, вождь, управляемый геополитическим противником, Францией[47]. В других случаях внутренний враг воспринимался эсхатологически – сам Дьявол стремился уничтожить население колоний через своих посланниц – ведьм. «Я в действительности намерен подорвать целый заговор Дьявола против Новой Англии, во всех его проявлениях», – писал бостонский священник Котон Мэттер во время процесса над салемскими ведьмами – одного из первых случаев массовой паники, вызванной страхом заговора[48]. Позднее, в 1741 г., пожар в Нью-Йорке породил очередную волну паники по поводу влияния католиков на американскую жизнь: «Римские католики управляли большей частью Европы и вели войну с протестантской Англией и ее колониями веками… Более того, римские католики были признанными знатоками, хитрыми и искушенными интриганами, практикующими заговор, вранье и секретность»[49].
Однако по мере развития колоний и роста экономической независимости врагом стали видеть британскую метрополию. Как писал американский историк Бернард Бейлин, одним из первых отметивший влияние идей заговора на формирование революционной идеологии американских колоний, теория политики предреволюционной эры интерпретировала все происходящее на политической арене с точки зрения возможностей человека или группы людей установить контроль над жизнью и деятельностью другого человека с помощью аккумулированной власти[50]. Введение британцами новых налогов и повышение существующих воспринималось поселенцами как часть «зловещего плана», нацеленного на подрыв их самостоятельности. Джордж Вашингтон, один из лидеров революционеров, один из отцов-основателей республики и первый американский президент, писал: «Пока я абсолютно уверен, как в моем собственном существовании, что есть систематический, постоянный план, сформированный против колоний, и ничто, кроме единогласия в колониях (удар, которого они не ожидали) и стойкости, не может его остановить»[51].
После американской революции примерно каждое десятилетие в обществе возникали страхи заговора, связанного то с эмиграцией[52], то с масонами и иллюминатами[53], то с католиками[54], то с крупным бизнесом[55] или евреями[56]. Неудивительно, что в такой яркой культуре заговора возник и сам термин. Согласно австралийско-британскому историку Эндрю Маккензи-Макхаргу, выражение «теория заговора» впервые появилось на четвертой странице газеты St. Louis Daily Globe-Democrat в выпуске от 5 июля 1881 г. и относилось к делу о покушении на убийство американского президента Джеймса Гарфилда[57]. Спустя почти 60 лет философ Карл Поппер во втором томе работы «Открытое общество и его враги» использовал схожий термин «заговорщицкая теория общества», и с тех пор термин «теория заговора» стал прочно ассоциироваться с осмыслением мира современным человеком.
Именно в середине XX в. и именно в США начинается академическое изучение теорий заговора. К концу века эта волна докатилась и до Европы, и даже до бывших социалистических стран. В середине 1950-х гг., озабоченный атмосферой паранойи и шпиономании, связанных с активностью сенатора Джо Маккарти, американский историк Ричард Хофстедтер сфокусировал свое внимание на традиции американской культуры заговора XIX–XX вв., сформулировав знаменитую идею о «параноидальном стиле американской политики» и выявив ключевые черты теорий заговора. Хофстэдтер описал видение мира автором теорий заговора через объединение клинического термина «параноидальный» с историческим анализом разнообразных событий в политической истории США. Историк изобразил теоретика заговора как параноидальную личность, во всем способную найти доказательства существования тайного плана управления миром. Этот персонаж погружен в личную драму одиночной схватки с безумно рациональным и изощренным врагом, который не совершает ошибок. Сама история для этого человека – один сплошной глобальный заговор[58].
Концепция Хофстэдтера, делающая акцент на психологической компоненте в теориях заговора, на многие десятилетия стала доминирующей при изучении феномена. Хофстэдтеру главная опасность виделась в праворадикальной риторике: именно этот политический спектр представлял Джо Маккарти. В 1990-е сын известного советолога Ричарда Пайпса, Дэниел, под влиянием холодной войны распространил присутствие «параноидального стиля политики» и на леворадикалов, уделив в своей книге много внимания СССР и, в частности, Иосифу Сталину[59]. Работы, написанные в этом русле, изображали теории заговора исключительно как часть нездорового восприятия действительности, а людей, разделяющих эти идеи, – как жадных до власти и глубоко уверенных в том, что ничто не происходит случайно, а лишь в результате тайного сговора влиятельных людей[60].
Безусловно, такое упрощение не могло служить сколько-нибудь эффективному изучению конспирологии. Ни Хофстэдтер, ни его последователи не сумели предложить четкого метода исследования. Напротив, Пайпс призвал каждого, кто озабочен популярностью параноидального стиля в политике, присоединиться к «вечной борьбе» против теорий заговора, где бы ни проявились их черты[61]. Американский культуролог Джоди Дин заметила, что подобный подход сам по себе сравним с параноидальным стилем[62]. Конечно, он помог выявить ключевые черты теорий заговора, но не годится для сбалансированного анализа этого противоречивого явления.
Другой подход рассматривает теории заговора как инструмент политических манипуляций. Дело в том, что в конце 1980–1990 гг., когда он был сформулирован, одной из главных проблем безопасности в США была деятельность крайне правых организаций. Их активность, а также террористические акты (например, взрыв в Оклахоме, устроенный в 1995 г. Тимоти Маквеем) послужили серьезным стимулом к тому, чтобы попытаться понять логику действий сторонников праворадикальных теорий заговора. Ученые, придерживающиеся этого подхода, утверждают, что совершенно неверно изображать правых популистов как психопатов и экстремистов, поскольку они могут отражать взгляды обычных граждан – наших соседей, коллег, – чьи чаяния связаны с обычными повседневными проблемами[63]. Таким образом, теории заговора могут быть восприняты как продукт маргинальных праворадикальных групп, опирающихся на антиэлитистскую, популистскую риторику, которую могут использовать различные политические движения.
Оба подхода отчасти содействуют дальнейшему пониманию природы теорий заговора, однако ни один не способен объяснить их популярность в современном мире. Теории заговора могут использоваться не только как инструменты политической борьбы, а их сторонники не всегда страдают психическими расстройствами. Более того, как показывает практика, называть параноиком каждого, кто верит в теории заговора, непродуктивно, поскольку то, во что эти люди верят, часто связано с серьезными социоэкономическими, культурными и политическими проблемами[64]. Не стоит забывать и того, что многие теории заговора эксплуатируют знание о прошлых, реально существовавших тайных договоренностях политиков. Поэтому представление о конспирологии как стигматизированном знании как минимум неполно, и ее изучение требует новых методологических инструментов.
Теории заговора – это нормально
Чрезвычайная популярность теорий заговора, захлестнувшая США в 1990-е гг. (эта волна докатилась и до постсоветской России, вспомнить хотя бы повышенный интерес к сериалу «Секретные материалы»), способствовала переосмыслению этого явления научным сообществом. Оказалось, что теории заговора привлекательны как способ постижения мира не только для фанатиков-маргиналов. В действительности они могут быть особенным способом рационального мышления, своеобразным порталом, «через который обсуждаются социальные явления»[65]. Сторонники нового взгляда обращают внимание на то, что предыдущие попытки объяснить конспирологию способны только локализовать ее среди маргинальных право- и леворадикальных групп, в то время как в конце ХХ в. теории заговора вырвались за пределы этого идеологического гетто. Теперь они – важный элемент современной культуры, присутствующий в кинематографии, музыке, литературе[66]. Как в связи с этим можно проанализировать, кто наиболее склонен верить в теории заговора? Есть ли психологические предрасположенности к такой вере? Какие истории могут считаться теориями заговора, а какие нет? Как быть с историческими фактами, лежащими в основе конспирологии? Делают ли они теории заговора более легитимными?[67]
Типичная фраза, с которой начинается обсуждение той или иной теории заговора, «Я не конспиролог, но…» совершенно ясно отражает природу конспирологии, ее положение в повседневной проблематике как «подавленного знания» (используя терминологию Мишеля Фуко[68]). Джек Братич в связи с этим отмечает, что теории заговора являют пример того, как официальный дискурс, обладающий большей властью и легитимностью, может подавлять знания, несущие информацию о существенных общественных конфликтах[69]. В последние два десятилетия представители различных областей науки – историки, антропологи, социальные психологи, религиоведы, политологи, социологи и культурологи – проделали огромную работу, стараясь прояснить концептуальные и дисциплинарные особенности изучения феномена, продвинуть вперед исследование теорий заговора и тех, кто в них верит, и внесли огромный вклад в изучение этого явления.
Выяснилось, что оно не настолько уж маргинально[70]. Социальные психологи установили, что вера в заговор может объясняться склонностью к недоверчивости и подозрительности. Если кто-то верит в одну теорию заговора, то скорее всего поверит и в другую, даже если они взаимоисключающие[71]. Многое также зависит от ситуации, в которой человек находится. Если политическая партия, которую он поддерживает, проиграла выборы, подозрительность по отношению к выигравшему конкуренту будет выше[72]. Во время кризисов – чрезвычайных ситуаций, войн, техногенных катастроф – также наблюдается рост доверия к теориям заговора[73]. Больше того, никакой патологии в том, что люди склонны в них верить, нет. Эта вера ситуативна и основана на той информации, которая становится доступна человеку и на основе которой он затем выносит суждение[74]. Если человек получает больше информации, содержащей конспирологические интерпретации, выше и вероятность того, что последующие события будут оцениваться им в том же ключе[75]. В такой ситуации стремление найти информацию, согласующуюся с его собственной точкой зрения, известное в науке как «предвзятость подтверждения», служит еще одним способом упрочения конспирологического менталитета[76]. Более того, склонность людей замыкаться внутри сообщества со схожими взглядами, в котором живут и эволюционируют различные мифы и в том числе теории заговора, влияет на психологическое поведение членов подобных сообществ[77]. Однако высокий уровень образования и развитое критическое мышление могут стать фактором, снижающим доверие к конспирологическим идеям[78].
Групповая идентичность и позитивное восприятие группы, к которой принадлежишь, также способствуют популярности теорий заговора. Британский социолог Александра Чичока и коллеги демонстрируют, что склонность у членов группы к вере в заговор проявляется в обстоятельствах, когда коллективная идентичность подвергается угрозе. Своего рода самолюбование членов группы, восприятие себя особенными, часто подталкивает их к вере в то, что внутригрупповые проблемы были «срежиссированы» извне неким злонамеренным субъектом[79].
Исторические исследования показывают, что даже самые развитые демократические государства и такие их ключевые институты, как парламент или свободная пресса, служат плодотворной средой для бытования теорий заговора[80]. Эти теории могут быть полезны для достижения прозрачности государственных институтов и развития демократических ценностей в обществе[81].
В то же время на личностном уровне теории заговора способны оказывать негативное воздействие на их носителей и сторонников. В частности, те, кто верит в теории заговора, нередко не совсем объективно оценивают себя: завышенная самооценка – один из триггеров веры в то, что против человека плетется заговор. Вместе с тем неадекватное самовосприятие приводит к неспособности прийти к взаимовыгодному компромиссу с окружением[82].
В плане защиты здоровья и окружающей среды теории заговора также несут угрозу обществу. Так, рост веры в то, что вакцины способствуют развитию аутизма, может привести к тому, что все больше родителей не будут прививать своих детей, что, в свою очередь, опасно для здоровья последних[83]. Другой пример: в Южной Африке, где пропаганда антиВИЧ была поддержана самим президентом Табо Мбеки, в период его правления число умерших от СПИДа достигло 330 000 человек[84].
Одним из источников веры в конспирологию становятся бессилие и неспособность изменить свою жизнь и положение вещей в окружающем мире[85]. Исследования показывают, что потребление теорий заговора снижает политическую активность и желание участвовать в политических или общественных кампаниях (например, против глобального потепления)[86]. Политические конфликты, активно освещаемые медиа, приводят к тому, что доверие к политикам и институтам снижается. Чиновники правительства, а также руководители корпораций – в списке лидеров, которым доверяют меньше всего, и именно эта тенденция привела к росту праворадикальных и консервативных идеологий по всему миру в последние десять лет[87].
Неотъемлемой частью глобально развивающейся культуры заговора стало стремление ставить под вопрос любую официальную версию событий. И именно это предопределило интерес ученых к исследованию теорий заговора как научного феномена. Более того, посмотрев на неевропейские культуры заговора, ученые убедились, что многие мотивы и сюжеты конспирологических теорий не только универсальны, но и, вне зависимости от национального контекста, формируют альтернативный политический язык. Они ставят под вопрос слова и действия политических элит, часто превращаясь таким образом в популистский инструмент влияния[88]. В культурах, находившихся под властью европейских держав, питательной средой для активного развития теорий заговора[89] послужили межэтнические политические конфликты, в которые многие бывшие колонии погрузились после ухода колонизаторов. В контексте становления новых национальных идентичностей лидеры государств использовали теории заговора, чтобы выдвинуть обвинения либо против «бывших угнетателей», либо против «внутренних врагов» из числа политических оппонентов и привлечь таким образом на свою сторону большинство населения[90].
Культурологические исследования современной политики также помогают избежать традиционной стигматизации теорий заговора и понять, как они работают в контексте современного мира. Вслед за британскими и американскими коллегами я рассматриваю теории заговора как легитимный способ интерпретации властных отношений в современном мире[91]. Теории заговора ставят под вопрос существующий порядок вещей в обществе и предлагают (порой весьма специфически) трансформировать его в более справедливые, эффективные формы. Другими словами, теории заговора – это своего рода «креативный ответ» на вызовы времени. Они способны быть одновременно разрушительными и созидательными в плане социальных отношений: могут мобилизовать огромные массы населения для того, чтобы разрешить серьезный конфликт в обществе, но могут также стать губительной силой для репутации человека или организации и подорвать доверие к ним.
Таким образом, они выступают мощным инструментом перераспределения влияния между социальными акторами, а также эффективной политической стратегией, способной вскрыть глубокие социальные проблемы и неравенство в политической, экономической и социальной сферах общества.
Нормализация теорий заговора подводит нас к вопросу о том, в какой форме они обычно выражены и почему порой становятся таким мощным политическим орудием. Форма, в которой они проявляются в политической риторике, – это популизм. Именно популистская риторика позволяет эффективно перераспределять власть и влияние среди политических сил. Недавние примеры популистской риторики, тщательно сдобренной ссылками на заговор, – это выборы в США Дональда Трампа[92], риторика противостояния с Евросоюзом и «либеральным лобби» Джорджа Сороса, превращенная в основной электоральный инструмент Виктором Орбаном, премьером Венгрии[93], риторика изоляции от Евросоюза сторонников «Брекзита» в Великобритании[94]. Во всех перечисленных случаях популистски фреймированные теории заговора – защита простого человека от коррумпированных и чуждых элит – оказали мощную поддержку выигравшей партии.
Вокруг популизма, как и вокруг теорий заговора, исследователи ведут ожесточенные споры. Как теории заговора в середине XX в. считались чем-то недостойным политика[95], так и популизм ныне часто воспринимается как не совсем «чистое» политическое действие[96]. Кэс Мадд и Ровира Кальвассер называют его самым часто используемым и самым неверно употребляемым термином как внутри академических кругов, так и за их пределами[97]. Несмотря на разнообразие подходов к популизму как к политической стратегии[98] или логике политики[99], способу реализации политики[100] или даже способу коммуникации политиков, медиа и обычных граждан[101], относительно элементов популистского дискурса, которые помогают выявить его в любых политических идеологиях, существует определенный консенсус.
В первую очередь, в центре популистского дискурса находится «народ» («простые люди»)[102], к которому апеллирует харизматичный политик, призывающий дать отпор нелояльным/коррумпированным/преступным элитам[103]. Согласно Бену Стэнли, в основе популизма лежит допущение существования двух гомогенных субъектов политики – народа и элиты, находящихся в антагонистических отношениях; а также существование в данном социуме идеи популярного суверенитета и морального превосходства народа над элитой[104]. Исходя из этих критериев, можно предположить, что популизм может быть обнаружен почти в любом обществе и на любом уровне иерархии социальных отношений.
Франциско Паницца и Эрнесто Лаклау утверждают, что популизм – это «способ идентификации, доступный совершенно любому социальному актору, действующему в дискурсивном поле, где идея суверенитета людей, конфликт между властью и бессильными являются краеугольным камнем современного представления о политике»[105]. В основе такого представления лежит разделение социального на две части: «людей», объединенных общей задачей или проблемой, требующей скорейшего разрешения, и «другого» – центра власти, принятия решений, воспринимаемого в качестве источника проблем «людей». Популизм помогает объединить разрозненные группы граждан общим запросом (который может быть любым), создавая таким образом новую социальную или национальную идентичность[106]. По словам Лаклау, эти два лагеря представляют собой «власть» и аутсайдера, который стремится «воплотить желания людей, бросив вызов существующему порядку вещей в обществе»[107]. Согласно этой интерпретации, популизм может являться неотъемлемой частью демократического общества, а не только авторитарных и тоталитарных режимов. Ведь с помощью популистской риторики можно достичь необходимой смены политики, особенно когда правящие элиты не справляются со своими задачами.
В то же время популизм, разделяющий социальное на своих и чужих, имеет непосредственную связь с природой теорий заговора. Создание и поддержание политической идентичности требует четкого и убедительного «другого», от которого новая идентичность будет отстраиваться. В этом контексте теории заговора предоставляют необходимый потенциал для общественной поляризации, основанной на страхе «другого»[108]. Именно эта «коммуникативная» функция теорий заговора объясняет ту важную роль, которую они играют в политической риторике. Они способны выявить – и порой более эффективно – социальные проблемы и постараться заставить политические элиты решить их.
Американский политолог Марк Фенстер отмечает, что вернее всего называть теории заговора «популистской теорией о влиянии»[109]. Разделяя общество на своих и чужих, они помогают создать общность «людей», которые борются с несправедливостью, созданной политическим/социальным/культурным/этническим «другим». «Другой» представляет собой центр влияния, подвергаемый популистской критике оппонентов, которая, в свою очередь, помогает альтернативным центрам влияния усилиться, стать более легитимными. Именно этот эффект объясняет популярность теорий заговора в авторитарных и тоталитарных режимах. Однако важно повторить, что эти теории являются частью любого политического режима и могут быть найдены на любом уровне общества. По словам Фенстера, проблема непонимания природы теорий заговора связана с проблемой «идеологического непонимания властных взаимоотношений, которые могут возникнуть в политической системе»[110]. Нам легко верить, что конспирологи водятся исключительно среди политических оппонентов или в глубоко отсталых, тоталитарных режимах. Тяжело смириться с тем, что теории заговора окружают нас повсеместно и мы сами в них часто верим.
Маккензи-Макхарг утверждает даже, что сам термин «теории заговора», появившийся в англо-американском культурном контексте, по мере глобализации и дальнейшего внимательного исследования феномена, способен рассказать об обществе куда больше, чем известно сейчас[111]. История этого явления и того, какой характер оно приобретает в различных национальных традициях, может выявить его особенности и переосмыслить его природу. Переносясь обратно в Россию, мы видим, что подобная интерпретация теорий заговора имеет огромный потенциал для анализа российской (и не только) политической реальности. Исследователи уже отмечали, что теории заговора на постсоветском пространстве должны изучаться как особый социальный феномен[112]. Таким образом, обозначенный подход позволяет нам не только избавиться от стигмы «параноидального сознания», но и исследовать, какую роль могут играть теории заговора в процессе создания национальных и политических идентичностей. Возникновение многочисленных демократических республик на обломках СССР создало условия для активного проявления популистской риторики на всех уровнях общественной жизни. В ситуации политической нестабильности эта риторика выражается в разделении общества на «народ» и всесильного «другого» и в стремлении распознать зловещий план элит, нацеленный против обычных людей.
Но в случае российской национальной идентичности традиционным «другим» исторически выступает Запад, воспринимаемый как «единый, неделимый субъект, чье поведение нужно либо копировать как модель развития России, либо избегать его как самой большой угрозы»[113]. Именно ориентация на Запад во многом определяла развитие русской национальной идентичности в последние несколько веков. Ресентимент российских элит, отмеченный еще Лией Гринфельд, возник из осознания разницы между Россией и ее идеальным партнером/противником, Западом, и позволяет подчеркнуть свою инаковость и даже превосходство над ним[114]. Корни антизападной конспирологии проистекают из этого же ресентимента: страх заговора против России базируется на идее того, что она не может стать такой, как продвинутые европейские государства, потому что она лучше, духовнее и богаче Запада, и Запад не в состоянии с этим смириться и делает все возможное, чтобы ее уничтожить. Такой взгляд – по сути классическое проявление «особого пути» – позволяет формировать каркас российской национальной идентичности на антизападных идеях[115].
Обозначенный подход к теориям заговора также важен для понимания динамики на политической арене постсоветской России и анализа политической борьбы в постсоветский период. Допуская, что теории заговора являются нормальной частью политической риторики современных государств, мы можем предположить, что история постсоветской политики – это набор определенных «запросов» общества и политических/интеллектуальных элит. В контексте общества посткоммунистического транзита язык заговора, невероятно все упрощая, легко позволяет найти виновного в сложностях экономической, социальной и политической трансформации. Воспринимая теории заговора как специфический способ обсуждения проблем в обществе, мы можем проанализировать, как различные политические силы используют риторику заговора для усиления собственных позиций и поиска общественной поддержки.
Далее мы изучим риторику политических и интеллектуальных элит и увидим, как политики выбирают теории заговора, идеи и концепты, выработанные или привнесенные в российскую культуру извне публичными интеллектуалами, и используют их для политических целей или оценки происходящих в стране событий. Традиционный анализ теорий заговора основан на попытке понять риторику «простых людей», критикующих элиты, через речи самих политиков. Это, как мы уже видели, традиционный элемент популистской риторики. В российском же контексте популистские теории заговора используются элитами для обозначения собственной позиции как «вместе с народом» против коварного Запада, воспринимаемого как центр глобального влияния. Чрезвычайная распространенность такой риторики, как будет продемонстрировано далее, связана прежде всего с налаженным процессом производства и распространения теорий заговора в постсоветское время. Это производство основано на заимствованиях как из современных зарубежных традиций заговора, так и из исторического прошлого российского общества.
Глава 2
Крепость Россия: исторический очерк
Принято считать, что теории заговора в их нынешнем виде появились в эпоху Просвещения, придя на смену господствовавшему прежде религиозному мировоззрению[116]. Мир сакральный, в котором судьбу человека определяли боги, пал жертвой секуляризации, и им на смену пришли вполне себе земные, но невероятно влиятельные люди. Однако, хотя термин «теории заговора» родился и вовсе в конце XIX в., британский политолог Альфред Мур верно заметил, что на самом деле эти теории были с нами всегда[117].
К примеру, в античном мире понятия «теории заговора» не существовало, однако из сохранившихся источников мы знаем, что в судебных тяжбах афиняне часто обвиняли противника в заговоре, пытаясь таким образом усилить собственные позиции, а в кризисные моменты, стараясь сохранить привычное политическое устройство, напоминали гражданам, что демократия Афин находится под угрозой заговора диктаторов[118]. Как пишет Джозеф Ройзман, афиняне – и элита, и массы – воспринимали теории заговора как один из риторических способов объяснения окружающей реальности, в особенности когда афинская государственность сталкивалась с кризисом и общество полиса остро нуждалось во враге. Схожая ситуация была и в Римской империи: политика там была пронизана страхом и недоверием, которые очень быстро конвертировались в слухи о заговоре[119].
После Средних веков теории заговора возродились в эпоху Ренессанса в Италии. Вместе с возвращением в интеллектуальную жизнь традиций Античности вернулась и идея о заговоре, которая активно начала использоваться против военных и политических противников[120]. Появление в европейской политике теорий заговора было связано с формированием инфраструктуры взаимоотношений между североитальянскими городами и стало одним из способов политической коммуникации в публичной сфере[121]. Но параллельно с этим существовали и обвинения против евреев и ведьм в сговоре с дьяволом, успешно выжившие со времен Средневековья и сохранявшиеся до Нового и Новейшего времени[122].
Эпоха Просвещения действительно стала важнейшим этапом в развитии теорий заговора и проявлении их в публичном пространстве. Американский историк Гордон Вуд утверждал, что модус заговора в мышлении человека того времени был естественным, и почти за любым событием по обе стороны Атлантики виделся чей-то тайный план[123]. Рост антимасонских настроений в середине и второй половине XVIII в. и антимасонская пропаганда консервативных элит Европы и Америки, занимавшие значительное место в политической риторике того периода, доказывают, насколько сильно было взаимодействие культур Европы и Америки и насколько значимой для них была интерпретация мира через призму заговора[124].
Европейская и американская культура заговора выросла из проповедей священников, направленных против масонов, революционных политических элит[125] и философов эпохи Просвещения[126]. Причем служители церкви вели свою пропаганду столь настойчиво, что в результате сам образ католического священника в постреволюционной Франции XIX в. стал конспирологическим, ассоциируясь с коррумпированностью и моральным разложением консервативных элит[127]. В обстановке крушения традиционного мира теории заговора в Европе стали повседневным инструментом политики[128].
Учитывая, что с XVIII в. Российская империя была активно вовлечена в европейские политические и культурные процессы, любопытно проследить, какой эффект европейские теории заговора оказали на формирующуюся российскую традицию и что в ней было особенного.
Период империи
В 1775 г. придворный поэт Василий Петров опубликовал «Оду Ея Императорскому Величеству Екатерине Второй, Самодержице Всероссийской, на заключение с Оттоманскою Портою мира». По словам историка Андрея Зорина, это произведение стало важнейшим документом екатерининской России, в котором не только отразилась модель политического мышления, но и впервые проявилась идея антирусского заговора[129]. Характерно, что в России, как и в Европе, именно элиты были первыми, кто включился в «конспирологическую коммуникацию» с целью объяснения геополитической реальности, в которой оказалась империя.
Придворный поэт Петров ярко описал в поэме интриги европейских держав в отношении России с ее растущей мощью. Написанная в честь победы над Османской империей ода иллюстрирует тайные планы европейских держав (в первую очередь, Франции) по подрыву могущества России путем втягивания ее в кровопролитные конфликты. Петров, как пишет Андрей Зорин, усматривает причины войны в закулисных интригах французской дипломатии, завидующей российским успехам на политической арене. Удивительно, насколько долго этот стереотип антироссийских интриг и эксплуатации России будет сохранять свое влияние на российские имперские элиты[130]. И хотя изложенная Петровым концепция не вполне может считаться полноценной теорией заговора, характерно, что поэт именно таким образом объяснил геополитический расклад сил в Европе.
Кроме того, в России, как и в Европе, одной из конспирологических традиций, оставшихся в веках, стала подозрительность по отношению к масонам[131]. Их влияние пугало не только консервативно настроенную элиту империи, но и некоторых высокопоставленных священников[132]. В масонах видели слуг дьявола, поборников западных устоев, а также распутников и пьяниц, что через популярную литературу и памфлеты помогло сформировать антимасонский миф и способствовало запрещению ордена в России. Важно отметить, что российская антимасонская истерия происходила более-менее одновременно с европейской, а это показывает, насколько элита империи была включена в культурно-идеологические процессы Европы того времени[133].
В конце XVIII в. российские интеллектуальные круги начали дискуссию о природе национальной идентичности и отношении к Западу как фактору, формирующему российскую нацию. Вера Тольц отмечает, что дискуссия между славянофилами и западниками началась еще при Екатерине II, но дебаты между двумя группами тогда не были столь ожесточенными, как в конце XIX в. Они, скорее, «отражали различие между космополитами эпохи Просвещения и (прото)националистами»[134]. Учитывая, что процесс нациестроительства еще не шел полным ходом, ожесточенных дискуссий и активного поиска «другого» ради самоопределения не возникало.
Этот процесс начался в середине XIX в., и важной поворотной точкой оказалось поражение Российской империи в Крымской войне (1853–1856). Альянс европейских держав открыто выступил против России, что в результате стоило империи огромных потерь. Миссия заполучить Палестину и стать главным христианским государством с треском провалилась. В глазах многих консервативных мыслителей это выглядело самым явным проявлением заговора Запада против России[135]. Новое поколение славянофилов, появившееся после крымского разгрома, было настроено по отношению к Европе более радикально. Унижение России в Крымской войне дало толчок активному распространению теорий заговора в публичном пространстве. Этому способствовали и другие причины, в частности поддержка консервативной повестки представителями правящей элиты, особенно в последние два десятилетия XIX в. в период царствования Александра III. В результате сложилась основа корпуса антизападных теорий заговора. Но их развитию способствовало также еще несколько важных изменений в социально-культурной жизни Российской империи.
Во второй половине XIX в. либеральные реформы Александра II привели к быстрой модернизации российского общества. Массовая миграция крестьян в города заметно изменила социальную структуру и коммуникацию. Теперь распространение слухов и массовых страхов значительно упростилось, и они превратились в важный источник новостей. Как показывают исследования, слухи об измене правящей верхушки империи, подтачивавшие ее легитимность и общественную поддержку, с одинаковой степенью популярности распространялись как при дворе[136], так и среди обычных людей[137].
Более того, реформы Александра II имели одно довольно неожиданное последствие для культуры заговора в России. Хофстэдтер утверждал, что для производства классической теории заговора необходимо уметь выразить мысль в псевдоакадемическом стиле и обладать базовыми навыками обработки информации. В результате реформы образования больше людей обрели способность производить и потреблять теории заговора, что и привело к развитию конспирологической культуры и помогло распространиться антизападным, консервативным настроениям.
Среди первых групп интеллектуалов времен поздней Российской империи, которые открыто пропагандировали теории заговора, интерпретируя таким образом и внутреннюю, и внешнюю политику, были славянофилы. Идея о том, что у России есть историческая миссия спасения мира, «особый путь», и восприятие ее как хранительницы морали и истинного, незамутненного христианства служили фундаментом для распространения всевозможных антизападных теорий[138]. К тому же приверженность консервативным взглядам и протопопулистские идеи об опоре на «народ» – хранителя истинно русских ценностей – также создавали благоприятную почву для распространения направленных против элит теорий заговора среди разных слоев населения[139]. В то же самое время «негативная повестка» с опорой на консервативные принципы, пропагандируемая славянофилами, активно использовалась правительством с целью общественной мобилизации[140].
Важный пример в этом контексте – Федор Достоевский, чьи консервативные, часто шовинистские, взгляды цитируются современными русскими националистами, а некоторые его произведения перепечатывались в откровенно антиеврейских публикациях, изданных в постсоветское время[141]. Несмотря на то что исследователи творчества Достоевского отмечают его идеологическую непоследовательность, особенно в первые годы писательства[142], в позднем периоде его творчества встречаются как общие антизападные идеи, так и антикатолические[143], и антисемитские теории заговора[144]. Как подчеркивает Максим Шрайер, хотя было бы неправильным сводить взгляды Достоевского к банальному антисемитизму, в его работах можно обнаружить много ссылок на традиционные для своего времени теории заговора, связанные с евреями[145]. В то же время «Дневник писателя» служит отличным примером идеологии «русского консерватизма», подчеркивающего особую миссию России в мировой истории[146].
Ранние славянофилы, такие как Алексей Хомяков, продвигали идею о том, что в результате петровских реформ Россия стала своего рода виртуальной колонией Запада. И чтобы новая российская идентичность возродилась и в России случился духовный подъем, необходимо избавиться от западного влияния[147]. Позднейшие мыслители вроде Николая Данилевского делали акцент уже на радикальном отделении от Европы, поскольку видели в России особую культурно-историческую общность и хотели уберечь ее от интриг европейских правительств[148]. Как мы увидим далее, подобные идеи будут довольно часто повторяться в теориях заговора постсоветского времени.
Во второй половине XIX в. в Российской империи начинается рост националистических настроений, в первую очередь связанный с национальными движениями на ее окраинах[149]. После польского восстания 1863 г. и в результате роста украинского национализма термин «нация» все чаще появляется в консервативной прессе[150]. В это время именно поляки и евреи, населявшие западные территории империи, обыкновенно представлялись опасными «другими», действовавшими против России. Роль поляков в этом процессе была особенно заметна для консервативных писателей, поскольку активные революционные настроения среди польского населения ставили под большой вопрос внутреннюю стабильность в империи. Образ католического священника стал центральным в антикатолических теориях заговора. Правительство относилось к католическим активистам чрезвычайно подозрительно, предполагая, что они работают на внешние силы, якобы стремящиеся подорвать государство изнутри и сбросить царя[151]. Страх заговора был так силен, что среди заговорщиков виделись даже иезуиты, которые были изгнаны с территории России почти за полвека до этого[152].
Одной из икон антизападной культуры заговора в поздней империи Романовых был Михаил Катков, известный писатель и издатель, посвятивший много работ раскрытию интриг против России. Именно Катков связывал деятельность польских национальных активистов с глобальным антироссийским заговором, считая, что истинный русский патриот должен быть лояльным, как солдат в армии. «Настоящим русским» мог считаться только православный христианин, преданный монархист и приверженный правительству человек[153]. Предвосхищая многих постсоветских авторов теорий заговора, которые видят источник опасности в финансировании российской оппозиции из-за границы, Катков обвинял поляков в получении денег на революцию и убийства от иностранцев[154], а волнения среди простых поляков объяснял подстрекательством со стороны местного польского дворянства[155]. В характерном для конспиролога стиле Катков делил Россию на две части: национальную и антинациональную. По мысли Каткова, «Великие реформы» угрожали российской стабильности и были нацелены на крах территориальной целостности страны, чего и добивался Запад[156]. Революционное движение, набиравшее силу в последние десятилетия XIX в., также представлялось плодом деятельности антирусских заговорщиков в Европе, как и потоки лжи в европейской прессе о России и ее народе[157].
Роль Каткова в интеллектуальной поддержке русского консерватизма и контрреформ конца XIX в. трудно переоценить. Его радикальные консервативные взгляды стали одним из факторов, позволивших повернуть вспять достижения реформ Александра II[158]. На почве этих реформ, роста национализма и последовавших затем контрреформ взрос русский антисемитизм – центральный элемент культуры заговора в империи Романовых. С 1880-х гг. антиеврейские конспирологические теории становятся главной темой русского национализма, а «Протоколы сионских мудрецов», изданные в 1903 г., – неувядаемым источником доказательств существования еврейского заговора[159]. Но «Протоколы» были лишь одним из перепевов антиеврейского мифа XIX в.[160] Они появились как кульминация антиеврейских настроений, которые зрели еще со времен установления черты оседлости в Российской империи в конце XVIII в.[161] Как показал Савелий Дудаков, «Протоколы» выросли из богатой традиции популярной литературы памфлетов, создавшей огромное количество стереотипов и образов, которые использовались авторами как в XIX, так и в XX в.[162]
В этом плане «Книга кагала» Якова Брафмана, впервые изданная в 1869 г., может считаться своего рода концептуальной предтечей «Протоколов». Кагал – традиционная форма социальной организации евреев в Восточной Европе, которая при Николае I была подвергнута реформе при поддержке просвещенного, ассимилированного еврейства. Целью ее было вывести евреев из черты оседлости и интегрировать их в российское общество. Но реформа была плохо продумана, страдала от непоследовательности исполнителей, и зачастую ассимилированные евреи оставались ограничены в правах, что заставляло их восстанавливать некоторые элемента кагала[163]. Однако Брафману причины живучести этой формы виделись в другом. В традиционном для европейских и американских антисемитов того времени стиле кагал представлялся Брафману «государством в государстве», сохранявшим невиданную власть над своими членами и протянувшим «щупальца» далеко за пределы границ российского государства[164]. Такое изображение кагала заставляло, с одной стороны, сомневаться в реформированности еврейства, а с другой – подозревать, что это реформирование, в принципе, невозможно. Историк Исраэль Барталь считал ключом к популярности антисемитизма то, что евреи оказались удобным «другим» для всех: социалисты видели в них землевладельцев и эксплуататоров крестьян, а правые – агентов Запада, продвигающих модернизацию России и стремящихся таким образом разрушить ее[165].
Рост политического движения накануне и после революции 1905 г. превратил теории еврейского заговора в мощный инструмент общественной мобилизации[166]. По всей империи в конце XIX – начале XX в. распространились «Черные сотни» – организаторы погромов. К «Протоколам» они обращались как к важному доказательству опасности евреев для государства[167]. Однако евреями дело не ограничивалось. Многие жители империи, оставшиеся в результате реформ без привычных средств к существованию, были склонны объяснять изменения, происходившие в российском обществе, националистическими и шовинистскими теориями заговора. Их настроения были использованы правительством во время Русско-японской[168] и Первой мировой войн[169] для подъема патриотического духа. Однако следствием этого стала маргинализация отдельных этнических групп, причем во время тяжелейшего военного конфликта, и, как результат, с одной стороны – радикализация этнических общин, а с другой – рост недоверия к ним со стороны властей. Все это сослужило плохую службу империи и привело к ее скорому развалу[170].
Итак, активное бытование конспирологических теорий в публичной сфере свидетельствует о наличие развитой культуры заговора уже перед революцией 1917 г. Именно страх измены стал ключевым триггером смены режима: популярность конспирологических идей сыграла важную роль в событиях февраля и октября. А затем, по мнению некоторых ученых, эти идеи перекочевали и в следующий исторический период, став значимым способом интерпретации повседневности в советском государстве[171].
Советский период
Советскую культуру заговора отличал от имперской один простой факт: манихейское деление мира на своих и чужих было органичной частью идеологии большевиков. По сути, это стало частью официальной пропаганды Советского государства и регулярно использовалось в ходе различных политических кампаний для мобилизации населения[172]. Более того, начиная с Гражданской войны ощущение «осажденной крепости», которую стремятся разрушить враги – как внутренние из числа «бывших», так и внешние из капиталистического лагеря, – стало важным фактором внутренней советской политики. Насаждая страх заговора, советские власти пытались создавать не только новый тип общества[173], но даже новые нации[174]. Чрезвычайный комитет и Красная армия боролись против контрреволюции, стремящейся восстановить прежний режим[175]. А в эпоху правления Иосифа Сталина подозрительность и страх заговора проникли уже во все сферы жизни[176]. В представлении властей само естественное создание друзьями, родственниками и знакомыми неформальных связей, чтобы выжить в непростое время социальных перемен, служило доказательством возможности организовать внутрисоветский заговор.
Огромное количество человеческих жертв в годы Гражданской войны, разрушенная экономика, революционные эксперименты по созданию нового общества – все это стало серьезным вызовом как для партийного аппарата, так и для обычных людей. Именно простые граждане испытывали на себе давление ускоренной индустриализации и завышенных требований по выполнению плана. Угроза нацистского вторжения в середине 1930-х только усилила панические настроения в обществе: объяснять естественные производственные поломки чьим-то злым умыслом – вредительством – стало обычным делом. Представление, будто двигатели «сами по себе не ломаются», – яркое свидетельство того, что при Сталине конспирологический способ мышления занял центральное место[177]. В то же время советское руководство считало, что любая попытка ослабить контроль и снизить уровень страха в обществе может привести к тому, что недовольные откажутся подчиняться требованиям государства, а это в непростой геополитической ситуации будет иметь самые тяжелые последствия для режима.
Некоторые ученые полагают, что сталинские репрессии были связаны с глубоко параноидальной личностью советского лидера[178]. Это, безусловно, упрощение, однако столкновения элит при кремлевском «дворе» действительно делали Сталина более подозрительным. Следствием этой подозрительности стала экстремальная жестокость по отношению к старым и новым соратникам, и многих высокопоставленных жертв репрессий не спасла даже их глубокая личная преданность вождю[179]. Стремление к ускоренной модернизации экономики не допускало никакого компромисса и требовало абсолютной лояльности главе государства. В то же время ощущение постоянно плетущихся интриг против режима усиливалось угрозой войны на два фронта, о которой постоянно докладывали разведка и ОГПУ (находившие, в свою очередь, все новые доказательства шпионажа, используя пытки во время допросов). Поэтому страх заговора не был только инструментом социального контроля, Сталин и сам был ему подвержен[180].
В этом смысле «Краткий курс истории ВКП(б)» 1938 г. представляет собой яркий пример активно создаваемой государством культуры заговора и «особого взгляда» большевиков на мир. Спустя 21 год после революции деление мира на своих и чужих, или «других» (империалистов, фашистов и проч.), было узаконено официально, так же как и насилие над оппонентами, несогласными с тем, как развивается режим[181]. Неизбежное усиление противостояния между большевиками и буржуазией по мере развития социализма объясняло, почему в поздние 1930-е внутренние враги стали настолько активны и режим вынужден был устроить чистки. Печально известная 58-я статья УК РСФСР вводила смертную казнь за измену Родине, но главное – из-за ее частого применения против «агентов иностранных держав», «подрывных элементов», «шпионов» и «вредителей» в публичный дискурс вошел словарь конспиролога и создалась атмосфера повседневного заговора. Этому же способствовали и публичные процессы над «врагами народа». И с окончанием 1930-х подобные выражения не ушли в прошлое. В последующих главах мы увидим, как некоторые из этих терминов будут вновь использованы в теориях заговора уже в XXI в. в отношении врагов путинского режима.
Обострение отношений с бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции сразу после победы в Великой Отечественной войне также добавило популярности идее о заговоре Запада против СССР. Отказ от участия в послевоенном Плане Маршалла объяснялся тем, что это тайный план капиталистов, стремящихся поставить под экономический контроль государства Восточной Европы[182]. Обострение отношений с США в связи с гонкой ядерных вооружений и невозможность получить помощь на восстановление разрушенной войной экономики извне вынуждало советские власти изыскивать ресурсы внутри страны, что отражалось на экономическом положении советских граждан[183]. Официальное противостояние с Западом помогало объяснить, почему советские люди живут так трудно, и способствовало усилению изоляции страны. В первое послевоенное десятилетие возможное вторжение американцев стало чрезвычайно популярной темой для слухов[184]. В то же время с новой силой стали циркулировать слухи о шпионах, и жертвами этих слухов становились как обычные граждане, так и приближенные к Сталину элиты[185]. А антиеврейские кампании в последние годы жизни диктатора превратили идею еврейского заговора в чуть ли не официальную советскую политическую доктрину[186].
Что любопытно, с начала холодной войны и до 1991 г. в Советском Союзе фактически параллельно существовали две культуры заговора. С одной стороны, официальная идеология была основана на шпиономании в связи с развернувшейся идеологической схваткой с США. Разумеется, страхи перед иностранным заговором не были абсолютно необоснованными: обе супердержавы были активно вовлечены в шпионские игры, пропаганду и контрпропаганду. ЦРУ и разведки европейских стран вкладывались в различные программы изучения СССР с целью подрыва режима[187]. И у этой традиционной войны разведок была мощная культурная репрезентация. Финансируемые государством художественные вымыслы о советских шпионах-героях невидимого фронта и иностранных подрывных элементах стали частью позднесоветской популярной культуры. Такие книги, как «ЦРУ против СССР» Николая Яковлева, имевшая несколько переизданий и заказанная спецслужбами, фильмы «Щит и меч» (1968) и «ТАСС уполномочен заявить» (1984), выполненные по заказу Гостелерадио СССР, создали яркие и запоминающиеся образы противостояния с идеологическим врагом, оказавшие влияние на целые поколения советских граждан.
С другой стороны, наряду с официальной культурой заговора существовала альтернативная, распространявшаяся среди русских националистов, которые воспринимали советский режим как оккупационный и нередко разделяли антисемитские и антизападнические взгляды. Как демонстрирует историк Николай Митрохин, русские националисты, хотя зачастую и были настроены по отношению к режиму оппозиционно, пользовались неформальной поддержкой определенных фракций в советском правительстве. Их концепция нации сформировалась именно на образе Запада как опасного «другого», ненавидящего Россию, и в этом они продолжили традицию славянофилов XIX в.[188] Некоторые из текстов, популярных в этом сообществе, были написаны представителями русской диаспоры за рубежом[189]. Часть конспирологических текстов имела внутрироссийское происхождение, их авторы принадлежали к кругам советских диссидентов. Николай Митрохин[190] и Виктор Шнирельман[191] отлично демонстрируют, насколько живой была культура националистов внутри СССР и как активно в ней формировались конспирологические идеи, в период перестройки ставшие одним из важнейших источников российской культуры заговора.
Начавшаяся при Горбачеве политика гласности позволила открыто публиковать и обсуждать всевозможные теории заговора. Эта тенденция наложилась на формировавшуюся годами привычку советских граждан наблюдать друг за другом в общественных местах, в коммунальных квартирах, взращивая подозрительность по отношению к ближнему[192]. К тому же Запад в глазах обычного советского человека был во многом мифологизированным, вымышленным пространством: одни стремились туда, другие его опасались[193]. С годами подозрительность стала центральным элементом сознания позднесоветского человека, а появившаяся благодаря политике гласности возможность читать и обсуждать любые источники открыла невероятные перспективы для конспирологического мифотворчества. В постсоветское время, во многом благодаря активности публичных интеллектуалов, эта культура приобрела свои особенности и стала превращаться в мейнстрим[194].
Глава 3
Интеллектуалы и заговор
Как бы странно это ни звучало, но появление теории заговора – это своеобразный интеллектуальный труд, и вклад в него людей, профессионально занимающихся производством идей, трудно переоценить. Чтобы звучать убедительно и получать общественную поддержку, теории заговора должны рассказывать о чем-то актуальном, показывать причинно-следственную связь между событиями, приведшими к триумфу заговорщиков. В идеале они при этом должны еще опираться на многочисленные источники, наукообразность и убедительность изложения – конек теорий заговора[195]. Кроме того, конспиролог с высоким социальным статусом – ученый, писатель, известный режиссер или политик – имеет больше шансов убедить публику в том, что заговор существует, чем обычный, никому не известный человек.
Собственно, как мы видели в предыдущей главе, рождение культуры заговора тесно связано с формированием образованного класса. Многие известные интеллектуалы периода империи использовали свой ресурс публичности, чтобы убедить в существовании заговора как политические элиты, так и читающую городскую публику. В советское время писатели, журналисты и ученые получали государственную поддержку (через формальные и неформальные связи с органами власти и спецслужбами) для производства разного рода теорий заговора[196]. Горбачевская гласность открыла путь нескончаемому потоку конспирологического мифотворчества, и оно очень быстро завоевало книжный рынок на фоне того, что ухудшающееся состояние экономики и общий кризис советской системы подталкивали все больше людей к устойчивой вере в антирусский заговор. Этому помогли и именитые интеллектуалы: этнограф и писатель Лев Гумилев, специалист по международным отношениям Анатолий Уткин, историк Игорь Фроянов и многие другие своим авторитетом легитимировали многие антиеврейские и антизападные идеи, сделав их частью общественного дискурса[197]. После 1991 г. смотреть на мир сквозь призму заговора стало незазорно, а для многих публичных интеллектуалов еще и выгодно – это приносило гонорары, медийную известность и возможность приблизиться к власти.
В этой главе я предлагаю начать анализ российской конспирологической культуры через рассмотрение роли постсоветских публичных интеллектуалов в процессе создания и распространения теорий заговора[198]. В литературе на иностранных языках много было написано о некоторых деятелях культуры заговора в России[199], но мало об их идеях и том, как они вплетались в ткань постсоветской политики и разнообразных идеологических игр[200]. Важно помнить, что многие авторы, рассмотренные в этой главе, имели или до сих пор имеют тесные связи с разными структурами власти. И пусть многие из них сейчас вне этих структур или не так активны в медиа, но их идеи во многом отражают состояние умов во властных кругах, а также служат интеллектуальной подпиткой тех или иных политических решений.
В глазах Хофстэдтера поборники «параноидального стиля» имели ограниченную общественную поддержку и потому были отнесены к маргиналам, чье мнение разделяется ограниченной частью общества. Марк Фенстер в своей критике Хофстэдтера замечает, что историк был напуган популистской демагогией правых и попросту воспринимал теории заговора как идеи, относящиеся к идеологии политических радикалов, а не уважаемых политиков мейнстрима[201]. Это разделение стоило некоторым американским интеллектуалам и журналистам репутации в глазах «умеренного» класса, чьи взгляды исключали возможность серьезного отношения к каким бы то ни было теориям заговора[202]. В результате сегодняшний всплеск «антиинтеллектуализма», тесно связанный с так называемой критикой либеральной повестки дня, опирается на неопопулистское движение, состоящее из консервативных политиков и мыслителей[203]. Их цель – разрушить консенсус, созданный «коррумпированными» левыми элитами, и вернуть голос «обычному человеку».
Что же происходит в России? Во времена советской власти граница между приемлемым и запретным строилась исходя из идеологических основ режима. Многие конспирологические взгляды, направленные как на внешние силы (США, блок НАТО), так и на внутреннюю оппозицию (диссиденты, этнические меньшинства), не только считались приемлемыми, но даже поощрялись властью. Крах советского режима, с одной стороны, открыл возможность для публичной дискуссии и критики подобных идей. С другой, российская академическая система не в полной мере прошла процесс транзита от советских идеологических парадигм к более взвешенным и критическим взглядам. А в более поздние постсоветские годы публичные интеллектуалы, активно работавшие над созданием и популяризацией теорий заговора, даже заняли высокие академические и политические посты. Полученные ими регалии способствовали общественной легитимации тех теорий заговора, которые эти интеллектуалы производили и распространяли.
Чтобы понять, как и почему интеллектуалы стали таким важным звеном в российской культуре заговора, я предлагаю обратиться к концепции Мишеля Фуко о взаимоотношениях знания и власти. Некоторые исследователи полагают, что теории Фуко, основанные на анализе западноевропейской культуры, нельзя применять к культуре российской, учитывая ее определенную пограничность по отношению к европейской цивилизации[204]. Тем не менее предыдущие попытки применить теории Фуко к исследованию России оказались плодотворными, в связи с чем имеет смысл эту практику продолжить[205].
Согласно Фуко, знание является ключом в любой борьбе за власть, а производство знания может привести к перераспределению власти в обществе. Именно поэтому интеллектуалы играют такую важную роль в любом современном политическом режиме: тот дискурс, что они производят, делает власть стабильнее, помогая (вос)создавать так называемый режим правды, определяющий, что есть истинно и что ложно[206]. С этой точки зрения теории заговора можно рассматривать как очень своеобразный тип знания, произведенного публичными интеллектуалами с целью перераспределения власти в обществе. Помогая разделять социальное на две категории – своих и чужих, – теории заговора помогают тем, кто публично их применяет, представлять свою деятельность в глазах общества более легитимной и, напротив, лишать легитимности оппонента.
В постсоветской России 1990-х производство теорий заговора различными популярными писателями, политиками, учеными и журналистами помогло консервативной и антизападной повестке усилить политическую оппозицию Кремлю. А то, с какой легкостью кадры мигрировали из журналистики или публицистики в академическую среду, предельно упрощало легитимацию разных, даже самых скандальных взглядов. Проблемы, порожденные посттоталитарным транзитом, сделали идею об антироссийском заговоре на Западе привлекательной и популярной, а провалы процесса демократизации позволили превратить теорию в инструмент политики. С приходом к власти в 1999 г. Владимира Путина подавляющее большинство известных интеллектуалов, публично критиковавших власть за сговор с Западом, идейно перешли на сторону Кремля, превратив конспирологические теории в мощный инструмент поддержки политического режима.
Глеб Павловский: теории заговора как политическая технология
Исследуя роль политтехнологов в электоральных процессах на постсоветском пространстве, британский политолог Эндрю Уилсон отметил, что политтехнологи и пиарщики готовы пойти на все что угодно, чтобы сохранить власть заказчика, на которого работают. Воздействуя на медиа, они создают ощущение, что всем в мире можно управлять при помощи психологических и медийных манипуляций[207]. Немудрено, что в середине 2000-х на российском книжном рынке был бум публикаций о всевозможных психологических манипуляциях, а Виктор Пелевин увековечил этот период в своем романе «Generation “П”». Пиарщики стали частью политической реальности, и среди тех, кто заметно выделялся на фоне немногочисленных пиар-гуру, работавших по всей территории бывшего СССР, был Глеб Павловский. Пионер политтехнологий и визионер, придумавший, как превратить знания в политический инструмент, он не только стоял у истоков российской политической системы, которую назвал «Системой РФ», но и был архитектором того идеологического конструкта российской власти, в основу которого так умело положены теории заговора[208].
Будучи диссидентом и активно участвуя в жизни московских неформальных интеллектуальных кругов, в 1982 г. Павловский был арестован за работу в самиздатовском журнале «Поиски» и пять лет провел в колонии-поселении[209]. Выйдя на свободу уже в годы перестройки, он стал активно применять свои многочисленные таланты в сферах, связанных с медиа, организовав кооператив «Факт», ставший предтечей ИД «Коммерсантъ», и инвестировав еще в десяток известнейших российских СМИ[210]. Позднее, уже в 1990-е, он организовал «Фонд эффективной политики», который со второй половины 1990-х и до 2011 г. был неофициальным «мозговым центром» Кремля.
По словам самого Павловского, после того как он помог Ельцину выиграть второй тур выборов в 1996 г., перед ним открылась возможность начать сотрудничество с Администрацией Президента[211]. В 2004-м, в качестве одного из советников штаба Виктора Януковича на украинских президентских выборах, Павловский воочию наблюдал, как переворачивается игра на выдвижение прокремлевского кандидата. Виктор Ющенко и вышедшие на первый Майдан жители Украины спутали Кремлю все карты и посеяли страх того, что экспорт «технологий революции» покончит с путинским режимом. Можно сказать, что с конца 2004 г. началась не только операция «Преемник», но и более широкая кампания по поиску внутреннего врага, в которой усилия Павловского как интеллектуала-советника сложно переоценить[212].
Павловский много раз отмечал, что его взгляды и умения как политтехнолога сформировались под влиянием известного советского историка, философа и диссидента Михаила Гефтера. В его круг Павловский вошел в 1970-х, когда переехал в Москву из Одессы. «Гефтер меня подобрал и придумал. Я прожил жизнь в разговорах с ним – ровно четверть века, между 1970-м и 1995-м. Это и была основная жизнь. А все до и после – уже некоторая “добавленная стоимость”. Все захватывающее я узнал с ним. А теперь нахожу бледные подтверждения, в людях и в политике. Он научил меня спрашивать о неправильном и распознавать увертки. Вся моя “политика” – из Гефтера»[213].
Интересы Гефтера лежали в плоскости истории большевистской революции, русской интеллектуальной мысли, а также сталинизма. В 1970-х, работая в Институте всеобщей истории АН СССР, Гефтер попал в опалу из-за того, что более консервативные коллеги раскритиковали его исследования истории марксизма-ленинизма[214]. Выйдя на пенсию, Гефтер продолжил активно работать, в том числе над изданием диссидентского журнала «Поиски». Среди исследований Гефтера того периода – изучение природы тоталитаризма, а также осмысление причин и наследия сталинизма. Это было одной из основных тем его статей, что стало еще более актуально с приходом к власти Горбачева.
По мысли Гефтера, хотя Хрущев и запустил процесс национального осмысления репрессий сталинского периода, эффект его был чрезвычайно ограничен. Отсутствие четкой политики касательно «Большого террора» позволило выражать ностальгические чувства в отношении сталинского правления, породившие ощущение былого величия, утраченного со смертью вождя[215]. И хотя перестройка дала возможность обсуждать эти сложные темы, общество не смогло прийти к консенсусу относительно того, что произошло во времена сталинского террора. В результате традиция искать внутренних и внешних врагов может в любой момент вернуться и быть использована в политических целях. «Сталин умер вчера», – писал Гефтер, подчеркивая, что тень диктатора до сих пор нависает над обществом и позволяет положительно относиться к тому, что происходило в 1930–1950 гг.[216] Историк отмечал, что некоторые представители перестроечной и постперестроечной либеральной общественности склонны использовать схожие между собой речевые конструкции, позаимствованные из тоталитарной риторики, чтобы уничтожить политических оппонентов. К примеру, жажда Ельцина сохранить власть привела к тому, что первый российский президент не побоялся прибегнуть к делению общества на своих и чужих, что всегда делают тоталитарные лидеры[217].
Подписание Беловежских соглашений в декабре 1991 г. и почти немедленно последовавший за этим коллапс СССР стали для Павловского поворотным моментом[218]. Он тяжело перенес исчезновение «советского проекта»: «Пережив исчезновение государства, где я родился и вырос и в которое здорово вложился биографически, я боялся второго распада. Преувеличивал его опасность… СССР для меня был мощной идеей, проектом глобального уровня, а горбачевский Союз – самым либеральным вариантом России, какой вообще мыслим. Уже ельцинское государство было менее либерально»[219]. Политический и интеллектуальный кризис, а также кризис национальной самоидентификации, связанный с неожиданным развалом Советского Союза и появлением новой страны, привели Павловского к мысли, что государство может быть спасено путем внедрения «интеллектуального механизма, генерирующего современную власть»[220]. Россия времен раннего Ельцина была чуждым Павловскому государством, и происходившие изменения подтолкнули его к тому, чтобы действовать. «ФЭП возник, когда умер Гефтер. Он умер в феврале 1995-го. Мы с ним были очень близки в последние годы. У него была сильная философия. Мне хотелось понять, насколько она сильна. Хорошая философия может пересилить тупую политику»[221]. В разговорах с философом Александром Филипповым Павловский отмечал, что знал о сталинском терроре больше, чем о любом другом периоде российской или советской истории, и это помогло ему сконструировать повестку нескольких политических кампаний, включая выборы 1996 г., а затем сформулировать и несколько главных тезисов путинского политического режима[222].
Одним из главных тезисов оказалась идея крушения Советского Союза как наиболее трагического момента ХХ в., а также создания на его обломках сильного государства, своего рода возврата власти, восстановления исторической справедливости. Павловский считал Беловежские соглашения разрушительными как для государства, так и для нации, а Российскую Федерацию воспринимал как искусственное «государственное образование». В своем важнейшем эссе середины 1990-х, называвшемся «Слепое пятно», он критиковал российское общество за то, что оно не сожалеет об утраченном советском государстве, называл россиян «беловежскими людьми», а Россию – «антикоммунистическим» Советским Союзом, урезанным, раненым и издырявленным[223]. Выход из ситуации виделся автору только в обретении нации, а для власти – в изобретении новой идеи того, что такое Россия.
Победа Путина в 2000 г. была воспринята как победа новой концепции власти – открылась чистая страница, на которой будет написана история нового государства. «Путин вводит в России государство взамен десятилетия хаоса», – провозгласил Павловский весной 2000 г. сразу же после триумфа команды нового президента[224]. Характерно использование им глагола «вводить» в описании первых шагов Путина на президентском посту, как будто Путин занимался этим единолично. Придание новому президенту такого статуса с самого начала его карьеры неслучайно, оно показывает общее направление действий прокремлевских интеллектуалов по превращению Путина в главную политическую «скрепу» общества. Апофеозом этой политики, безусловно, стала фраза Володина «Нет Путина – нет России», олицетворяющая собой важный элемент государственной пропаганды, которая стремится подчеркнуть единство политического лидера и нации[225].
Высокий рейтинг президента, который необходимо поддерживать любой ценой, также был частью новой идеологической платформы Кремля: после ухода крайне непопулярного Ельцина команда Путина была озабочена тем, чтобы он использовал свою популярность для проведения необходимой Кремлю политики. Как подчеркивает Сэм Грин, с одной стороны, популярность Путина формируется за счет изучения запросов россиян через социологические исследования, подчеркивающие популярность политического лидера[226], а с другой, россияне формируют свои взгляды и вкусы во многом благодаря напрямую и косвенно контролируемым Кремлем медиа[227]. Кремль старался укрепить популярность Путина среди различных групп общества, представляя его «президентом всех россиян», – популистская мера, направленная исключительно на продвижение его в качестве «народного лидера», способного объединить (хотя бы риторически) крайне разобщенное российское общество[228]. Популистский лидер – как заметил Франциско Паницца – это обычный человек с необычными качествами, способный спасти нацию от разрушения политических институтов и вернуть веру в насквозь коррумпированную власть[229]. На контрасте с Ельциным и при отсутствии хоть какого-то доверия к первому российскому президенту демарш Путина многим представлялся началом новой, более справедливой эры.
В одном из первых своих интервью после победы Путина Павловский очень точно описывает популистскую модель конструируемого путинского режима: «10 лет подряд массы ворчали на Ельцина, что он установил “оккупационный режим” и что “так жить нельзя”, и продолжали себе спокойно жить, значит, существовавший баланс все-таки их устраивал. А теперь все, баланс их больше не устраивает! Массы, которые после 1991–1993 годов не пускали на политическую сцену, наконец на эту сцену вырвались. И Путин – их лидер. А уж в каком смысле лидер, можно спорить – лидер он партии власти или партии оппозиции. Мое мнение: те, кто Путина выбрал, видят в нем лидера оппозиции, взявшего власть в России. Для путинского большинства Путин – лидер партии оппозиции старому порядку»[230].
Популистское противопоставление нового российского президента и политических элит ельцинской поры было, без сомнения, риторическим конструктом. Как известно, многие представители путинской элиты начали свои карьеры в 1990-е гг.[231] Однако мысль о том, что победа Путина в 2000-м была «народной победой», работала на создание представления о нем как центральном элементе новой политической реальности. В этой реальности крушение СССР, страхи новых экономических кризисов и распада страны работали на популярность Путина среди тех, кто более всего пострадал от экономических и социокультурных потрясений 1990-х. Уже позднее Павловский признавался, что «путинское большинство», как он назвал этот феномен, было использовано в качестве «дубинки» против политических противников[232]. Одобрение политики Кремля от имени большинства – типично популистский подход – стало важным инструментом делегитимации оппонентов и продвижения необходимой Кремлю повестки.
Вполне в стиле риторики сталинизма Павловский однажды сравнил главных оппонентов Путина начала 2000-х – опальных олигархов Владимира Гусинского и Бориса Березовского – с Зиновьевым и Каменевым, оппонентами Сталина, погибшими в чистках 1930-х. Это знаковое сравнение с кровавым эпизодом тоталитарного прошлого России говорит не только о воздействии гефтеровской философии, но и об умелом жонглировании идеями, отзывающимися в культурной памяти общества. В интервью журналистке Елене Трегубовой Павловский провел очень четкое разделение между Путиным, напрямую говорящим с народом, и олигархами, которые находятся на обочине политического процесса и чьи интересы власть более не будет соблюдать[233].
Для того чтобы получить влияние и на интеллектуальном поле, структуры ФЭП поддерживали сеть объединений, в которых ученые и журналисты с гуманитарным образованием разрабатывали идеи, получавшие затем поддержку в книгоиздании и прессе[234]. Историк Алексей Миллер в качестве примера того, как искажаются переводы иностранных публикаций о России, приводил книгу Доминика Ливена “The Russian Empire and her Rivals”. В русском переводе ее назвали «Российская империя и ее враги» (а не соперники, как было бы правильнее). Опубликованная Павловским в издательстве «Европа» в 2007 г., книга с помощью изобретательного визуального ряда и введения к российскому изданию, явно написанному по следам современных политических событий, однозначно указывала на антирусский заговор и общую обстановку русофобии на Западе[235].
Возможность публиковать крайне субъективные, даже пропагандистские тексты, а затем с помощью контролируемых телеканалов и газет создавать им популярность способствовала распространению антизападных теорий заговора в российском обществе. Павловский и сам в 2005–2008 гг. вел на НТВ телевизионную программу «Реальная политика», где представлял «кремлевский» взгляд на вещи, и, по его собственным словам, не чурался участия в политической пропаганде, направленной против внутренних и внешних оппонентов режима[236]. В преддверии выборов 2008 г. теории заговора помогали объяснять, почему необходимо поддержать Путина и его партию «Единая Россия», а доступ к источникам информации и откровенные манипуляции делали конспирологическую интерпретацию событий доступной и менее маргинальной в глазах обычного россиянина.
Обычно осторожный в своих заявлениях и оценках, как и большинство высокопоставленных российских политиков, политологов и публичных интеллектуалов 2000-х, Павловский обратился именно к парадигме заговора, чтобы объяснить важные для Кремля политические события середины «нулевых». Вернувшись из Украины после провала Януковича, он интерпретировал победу Ющенко как однозначный «оранжевый сценарий», апробированный на ближайшем союзнике. «Их Украина интересует только как граница России. Возьмите просто статьи, возьмите десять западных статей, и вы увидите, что там две трети темы – это Россия, а не Украина. Это – как ограничить влияние России… Они попытаются, если им удастся свергнуть избранного президента, они попытаются, я думаю, превратить Украину в такой большой интересный экспериментальный полигон для апробирования этих технологий на России. Я практически уверен, что это так и будет. Поэтому, я думаю, нам придется готовиться уже не к политтехнологиям, а к революционным технологиям. И, если они хотят экспортировать, так сказать, к нам революцию, то…»[237]
Именно идея об «оранжевом сценарии для России» и отсылки к природной русофобии Запада сделали конспирологический дискурс частью политической риторики постсоветской России. С началом операции «Преемник», целью которой было оставить Путина у власти после 2008 г., постоянные упоминания угрозы революции извне стали для многих российских политиков естественной объяснительной моделью отношений в мире. Россия – это козел отпущения, за чей счет другие мировые державы решают свои проблемы. «Россия, собственно, единственная страна мира, которая не включаема в нынешний мировой порядок. В этом смысле она может ожидать, не имея сегодня никаких врагов, может ожидать завтра попытки решения всеми своих проблем за ее счет. В этом смысле тенденции к русофобии, антироссийским настроениям являются чрезвычайно опасными»[238]. На внутриполитической арене в период подготовки к выборам 2007–2008 гг. Павловский открыто провел черту между союзниками Путина и его «врагами», включив в них оппозиционные движения и политиков, выступавших против передачи власти преемнику[239].
Идеологическая конструкция власти Кремля в 2000-е, сформированная в том числе Глебом Павловским, – яркий пример того, как популистские и антизападные теории заговора могут постепенно включаться в идеологическую повестку. Знание истории и умение инструментализировать интеллектуальный потенциал, полученный в годы работы с Гефтером, позволили Павловскому сформулировать концепции единства народа и политического лидера, основываясь на советском шаблоне. В свою очередь, эти концепции сделали возможным перенос теорий заговора из маргинальных кругов правых и левых интеллектуалов в самое сердце политических дискуссий. А некоторым из публичных интеллектуалов они помогли сделать успешную медийную и политическую карьеру.
Вечная война континентов
Говоря о российских конспирологических теориях, невозможно не упомянуть Александра Дугина – центральную фигуру постсоветской культуры заговора. Среди множества авторов теорий заговора разного калибра и идеологической направленности Дугин чуть ли не единственный, кому западные исследователи русского национализма, российской политики и политической философии посвящают статьи и книги[240]. В 2014–2015 гг., во время кризиса на востоке Украины, в США и Европе его представляли чуть ли не «мозгом Путина». Авторы этих публикаций видели связь между антизападными взглядами Дугина и путинским переходом к авторитаризму, а также захватом Крыма[241]. Апогеем этого международного признания стало звание «Глобальный мыслитель-2014», присвоенное Дугину журналом Foreign Affairs за разработку плана отделения Крыма и Донбасса от Украины[242].
При этом Дугин, пожалуй, единственный, среди российских конспирологов, кого американские и европейские коллеги приглашают на встречи и интервью. Один из таких коллег – скандальный американский теоретик конспирологии Алекс Джонс, прославившийся горячей поддержкой Трампа и поисками антиамериканского заговора в высших эшелонах американской власти[243]. Сложно сказать, в какой мере идеи Дугина повлияли на идеологическое прикрытие российской политики, но его антизападные взгляды и активная работа по формированию отечественной культуры заговора, без сомнения, сделали многое, чтобы конспирологические теории стали популярны в консервативных кругах.
Как и Павловский, Дугин – бывший диссидент, член Южинского кружка, в котором собирались люди, интересовавшиеся мистикой и оккультизмом[244]. Именно среди них началась карьера философа, и следы глубокого погружения в мистику легко обнаружить в последующих дугинских сочинениях. В перестройку Дугин ненадолго присоединился к праворадикальному движению «Память» – символу антиеврейских настроений в поздний советский период[245]. Однако очень скоро он разошелся во взглядах с лидером «Памяти» Дмитрием Васильевым: кондовый антисемитизм никогда не был Дугину по-настоящему близок.
Ближе к концу перестройки он впервые попал в Западную Европу, где встретился с представителями новых правых, что, несомненно, повлияло на дальнейшее развитие его взглядов[246]. Вероятно, именно в это время Дугин столкнулся с огромным количеством неофашистских и праворадикальных теорий заговора, которые помогли ему сформулировать свои собственные идеи[247].
Вернувшись в Россию, в 1991 г. Дугин присоединился к редакционной коллегии газеты «День», возглавляемой Александром Прохановым – еще одним одиозным консервативным автором, близким к военным элитам СССР[248]. Эта газета была главным печатным органом националистического движения, что дало Дугину возможность поделиться своими взглядами с куда более широкой аудиторией, чем любители мистики. Примерно в это же время Дугин основал издательство «Арктогея» и Центр специальных метастратегических исследований, на долгие годы ставшие платформой для распространения его идей[249].
Несомненный талант Дугина – в способности объединять темы, связанные с политикой, историей, международными отношениями и даже поп-культурой[250]. Поэтому его стали часто приглашать на телевидение, радио и в другие медиа, даже в модные издания. Пиком его карьеры стал выход в 1997 г. книги «Основы геополитики», которая помогла ему заработать репутацию эксперта по широкому кругу вопросов внутренней и внешней политики. Благодаря этому он стал советником Геннадия Селезнева – спикера Госдумы и члена КПРФ, и начал преподавать в Академии Генерального штаба, получив возможность оказывать определенное влияние на умы руководства армии[251].
«Основы геополитики» описывают всемирную историю как нескончаемую битву двух сил, названных «Суша» и «Море». Для Дугина геополитика – универсальная наука: постигнув ее принципы, обычные люди могут самостоятельно анализировать историю человечества, понимать причинно-следственные связи между событиями и обнаруживать «истинную» природу вещей[252]. Характерное для теоретика заговора поведение является предметом рефлексии самого Дугина. В 1992 г. в сборнике статей под названием «Конспирология» он отмечает глобальную популярность теорий заговора, называя их «веселой наукой постмодерна»[253]. По Дугину, стремление объяснять реальность при помощи конспирологии кроется в человеческом подсознании.
Вера в заговоры – часть древней традиции восприятия реальности, и сохранение этого свойства психики связывает современного человека с древними людьми[254]. А раз вера в заговоры существовала на протяжении всей истории человечества, значит, это естественное свойство человека, что, в свою очередь, доказывает реальность существования заговоров. При этом Дугин умело представляет себя сторонним наблюдателем за «странными картинками социальных расстройств», называясь «психиатром»[255]. Тем не менее первое эссе о конспирологии затмевается рядом других текстов, в которых психиатр меняется местами с пациентом и стремится обнаружить всемирный антироссийский заговор.
Дугин утверждает, что Россия – страна христианская и призвана спасти мир от апокалипсиса[256]. Также она является центром евразийской цивилизации и олицетворяет Силы Суши, противостоящие Силам Моря, представленным в первую очередь США. По мысли Дугина, СССР и США – это две модели общественного устройства. СССР и его союзники по социалистическому лагерю были основаны на единстве общества под управлением «духовного лидера», в то время как Соединенными Штатами правят индивидуалистские ценности и финансовый интерес[257]. Подобное системное деление мира – основа политической философии Дугина и главный способ интерпретации политической реальности.
В своих работах по геополитике он ссылается на основателя дисциплины Хэлфорда Маккиндера, который в начале ХХ в. предложил концепцию сухопутных и морских сил[258]. Однако Марк Бассин и Аксенов справедливо замечают, что дугинская интерпретация теории геополитики скорее отражает видение глобальной политики времен холодной войны, нежели британскую теорию международных отношений начала ХХ в.[259] В центре мироздания тут – конфликт между Россией и США, глобальное деление мира на своих и чужих, при этом США (и шире – англо-саксонский мир) представлены как единое неделимое целое. Это геополитическое противостояние, по мысли Дугина, и стало одной из причин развала СССР. Впрочем, он пытается придать видимость научности своему подходу, объясняя крах государства социоэкономическими проблемами (что заметно отличает его от других авторов 1990-х, всюду искавших только заговор). Тем не менее деятельность «пятой колонны» внутри СССР также признается немаловажным фактором, а идея союза России и Западной Европы отсылает к философии евразийства, возникшей в России в 1920-е гг.[260] Однако подход Дугина соединил концепцию евразийства с философией холодной войны и посылом антиамериканских публикаций европейских новых правых.
Интересно отметить, что перенос европейских и американских теорий заговора на российскую почву произошел под сильным влиянием европейских правых мыслителей. Немецко-украинский политолог Андреас Умланд показал, что на легендарный журнал «Элементы: Евразийское обозрение», второй выпуск которого был посвящен теме «нового мирового порядка» – центральной теории заговора для американского общества, влияние оказал французский правый мыслитель Ален де Бенуа[261]. В редакционном введении Дугин обозначил основные элементы нового мирового порядка – мировое правительство, отсутствие национальных границ, рыночный либерализм и власть тайных обществ, таких как Трехсторонняя комиссия. Несколько статей выпуска в деталях описывают способы, которыми внутренние и внешние враги России помогают формировать мировой порядок в интересах США, разрушая уникальную национальную идентичность обществ по всему миру. «“Новый мировой порядок” представляет собой эсхатологический, мессианский проект, намного превосходящий по масштабам другие исторические формы планетарных утопий… Экономически: идеология “нового мирового порядка” предполагает повсеместное и обязательное установление на всей планете, независимо от ее культурных и этнических регионов, либерально-капиталистической, рыночной системы. Все социально-экономические системы, имеющие в себе элементы “социализма”, “социальной или национальной справедливости”, “социальной защищенности”, должны быть полностью разрушены и превращены в “абсолютно свободный рынок”… Геополитически: идеология “нового мирового порядка” отдает безусловное предпочтение странам географического и исторического Запада по сравнению со странами Востока… Этнически: идеология “нового мирового порядка” настаивает на предельном расовом, национальном, этническом и культурном смешении народов, отдавая абсолютное предпочтение космополитизму больших городов… Религиозно: идеология “нового мирового порядка” подготовляет пришествие в мир определенного мистического персонажа, появление которого должно будет резко изменить религиозно-идеологическую картину на планете»[262].
Теория заговора, связанная с новым мировым порядком, появилась в США в 1970-х гг. и приобрела популярность в начале 1990-х. Концепция мирового правительства богачей и коррумпированных политиков пришла на смену страху ядерной войны с СССР. Как отмечает американский культуролог Майкл Баркун, в начале 1990-х крах Советского Союза оставил идеологический вакуум среди американских религиозных правых, которые быстро заполнили пустоту страхом мирового правительства и недоверием к собственным продажным политикам, жаждущим тотального контроля над простыми американцами[263]. Новый мировой порядок оказался отличной зонтичной концепцией, объединившей страхи как религиозно настроенных американцев, видящих в политических и финансовых элитах угрозу их моральным принципам, так и секулярных сторонников теорий заговора, разделяющих тотальное недоверие к политическим элитам и уверенных, что те готовы на все, чтобы удерживать свою власть и эксплуатировать простого человека.
Эта теория пришлась «ко двору» и в России, но по несколько иным причинам. На российской почве, и именно благодаря Дугину, она приобрела совершенно другой вид, и, что характерно, знания о новом мировом порядке, полученные Дугиным от французских коллег, оказались ограничены французскими источниками и фокусировались, скорее, на секулярной, антилиберальной критике глобализма, в то время как религиозный аспект концепции был Дугиным проигнорирован. «Поскольку конец XX века не отличается особой религиозностью, то теологические аргументы и упоминания дьявола у современных конспирологов довольно редкое явление»[264], – писал Дугин, будучи, по-видимому, незнаком с огромным культурным пластом американских религиозных теорий заговора, связывающих новый мировой порядок и пришествие Антихриста[265].
Впервые философ сделал отсылку к новому мировому порядку в 1991 г. в статьях «Великая война континентов» и «Идеология мирового правительства», использовав французский термин «мондиализм» для описания мультикультурного мира без границ, где правит либерализм[266]. Судя по цитируемым источникам, его вдохновляли именно французские авторы, и, видимо, новая критика «американского мира» вместе с болью от проигрыша в холодной войне подтолкнули Дугина интерпретировать новый мировой порядок как исключительно антиамериканскую концепцию, забывая, что она возникла как изоляционистская и антиправительственная идея на американской почве. «Новым в антимондиализме является особая геополитическая роль Соединенных Штатов Америки и тот культурный и социальный архетип, который сегодня окончательно и устойчиво сложился в этой сверхдержаве. “Американизм” является отправной чертой мондиализма, так как именно США стали стратегическим и идеологическим центром постиндустриального неокапитализма, и именно там идеологические импликации капитализма достигли своих логических пределов и экономически, и культурно»[267].
В контексте глобальных политических катаклизмов начала 1990-х заимствование американской концепции российским автором для критики собственно американской внешней политики оказалось чрезвычайно удобным. Перестройка, либеральные и технократические реформы Горбачева/Ельцина казались Дугину логическим продолжением антироссийского заговора и служили лучшим доказательством того, что «мондиализм» – смертельная угроза для России. А жестокие конфликты в государствах бывшего социалистического блока – националистически-популистской интерпретацией того, что славяне – единственные, кто способен защитить мир от гегемонии США. «Вместо мирного вхождения Восточного Блока в Новый Мировой Порядок после прихода в СССР к Власти откровенных мондиалистов и сторонников Мирового Правительства – Горбачева, Ельцина и их атлантистских кураторов – народы пробудились, вспомнили о своем существовании как народов, а не как простых статистических единиц и экономических абстракций, о своей национальной традиции и восстали против новой Утопии, против нового мирового соблазна, против Конца Истории»[268].
Таким образом, в постсоветском российском контексте концепция нового мирового порядка приобрела исключительно антизападный, антиамериканский характер и в таком виде была воспринята многими последующими авторами теорий заговора[269]. Утрата статуса сверхдержавы и военные конфликты, в которых важную роль играли США (на Балканах, в Кувейте, в Грузии), также воспринимались как следствие антироссийского заговора[270]. Мир, в котором существует один гегемон, вызывал ужас и ненависть российских националистов. Сергей Бабурин, один из парламентских лидеров националистической партии РОС (Российский общенациональный союз), в 1990-е гг. заявлял, используя дугинскую терминологию: «Мы видим, что все мондиалистские проекты имеют на себе явный отпечаток того политического, правового и государственного режима, который так радеет о наступлении этого пресловутого “Порядка”. Отсюда напрашивается вывод: после крушения биполярного мира именно США стремятся стать единственным планетарным диктатором, стремятся стать единственным арбитром в международных вопросах. Нужно ли это всем народам мира? Отнюдь не уверен. Более того, от установления такой планетарной диктатуры проиграют в конце концов сами США. Не могут не проиграть…»[271]
Занятно, что спустя 15 лет после этого интервью похожие мысли с критикой гегемонии в международных отношениях были высказаны Владимиром Путиным. Это показывает, какое значение приобрел антиамериканизм в российской политической идеологии: «Это один центр власти, один центр силы, один центр принятия решения. Это мир одного хозяина, одного суверена. И это в конечном итоге губительно не только для всех, кто находится в рамках этой системы, но и для самого суверена, потому что разрушает его изнутри. И это ничего общего не имеет, конечно, с демократией»[272].
Именно такие повороты политической риторики российского руководства дают основания полагать, что у Дугина есть тесные связи с Кремлем. Однако доподлинно неизвестно, насколько близко он знаком и знаком ли вообще с российским политическим руководством. Джон Данлоп[273] и Чарльз Кловер[274] полагают, что в начала 2000-х Павловский помог Дугину получить доступ к Администрации Президента. В 2001 г. Дугин основал политическое движение «Евразия», в руководящем совете которого было много известных политиков, ученых и медиаперсон[275]. В 2008 г. он получил пост руководителя Центра консервативных исследований, а в 2009-м стал заведующим кафедрой социологии международных отношений МГУ[276]. Это подчеркнуло его идейное влияние и неформальные связи и стало кульминацией карьеры ученого. Но из-за критики политики Путина на Донбассе Дугин лишился этой должности[277], однако в 2016 г. продолжил участвовать в международной политике, якобы помогая разрешить кризис в отношениях России и Турции[278].
Влияние Дугина на медиа также довольно заметно: его приглашали в телевизионные программы, он активно участвовал в политической жизни, и это помогло его идеям проникнуть в политический мейнстрим. Журналист Кловер утверждает, что в начале 2000-х гг. Дугину помог пробиться на федеральные телеканалы известный в прошлом телеведущий, а ныне вице-президент «Роснефти» по связям с общественностью Михаил Леонтьев[279]. Яркие леонтьевские «пятиминутки ненависти» под названием «Однако» стали отличной площадкой для продвижения дугинской конспирологии в массы. Постепенно голос Дугина заглушил голоса других спикеров более либерального толка, что было выгодно Леонтьеву, также вступившему в движение «Евразия».
Самая известная из дугинских работ «Основы геополитики» – при том что он активно продвигал свои воззрения через многочисленные медиа – оказала заметное влияние на развитие российской конспирологической культуры. Идея о заговоре Запада, интерпретированная через дискурс геополитики, а также попытки подвести под нее научную базу помогли Дугину занять центральное место в пантеоне теоретиков конспирологии. Однако, как бы парадоксально это ни звучало, достичь такого положения он сумел благодаря трансферу теорий заговора из Европы и США, адаптировав их под российский политический контекст. Но на этом рынке идей Дугин оказался не одинок.
Православная Россия против бездуховного Запада
Обращение лояльных власти публичных интеллектуалов к историческому прошлому России – обычное дело. «Историческая политика» давно стала частью инструментария восточноевропейских политических режимов, помогая им обрести дополнительную политическую легитимность и общественную поддержку[280]. В России на этом поприще особенно активно выступает Наталия Нарочницкая – политик, общественный деятель и частый гость теле- и радиопрограмм, рассуждающая с консервативных позиций о прошлом России, подвигах российской армии и роли православного христианства. Что беспокоит Нарочницкую, так это контраст между трагичными, но славными событиями прошлого, и тусклым, почти ничем не примечательным настоящим[281].
Нарочницкая – публичный интеллектуал, постоянно напоминающий публике о своем академическом статусе, успешной дипломатической карьере и политической деятельности в качестве депутата Госдумы. Эти детали биографии, а также семейный бэкграунд призваны придать вес ее словам при обсуждении вопросов внутренней и внешней политики и убедить слушателя в обоснованности ее мнения. Ссылаясь на академические достижения своих родителей, Нарочницкая не перестает подчеркивать, что именно они, патриоты российского государства, сумели в своих работах показать историю западных интриг против России[282]. Называя себя «романтической националистской», Нарочницкая, основавшая в 2004 г. «Фонд изучения исторической перспективы», стала вести активную деятельность по пропаганде «патриотического видения истории»[283]. В президентство Дмитрия Медведева это привело ее в комиссию по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России. Эта комиссия при Президенте Российской Федерации была создана как один из первых опытов государственного цензурирования отечественной истории.
По Нарочницкой, величие России заключается в ее невероятной территории и геополитических достижениях прошлого, достижениях обычных русских людей, отдавших свои жизни за родину и православную религию. Именно жертвенность, духовность, межэтническая толерантность и социальная справедливость отличают русских от других народов мира[284]. Русская история является фундаментом российского величия, а потому тайный план Запада – в пересмотре и разрушении представлений о великом прошлом: «Уничтожение российского великодержавия во всех его духовных и геополитических определениях, устранение равновеликой всему совокупному Западу материальной силы и русской, всегда самостоятельной исторической личности с собственным поиском универсального смысла вселенского бытия – вот главное содержание нашей эпохи. Под видом прощания с тоталитаризмом сокрушена не советская – русская история»[285].
Постоянное сравнение России с другими народами, практикуемое Нарочницкой, призвано подчеркнуть политическое, а главное – духовное отставание Запада от России[286]. Именно это и порождает ненависть Запада к российскому государству и народу, чьи моральные и религиозные качества были дарованы ему Богом[287]. Именно русским, по мнению Нарочницкой, свойственны высокие моральные стандарты и природная толерантность по отношению ко всем народам и расам. В то же время космополитичные общества Запада, находящиеся под контролем антинациональных элит, искусственно продвигают толерантность вместо любви к родине, потому что их родина там, «где ниже налоги»[288]. Такое сопоставление любопытно в плане использования традиционной американской теории заговора для объяснения якобы существующей русофобии. Национальное величие России контрастирует, в текстах Нарочницкой, с наднациональными структурами ЕС или ООН, якобы созданными франкмасонами с целью глобального политического доминирования и превращения всех народов в единую подконтрольную им массу[289]. Очевидная отсылка к теориям нового мирового порядка, как и в случае с Дугиным, демонстрирует явное влияние глобальных трендов на российскую культуру заговора.
Другое важное отличие России от Запада заключается, по Нарочницкой, в православном христианстве. Нарочницкая утверждает, что православие спасло Россию от безудержного накопительства, столь характерного для западной культуры, и помогло мирно интегрировать народы в империю[290]. С одной стороны, Нарочницкая утверждает, что христианство объединяет Россию с Европой благодаря ценности человеческой жизни, о которой говорил Иисус[291]. Это единство могло бы стать базисом для союза и достижения взаимовыгодных целей. С другой стороны, западноевропейские христианские конгрегации ненавидят Россию и желают ее разрушения[292]. Ватикан, по мысли историка, всегда намеревался колонизировать русские земли и до сих пор поддерживает «пятую колонну либералов», которые критикуют РПЦ, подрывая таким образом основу нации. Англосаксонский протестантизм, по мнению Нарочницкой, также враждебен России, поскольку его представители рассматривают другие нации как источник выгоды[293]. Доминирование США на мировой арене воспринимается ею как результат следования принципам кальвинистской философии. Именно они помогли развиться мессианскому неолиберализму, который американцы экспортируют по всему миру вместе с атеистическими взглядами[294].
Философия Нарочницкой – это смесь антиглобалистской конспирологии с элементами христианского фундаментализма и советской пропаганды времен холодной войны. Она успешно использует клише советской антизападной пропаганды для продвижения своих идей, акцентируя внимание на некой «мировой элите» и «мировом сообществе» как главных силах, контролирующих мир[295]. Это деление мира на элиту и остальные нации помогает успешно позиционировать Россию как лидера альтернативного мира, противостоящего гегемонии США, и постоянно подчеркивать опасность интеграции в так называемое мировое сообщество. Представители западных либеральных идеологий внутри России для Нарочницкой – ее главные оппоненты и источник угрозы для великой нации. Критикуя ее прошлое, они наносят стране непоправимый вред[296]. Нарочницкая считает, что современные прозападные элиты России не понимают наследия европейской интеллектуальной истории и не любят страну, в которой живут. Поэтому они ненавидят ее народ и его религию, считая главным в своей жизни банковские счета[297]. Именно эти антирусские, западноориентированные элиты и есть основное оружие Запада по разрушению величия России, и они успешно достигли того, чего хотел Запад, в период перестройки: «Под лозунгом прощания с тоталитаризмом доминирующие тогда либералы-западники вышвырнули и растоптали 300-летнюю русскую историю, сдали Западу позиции, которые завоевывались веками»[298]. Попытки принизить вклад СССР в победу над нацизмом Нарочницкая воспринимает как часть заговора Запада – по ее мнению, они направлены на то, чтобы поставить под вопрос территориальные завоевания государства после 1945 г.[299] Прозападных постсоветских интеллектуалов она сравнивает (не в пользу первых) с имперской интеллигенцией и белоэмигрантами, уехавшими из России после 1917 г., но никогда не работавшими против родины[300]. Даже спор западников и славянофилов представляется ей полемикой двух патриотически настроенных групп русских мыслителей, дискутирующих о месте России в мире[301].
Специфический подход Нарочницкой к толкованию отечественной истории имеет очевидные политические последствия: учитывая отсутствие четкого консенсуса относительно событий, происходивших в России в ХХ в., раскол общества по поводу отношения к революции 1917 г. и репрессиям 1930-х гг., ее взгляды – это попытка примирить всех на базе некоего исторического величия страны без критического обсуждения конфликтов прошлого. Разговор об истории России через призму заговора помогает Нарочницкой преодолеть раскол и способствует пусть и риторическому, но объединению россиян вокруг неких общих ценностей. «Мы вообще не должны выбрасывать ни одной страницы из истории Отечества, даже той, которую не хотели бы повторить»[302] – этот призыв, способный сгладить конфликты из-за самых трагичных страниц истории российского общества, позднее был повторен на самом высоком государственном уровне[303].
Более того, с 2009 г. Нарочницкая играла ключевую роль в дискуссии вокруг памяти о Первой мировой войне[304]. Она восхваляла подвиги русских солдат, спасавших Европу, и критиковала большевиков и Запад за намеренное забвение величия имперской армии. Согласно Нарочницкой, именно стирание памяти о победах в Первой мировой стало одним из элементов антирусского плана врагов России, стремившихся лишить ее заслуженной гордости за содеянное[305]. В 2013 г. на первой встрече Российского военно-исторического общества Путин согласился поддержать установку памятника солдатам Первой мировой, придав обсуждению этой темы уже совершенно другой характер[306].
В случае с Нарочницкой мы видим, как акцент на религии и на величии военных и дипломатических завоеваний русских в сочетании с медийной популярностью и ярким академическим бэкграундом автора конспирологических теорий превратили эти теории в инструмент национальной политики. Отсылка к победам русского оружия, противопоставление Западу и критика неолиберальной политики европейских государств и США поместили Нарочницкую в центр консервативного дискурса и позволили ей вырабатывать идеи, влиявшие на политическую повестку дня все более авторитарного государства. Сложно сказать, насколько близка Нарочницкая к центрам принятия политических решений, однако ее включенность в консервативные элиты, работа в парламенте и государственных НКО демонстрируют ее связи с политической верхушкой. Критикуя Запад с позиций православного политика, Нарочницкая, безусловно, могла потерять часть аудитории мультиконфессионального государства. Однако другие медийные лица смогли доносить те же мысли, но уже для других конфессий.
Максим Шевченко и битва против западного неолиберализма
С середины 2000-х журналист Максим Шевченко выступал одним из наиболее ярких критиков Запада в российских медиа. Его карьера журналиста началась в «Независимой газете», где он освещал религиозные вопросы и конфликт на Северном Кавказе. С 2006 г. он стал вести на Первом канале ток-шоу под названием «Судите сами», что помогло продвижению его карьеры. Регулярные комментарии по поводу межрелигиозных и межэтнических конфликтов в России и за ее пределами сделали Шевченко главным медиаэкспертом по этим темам и дважды привели в Общественную палату по президентскому списку. В 2012 г. он возглавил онлайн-ресурс «Кавказская политика», где обсуждались многие проблемы этого региона, и по сей день Шевченко остается одним из главных комментаторов событий на Северном Кавказе для такого телеканала, как «Дождь».
Теории заговора имеют для Шевченко, как и для Дугина и Нарочницкой, важную объяснительную функцию: дискурс о русском национальном единстве объясняет возникающие межэтнические конфликты как результат антироссийского заговора. Согласно Шевченко, Россия – это великая мировая держава, принесшая европейские методы управления и культурного развития на окраины российской и советской империй. Этнические русские в этом процессе стали «костяком», субъектом формирования нации и ее модернизации[307]. Однако для величия России важна комбинация трех этнорелигиозных групп: православных русских, тюрков-мусульман, обитающих на территории Сибири, и совокупности этносов Северного Кавказа. Если один из этих элементов исчезнет, вся русская государственность пропадет и страна окажется под контролем Запада. От национальных государств Европы Россию отличает многообразие культур и «цивилизаций», создавших нацию, и в этом ее величие. Такой союз обеспечивает социальную справедливость и мирные межэтнические отношения, а в качестве примера этого Шевченко всегда приводит Кавказ[308].
Использование Кавказа в качестве кейса межэтнического мира (сомнительного, учитывая историческое прошлое региона) помогает Шевченко достичь двух целей. Во-первых, отвергнуть аргументы русских националистов, чья антикавказская риторика середины 2000-х подпитывала все националистическое движение постсоветского времени[309]. Согласно Шевченко, те, кто призывал к отделению Кавказа, – внутренние враги России, которым однажды, в 1991 г., уже удалось ее развалить, а не истинные патриоты, которыми националисты часто любят себя представлять. Во-вторых, комплименты Шевченко в сторону Северного Кавказа способствуют росту его популярности среди простого населения и элит этого региона. В своих текстах Шевченко не раз подчеркивал связь кавказских культур с древними цивилизациями[310]. Этнограф Виктор Шнирельман, исследуя национальное строительство на Северном Кавказе, продемонстрировал, какой интерес у местных политических и интеллектуальных элит вызывает поиск древних предков, в особенности после крушения СССР. Согласно этнографу, наличие (и, разумеется, изобретение) великих предков помогает этносу формировать представление о собственном превосходстве над соседями и пытаться доминировать в регионе[311]. Таким образом, подход Шевченко способствует осмыслению имперской истории России как совокупности великих историй наций, ее составляющих, и тем самым достижению межэтнического мира. Любой межэтнический конфликт в этом контексте трактуется не иначе как антироссийский заговор, нацеленный на разрушение межэтнической гармонии в стране: «Всякие попытки представить чеченский конфликт как конфликт между чеченцами и русскими, между Чечней и Россией, исходят от смертельных врагов России, которые хотят ее распада, уничтожения, и от точно таких же врагов Кавказа, чеченцев и Чеченской Республики. Это моя святая уверенность»[312].
При обсуждении межэтнических отношениях в выступлениях Шевченко неизменно присутствует конспирология, и благодаря интересу к нему как к эксперту со стороны СМИ интерпретация того или иного события в терминах теории заговора попадает в медийный мейнстрим. К примеру, в 2013 г. в городе Пугачеве произошла драка между двумя мужчинами, один из которых был этническим чеченцем, и событие вызвало определенный резонанс[313]. В интервью «Эхо Москвы» Шевченко охарактеризовал кампанию по освещению события в СМИ как заговор, направленный на развал России, и обвинил так называемые либеральные медиа, социологов и оппозиционных политиков в попытке внести хаос в межэтнические отношения и повторить крах государства, как в 1991 г.: «Я как политтехнолог вижу, что события в Пугачеве полностью организованы, выстроены… Потому что это в чистом виде попытка столкнуть народы России на пустом месте»[314].
Легитимность Шевченко как спикеру придает достаточно критичный взгляд на происходящее в регионе. Его критика местных властей, коррупции, произвола силовиков, о котором знают все жители региона, защита независимых журналистов смешиваются с обвинениями в адрес неких «тайных» анонимных сил, раскачивающих ситуацию. «На Кавказе сегодня параллельно существуют два общества – так называемых сильных людей, маскирующихся под понятие “государство”, и всех остальных, решающих свои социальные, экономические, конфессиональные вопросы кто как может, умеет и понимает… Сильные люди – это имеющие отношение к триаде бюрократии, силовых структур и так называемых финансовых институтов. Они органично дополняются криминалом, имеющим конструктивные, деловые и плодотворные отношения со всеми тремя головами неоимперского орла. Сильные люди существуют в пространстве бюджетных инвестиций, силовых операций, номенклатурных комбинаций. Их власть “на местах” почему-то считается властью государства. Хотя практика и реалии их деятельности, по преимуществу, вроде бы подпадают и под УК, и под другие запретительные и карательные законы государства»[315].
Как видно, подход Шевченко традиционен для конспиролога-популиста – не называть заговорщика по имени, ведь чем больше анонимности, тем больше загадочности. Его популистская риторика, а также статус члена Общественной палаты (2008–2012) и известного тележурналиста помогали ему оставаться в центре политического дискурса. При этом Шевченко регулярно утверждает, что находится в оппозиции к правящему классу, и непрестанно критикует его за рост коррупции. Это, впрочем, не помешало Шевченко играть активную роль в переизбрании Владимира Путина на третий срок в 2012 г. и в выборах Собянина в 2013 г., когда штабом последнего активно эксплуатировалась тема острых межэтнических отношений[316].
Любимая тема Шевченко – критика российской оппозиции и обсуждение ее якобы существующих связей с зарубежными спонсорами, которые в 1990-е превратили Россию в полуколониальный режим, зависимый от США[317]. Беловежские соглашения, по мысли Шевченко, были заговором элит против миллионов жителей СССР. В результате его местные элиты получили неограниченную власть в своих республиках, а Россия была отдана на растерзание «олигархической тирании», были уничтожены ростки истинной социалистической демократии и заключен пакт с геополитическим противником: «…Августовские события 91-го года оказались не чем иным, как антидемократическим переворотом ельцинской группировки. Толпа интеллигентов, в числе которых, каюсь, был и я, была согнана массовкой к Белому дому и исполнила свою шутовскую роль прикрытия заговора подлинных хозяев положения – партноменклатуры, связанных с ними криминальных групп и предателей из силовых структур. Все это привело по сути к верхушечному закрытому заговору трех политиков, изолировавших своих коллег из иных, азиатских, например, республик от принятия решения и не имевших мандатов на такое соглашение!»[318]
Путин для Шевченко – это гарантия целостности и укрепления страны, возврат стабильности и финансового процветания. «Люди хотят больше демократии и не приемлют абсолютного доминирования силовиков, которые в регионах просто сливаются с криминальными группами. Люди хотят, чтобы началось демократическое развитие творческих сил нации. Чтобы нация наконец-то начала формироваться. Я лично считаю, что, несмотря на многочисленные ошибки властей, сейчас никто этого не сможет добиться, кроме команды, связывающей себя с именем Путина»[319]. Так, в типично популистской форме, Шевченко призывал поддержать Путина на выборах 2012 г. и дать отпор Западу и «пятой колонне» внутри России.
Запад, по мысли Шевченко, погряз в неолиберальной эксплуатации человека и «преступен» по своей природе. Впрочем, взгляды Шевченко имеют особенность меняться: в середине 2000-х он представлял Европу как возможного союзника России против гегемонии США[320]. Однако в начале 2010-х Шевченко заговорил о другом: между Россией и Западом (теперь уже включающим и Европу) идет война. Риторический прием отчуждения жителей Европы/Запада, в случае Шевченко, преследует одну цель – показать моральное превосходство России над странами, позволяющими, например, заключать ЛГБТ-союзы: «Понимание, что мы с большинством западных людей принадлежим скорее всего к разным гуманоидным видам, внешне похожим, но внутри уже принципиально иным, не только не покидает – усиливается и укрепляется. С этим непросто смириться – ведь мы привыкли думать, что там живут люди, о которых мы читали книги, смотрели фильмы. А оказывается, там живут какие-то иные существа, совсем не похожие на тех, к кому мы привыкли!»[321]
Всех описанных интеллектуалов объединяет образ традиционной, консервативной России и признание ее глобальной миссии по спасению мира от безудержного потребительства и сексуальной распущенности. Эта позиция апеллирует к мнению людей с консервативными взглядами и, в случае Шевченко, к традиционно консервативному большинству жителей Северного Кавказа. В этой же парадигме противопоставления России и Запада Шевченко представляет российскую оппозицию «пятой колонной» союзников США, стремящихся создать на территории бывшего СССР множество мелких, марионеточных республик. «Я думаю, Макфол прекрасно знает суть нашей либеральной интеллигенции, ее предательскую, продажную сущность, ее ненависть к стране, которая, в частности, была выражена в воскресенье в программе Евгении Альбац представителем “Левада-центра”. Тот сказал, что против Путина сейчас образованная, лучшая, состоявшаяся часть населения, а за Путина – неграмотная, невежественная, такая как бы “грязная” часть. Представители же либеральной интеллигенции зачастую имеют в кармане два паспорта, а в душе три идентичности»[322].
Неудивительно, что Шевченко упоминает двойное гражданство, – это отличный способ маркировать оппонента как «другого», лояльного иному государству. Традиционно этот способ применялся в антисемитской риторике имперского времени (идея «государства в государстве») и советского периода (еврейские националисты-диссиденты). И в риторике Шевченко он находит именно антиеврейское выражение[323]. Характерно, что из всех медиаперсон, в той или иной мере лояльных к власти и обращающихся в своих текстах к конспирологическим теориям, Шевченко – единственный, кто в своих выступлениях активно ссылается на антисемитские теории заговора. В качестве спикера по делам Кавказа он обращается к идее Израиля как государства-оккупанта, «фашистского государства», сражающегося на Ближнем Востоке с мусульманами. Таким образом, Шевченко привлекает внимание исламского населения Северного Кавказа[324]. В этом плане он не изобретает ничего нового, активно заимствуя идеи из богатой культуры антиизраильских теорий заговора, популярных как на Ближнем Востоке, так и в Европе[325]. Этот трансфер идей с Ближнего Востока и из Европы интересен тем, что Шевченко пробует достичь интернациональной солидарности между мусульманами России и Ближнего Востока через конструирование общего, смертельно опасного чужого – еврея и (или) Израиля[326].
Однако к антиизраильским выпадам Шевченко прибегает не только ради жителей Северного Кавказа. Ту же риторику он использует для критики антикремлевской оппозиции. Шевченко объясняет, что евреи, уехавшие из позднего СССР за хорошей жизнью, наиболее жестоки по отношению к палестинцам. «Русскоязычный Израиль по преимуществу – фашистский, ксенофобский, отрицающий право другого народа на совместное проживание, на землю. Это люди, в основном приехавшие туда с разных частей бывшего Советского Союза. Которые туда просто приехали потому, что им стало плохо жить по каким-либо причинам в СССР»[327]. Более того, они не только ведут антипалестинскую политику внутри Израиля. По мысли Шевченко, русскоязычные израильтяне – угроза межнациональной стабильности России: «Русскоязычный Израиль – это угроза информационной безопасности России, поскольку они сюда транслируют исламофобию, ненависть к людям, происходящим из народов, принадлежащих к исламской цивилизации. Они решают свои проблемы на этом маленьком пятачке, через информационное это поле разрушают великую Российскую Федерацию, великий российский общий дом народов, в котором должны жить все и все должны иметь равные права. Они сюда переносят эту ненависть»[328].
То, что Шевченко постоянно и активно прибегает к критике евреев и Израиля, выделяет его среди «коллег по цеху». Исследования показывают, что из всех возможных в России теорий заговора антиеврейские пользуются наименьшей популярностью в политическом мейнстриме. Больше того, они способны доставить проблемы тому, кто к ним обращается. Примеры с Петром Толстым[329] и Ульяной Скойбедой[330] демонстрируют, насколько токсичной может быть эта риторика для спикера и для СМИ, которое решится ее поддержать[331].
Но Шевченко подходит к этому вопросу аккуратно, к тому же с годами его риторика становится менее агрессивной. Обращаясь к узкой и специфической аудитории мусульман России, он конструирует образ государства как совокупности народов, имеющих великое прошлое, составляющих единство и вместе создающих настоящее величие России. Эта конструкция единого «народа», который противостоит, с одной стороны, коррумпированным элитам, а с другой – «опасному Западу», вполне успешно служит целям социальной мобилизации, а также продвижения образа защитника кавказцев и интерпретатора межэтнических конфликтов на территории России. Обладающий харизмой и талантом спикера, Шевченко при поддержке Кремля, без сомнения, стал одним из наиболее интересных авторов русской культуры заговора.