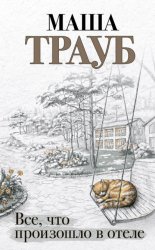Вечная мерзлота Ремизов Виктор

– Поночевал, что ли, с ней? – житейски просто спросил Грач.
Белов молча смотрел, не обиделся на старикову прямоту, покачал головой.
Буксир ярко освещался береговыми прожекторами, часовые стояли на пристани у аккуратно сложенных ящиков. Заключенные неторопливо разгружали трюмовую баржу. Снег пошел гуще, кружился над мерзлой зимней водой. Снежинки липли к не гладкому уже, но будто шершавому телу реки.
– Шуга[66], похоже! – перегнулся Грач через фальшборт. – Бечь надо в Игарку, Сан Саныч, кабы не прихватило!
Белов кивнул согласно, всю дорогу он думал о своем.
Колючие снежинки налетали из-за рубки и вдруг замирали растерянно, зависали без ветра и тут же, подхваченные порвом, уносились вверх. И каждую в ярком свете прожектора было отлично видно и, когда замирала, можно было взять рукой. Но ветер наддавал, буйно и бессмысленно все перемешивал, и опять не понять ничего было. Отяжелевшему от дум Сан Санычу казалось, что и в жизни его все вот так же. Ничего не ясно. Влюбился в ссыльную, сам не понимая как… А тут еще Зинаида, как наступающая зима… Уже завтра он должен был быть у нее… Что делать? – сорвалось с языка вслух. Он оглянулся – никого не было, Грач спустился в командирский кубрик, негромко пыхтела паровая машина, да кочегар, скрипуче открыв металлические заслонки топки, начал отбивать шлак.
20
Декабрь сорок девятого выдался отменно злой. Уже с конца осени встали сорокаградусные морозы, временами и за пятьдесят переваливало. В двух ермаковских школах – одна из них была толком не достроена – на радость ребятишкам то и дело отменяли занятия, и они целыми днями сидели дома и бегали друг к другу в гости. Печки топились сутками, но даже в брусовых домах холодные углы промерзали и покрывались льдом.
Сугробы прикрыли поселковую грязь, но только навели видимость порядка. Большие палатки, прикопанные и обложенные мхом, домишки, балки, землянки и полуземлянки, еще какие-то неведомые архитектуре строения стояли где угодно и как угодно. Кто как мог, так и лепил свою нору, торопясь спрятаться от зимы. Только на подъеме от Енисея да в центре, где были заложены две длинные улицы, поселок был похож на поселок.
Улицам дали названия, а домам номера. Эта сложная условность путала людей, поскольку номера были не везде, то есть у каких-то домов, не говоря о балкх, их не было, улицы были кривы, а часто и не похожи на улицы. Там, где должна была продолжаться Норильская, шла уже Павлика Морозова, которая вскоре по неизвестным причинам превращалась в Овражную. Долгое время были две улицы Щорса и совсем не было улицы Ленина.
Найти по адресу было сложно, и все же, благодаря почте, люди стали сознавать себя ермаковцами – им приходили письма на их адрес! В ответных письмах они хвастались, что еще весной здесь ничего не было, а теперь Ермаково, если считать вместе с зэками, уже больше Игарки и Туруханска вместе взятых. Хвастались и огромной стройкой всесоюзного значения. Не только вольные, но и охранники и заключенные гордились в своих письмах одним и тем же. Их адреса, правда, были короче, и поселка Ермаково на конверте не значилось, да и про стройку им писать не полагалось.
В обычной поселковой жизни появились твердые ориентиры. Горчакова, отправляя на санзадание в Ермаково (а такое случалось нередко – медработников не хватало), чаще инструктировали «на пальцах», чем вручали адрес: «От Управления второй барак в сторону автобазы…» или «Поселок ПГС пройдешь, не доходя пекарни, сразу за землянками…». «Промтоварный», «Большой» и «Дальний» продуктовые магазины или «Продуктовый возле бани» были верными ориентирами. Доделывалось большое здание Дома культуры, и обещали построить стадион. Все, даже дети, хорошо знали, где находится «первый», а где «второй» лагпункт, а где «женская зона» – они располагались на окраинах поселка, и к ним вели широкие – по пять человек в ряду – хорошо натоптанные дороги.
Общественная баня на берегу работала так: понедельник-среда-пятница-воскресенье – мужской день, вторник-четверг-суббота – женский.
Снег на улицах чистили тракторами, по обочинам и особенно на перекрестках образовались высокие, под крыши домов сугробы, с которых дети катались на ледянках. Грузовики ездили, трактора и кони таскали сани или волокуши, а начальство пользовалось конными саночками.
Больницу для вольных сдали к празднику Революции 7 Ноября. На сто коек, с большой операционной, новым рентгеновским аппаратом и зубным кабинетом на два кресла. Прибыли терапевт и зубной врач – семейная пара из Ленинграда по распределению после института. Он – после фронта, искалеченный, с некрасиво обожженным, мясного цвета лицом, она – молоденькая, симпатичная и так ласково поглядывающая на мужчин, что у всего начальства сразу заболели зубы.
Торфяные болота наконец схватились и застыли в бетон, через них прочистили зимники, грузовики и трактора потащили грузы по тайге – в лагпункты и на трассу. Работы на объектах не прекращались – за половину декабря всего три дня актировали[67] из-за холодов, но и те заставили отработать в выходные. Технику, лошадей и собак берегли, люди же выходили. Работали, грелись по теплушкам и снова работали.
Из-за сильных морозов на земляных работах был ад – ни кайло, ни лом не брали грунт. Жгли большие костры, отогревали, снимали мгновенно замерзающий слой и снова наваливали сухостой целыми стволами и сами грелись. Толку было немного – план горел. Бригадиры вечерами мудрили с нарядчиками, придумывали несуществующие работы по расчистке снега, подноске материалов вручную, по корчеванию тайги, которой там давно уже не было, и еще всякую другую «заправляли туфту» и «раскидывали темноту»… и так выполняли производственные задания. Начальство обо всем знало, но закрывало глаза – и план выполнялся на сто, сто двадцать и даже сто пятьдесят процентов. От его выполнения зависели размер пайки заключенных, зарплаты и премии вольных, должности и новые звездочки на погонах высокооплачиваемых сотрудников Министерства внутренних дел.
Шура Белозерцев, раздетый и без шапки, в клубах теплого воздуха выскочил из барака на улицу. Глянул на мутноватую сквозь морозную мглу луну, выплеснул из ведра грязную воду на сугроб и принюхался к температуре. У него был свой термометр: Шура слушал, как щиплет в носу и горле и как вообще можно дыхнуть. Сегодня нельзя было – сухой колючий ком сразу встал поперек. Градусник на столбе показывал минус сорок семь. Вернулся в барак и снова стал наливать горячую воду в ведро.
В операционной, отгороженной дощатой стеной от остального барака, стонал капитан Балакин. Тихо стонал, но не замолкая. Глаз распух и вылез так, что смотреть было тяжело. Кажется, он уже совсем плохо соображал. Горчаков сидел рядом, держал какую-то примочку, сам читал учебник по хирургии.
Белозерцев сунулся было с тряпкой, но передумал, прикрыл дверь и, подхватив парящее ведро, перешел в палату. Капитана привезли позавчера, глаз уже был опухший, но он им еще смотрел и пытался шутить, потом все стало хуже. И вот он третий день ждет операции. Говорили, сам Богданов должен прийти, а чего-то не было его, вроде к какому-то начальству в Норильск вызывали… – Шура открыл печку, поковырял раскаленный уголь кочережкой, добавил пару совков свежего и снова взялся за грязную половую тряпку. Если хирурга не пришлют, помрет капитан, сколько таких околело.
Все это было привычно, и от простого аппендицита или от водянки люди загибались, а капитана с почерневшем глазом было жалко. Красивый, справедливый мужик, бригадиром был в бригаде у вояк, Шура у него работал. Ни сук, ни воров не боялись. «Героя Советского Союза» имел.
Белозерцев обдумывал все это машинально, как машинально дрючил затоптанные, захарканные, испачканные, где кровью, где гноем, а где и недонесенным дерьмом полы, но озабочен был другим.
Пришла Белозерцеву с воли трепетная весточка. Медсестра Рита принесла вчера утром аккуратно оторванную четвертушку из школьной тетрадки, и клочок этот второй день огнем жег Шуре ляжку. Всю ночь сегодня юлой вертелся, все придумывал, как за зону выскочить на часок.
Три дня всего и поработала у них в лазарете медсестричка Полина Строева, и было это два месяца назад, а вот прислала записку, и Шура махом с резьбы соскочил. Месяц в ШИЗО готов был вытерпеть, только бы к ней слетать. Полина прямо писала, звала повидаться, а если получится, то и на ночку. Руки у Шуры тряслись, как у семнадцатилетнего, он и полы-то теперь мыл – за час до подъема встал! – чтобы эту тряску унять. Надо было как-то извернуться, да ничего путного в голову не лезло. Просить Горчакова о таком, подставлять его Шура не смел, лезть под проволоку ночью было страшновато, могли и стрельнуть. Его время от времени отправляли за зону по разовым пропускам, вот об этом о теперь и тосковал. И зло возил тяжелой тряпкой по загаженному, местами обледеневшему полу и бегал выплескивать воду.
Стылая ночь висела над лагерем, и еще часа три после общего подъема будет ночь, вот теперь бы и сгонять. Шура знал барак Полины в поселке, если бегом припустить, то минут десять. И он в который раз прижимался мысленно к ее теплой груди и заглядывал в мягкие глаза.
Разбудило это нежданное письмецо подзабытое, но живое, не вытравленное окончательно чувство. Удивительное чувство, неизвестно где и дремлющее в человеке и непонятно как являющееся вдруг между мужчиной и женщиной. Никогда Белозерцев, даже про себя не произнес бы слово «любовь», совсем не подходящее к заключенному и его жизни. Но это была любовь, Шура очень чувствовал ее в себе, трепетная, в небесные выси поднимающая задроченного зэка от его скотской жизни. Все бы отдал Шура за это теплое прикосновение воли.
Лазарет, устроенный в большой палатке, был битком. Нары типа «вагонка» стояли не только вдоль стен, но и в середине, сейчас здесь больше шестидесяти больных помещались и шесть человек персонала. Свободными оставались только узкие проходы да немного места вокруг трех металлических печек, обложенных кирпичом. Возле печек было жарко до пота, по углам подмерзало, а во всем лазарете такой духан стоял, что ноздри разъедало. И гнили, и пердели, и под себя ссали… И сортир на шесть очков здесь же за брезентовой перегородкой был выкопан.
Всю левую сторону занимали прооперированные. Аппендициты, геморрои, выпадение и ущемление прямой кишки. От тяжелой работы с этим добром привозили каждый день. Здесь же лежали и просто с огнестрельными и ножевыми ранами. Через проход за перегородкой из простыней стонали заразные, рожистые больные. Стонали, и подвывали от изнуряющей, почти не прекращающейся боли, и матерились тихо на весь белый свет.
Зубы приходил лечить зубной техник из третьего лагпункта. Лечить он не умел и не считал нужным, а рвал с удовольствием и потом показывал кровавый зуб несчастному пациенту и, вложив в руку, велел унести с собой. Так он отбивал желание обращаться с зубами – на зоне было немало специалистов, которые обычными плоскогубцами рвали лучше.
Кроме начальника санчасти необразованного фельдшера Горчакова, в лазарете работали дневной и ночной санитары, малолетний дневальный Сашка и две вольные медсестры – высокая и спокойная Рита и молоденькая пугливая Маруся.
Белозерцев, домывая пол, увидел, что дальние деревянные бадьи для мочи стоят полные, крикнул зло и громко дневального:
– Сашка, суч-чий кот, Пушкин парашу выносить должен?!
Сашка не отозвался.
– Сашка, сучонок!
– На ларе с углем спит… – подсказал чей-то измученный болью голос.
Сашка был четырнадцатилетний худощавый мальчишка, получивший год лагеря за побег из ФЗУ[68]. Бежал в родную деревню, к мамке, которая отдала его в училище, потому что дома жрать было нечего. Мальчишка был ласковый, беззлобный и беззащитный. На Игарской пересылке им попользовались урки. В лазарет привезли с распухшей задницей и разрывами прямой кишки. Богданов сам делал операцию, Горчаков ассистировал, а потом оставил пацана помощником по бараку. Должности такой не было, но Сашку никто не трогал, и тот стоял на раздаче, топил печку и бегал с мелкими поручениями на вахту или в штабной барак. Работник он был плохой, не то чтобы ленивый, но мог заснуть где угодно, даже, как вот сейчас, в коридоре, на угольном ларе – за углем пошел и прилег, а там минус десять, не меньше. Как и все зэки, Сашка любил только две вещи – жратву и сон. Полы ему мыть Белозерцев не доверял – только грязь развозил. Шура сам их драил, удовольствия в этом не было никакого, ясное дело, но Шура любил, когда становилось почище, и видел, что Горчаков доволен. Да и больные посматривали на него вроде и с недоумением – чего мужик корячится, но и одобряли чистоту.
Белозерцев нащупал под бушлатом тощее, будто резиновое Сашкино ухо, потянул легонько и зашептал прямо в него:
– Еще раз, бля, увижу, на общие отправлю! Понял меня?!
Сашка соскочил с ларя, сунулся было к двери, но вспомнив, что пришел за углем, открыл крышку. Белозерцева он не боялся. Получал от него каждый день, но злобы в санитаре не было и даже наоборот – родной отец к Сашке так хорошо не относился.
Пришли медсестры, принесли запах воли. Дневальные притащили из столовой чай, нарезанные хлебные пайки на больших подносах и сахар. Сашка встал на раздачу, а Белозерцев, наказав ему выстирать бинты и следить за парашами, быстренько выпил чай, надел под бушлат чистый белый халат и пошел к земляку Женьке Малых.
Женька был не просто земляк, они жили в Куйбышеве на соседних улицах. Тогда, правда, они не знали друг друга. Женька, в отличие от Шуры, успел демобилизоваться и хорошо погулять, отходя от войны и душой, и телом. Шура за это время сменил два лагеря, один другого хуже, прошел три пересылки и четыре разные бригады.
Они познакомились на этапе, в трюме теплохода «Иосиф Сталин», и Шура всю дорогу до Ермаково расспрашивал, как там теперь на его улице и в их доме и не встречал ли он такой симпатичной рыжеватой женщины средних лет с двумя белобрысыми пацанами шести и восьми годков? Спрашивал про рынок: почем там жратва? Работают ли теперь, как раньше, пивные в парке над Волгой и все так ли хорош закат солнца на ту сторону реки, когда сидишь с друзьями в такой пивной? Там все было так же, Женька рассказывал с подробностями, привирал весело, особенно про свои похождения с девушками. В лагерь он загремел за драку с милиционерами, как раз в этом парке в центре города, но больше за пьяные высказывания в адрес родной власти во время этой драки. Он, с одной стороны, был сынком большого начальника и, скорее всего, поэтому получил всего семь лет, а с другой – ловок был пристраиваться. Только прибыли в Ермаково – это был его первый лагерь, – Женька устроился писарем, а вскоре стал личным секретарем начальника лагеря Воронова.
Белозерцеву Женька был должен – зачем-то срочно надо было лечь землячку в лазарет и Шура ему помог. Лагерный долг – дело святое, Шура теперь очень рассчитывал на разовый пропуск за зону – секретарю начальника это было раз плюнуть.
Было уже семь утра, у вахты ярко освещено прожекторами, а за ней снова черная, как деготь, ночь и плохо освещенный поселок. Хорошо, что темно, думал Шура, поглядывая за колючку, – с закрытыми глазами дорогу найду, по темноте и вернуться можно.
Барак земляка располагался в такой же палатке, что и лазарет, но обитали здесь не семьдесят, а дай бог человек двадцать. В одной половине была парикмахерская, где и жили стригали, в другой – высокие чином лагерные придурки. Стены хорошо утеплены, а все помещение разделено на комнатки по четыре человека. Вместо нар – кровати с матрасами и бельем. Работу они начинали часа на два позже. Шура сунулся в нужную комнату:
– Здорово, земеля! – шепнул вежливо.
Женька с товарищем пили крепкий чай в стаканах с подстаканниками. Уставился на Белозерцева, забыл, видно, что приглашал. Шура не смутился, присел по-свойски на койку, бросил рядом ушанку и достал папиросы. На стол не смотрел, чтобы не подумали, что ради харчей пришел. Закурил. Огляделся. Ему почему-то приятно было побыть с лагерной придурней – какое-никакое, а начальство. Покивал одобрительно головой – хорошо, мол, живете, имеете право.
– Вы пейте, пейте, я попил… – Шура расстегнул бушлат.
– Эй, дедко! – стукнул Женька в фанерную стену. – Притащи кипятку.
Он приоткрыл тумбочку, достал коляску «краковской» и сунул Шуре:
– Возьми с собой да чайку попей с булкой, масло вон мажь, – он кивнул на стол.
Булка была белая, как сметана, с румяной коркой, не из посылки, понятно, а свежая, из пекарни, пахла, как сатана, на всю комнатку, даже запах колбасы перебивала. Шура сглотнул слюну, впихнул колбасу во внутренний карман бушлата, проверил, не вывалится ли, и кивнул: можно, мол, и чайку. Не жадный земляк, будет возможность, тоже отблагодарю, подумал Шура и снял бушлат, оставшись в белом халате поверх телогрейки. Дедок-дневальный вошел с большим чайником. Женькин товарищ, тоже, видно, штабной писарек, допив чай, вышел молча.
– Как там дома? Новости есть?
– Да чего там, все куем, да пашем, да хренами машем! – Женька налил заварки, подвинул Шуре масло. – Мать пишет, троллейбус запустили электрический, через весь город можно проехать.
– О! – удивился Шура, громко отхлебывая горячий чай и обдумывая, как свернуть к делу.
Булка с маслом во рту таяла, колбаса из-за пазухи пахла зверски, с ней неплохо было бы к Полине заявиться, все не с пустыми руками. И хоть вчера полдня об этом думал и сейчас по дороге микитил, а не знал, что сказать. Прямо нельзя было, начнет расспрашивать, что да как…
– Я думал, спиртику притащишь… – Женька прихлебнул чай.
– Что ты, нас каждая собака обнюхивает… На учете все!
– Кто у вас теперь начальник?
– Кто и был. Горчаков. Старший фельдшер.
– Ну-ну, помню. И что же он, сам не пьет?
Женя сегодня многовато задавал вопросов. Белозерцев не понимал, чего это он. Дурака включил на всякий случай:
– Не пьет и других не пожалеет. Бесполезно, – приврал, строго нахмурив брови.
– Что за человек вообще?
– Тринадцать лет по зонам, серьезный мужчина! Без образования лепила, а весь лазарет на нем, и лечит, и операции, какие попроще, делает. Богданов, когда сложную операцию ведет, только Николаича в ассистенты требует, а иногда и спрашивает еще, как, мол, вот тут-то надо, что там в «Хирургии» Руфанова написано? Я тоже, бывает, помогаю маленько, иной раз целый таз нарежут!
Женя не очень его слушал, думал о чем-то.
– А чего ты про него? Может, бумага какая? Не переводят его? – Шуре ни с какой стороны не нравился Женькин интерес.
– Да нет, я так… – Женя опять посмотрел внимательно, потом согнулся по-свойски и зашептал одними губами: – Хотел с ним насчет марафета потолковать, поговори, чтоб нам встретиться, а я вам в штабе помогу, у меня там все прихвачено.
Шура, услышав про марафет – к Горчакову блатные постоянно с этим подъезжали, – напрягся. Пропуск касался лично его, Шурки Белозерцева, и Георгия Николаевича ему никак сюда не хотелось приплетать. Вспомнил, как Женька, когда «припухал» у них неделю, тоже много чем интересовался. На стукача он не похож был, но уж больно деловой, Шура таких не любил, деловые иногда хуже стукачей. Сделал вид, что не понял про марафет:
– Что в штабе говорят, скоро нас в деревянный барак переведут? Мы инфекционных должны отдельно держать. С лета обещают…
Он помолчал и, неожиданно осмелев, брякнул:
– Я к тебе за пропуском пришел – не сделаешь разовый часа на два-три? К обеду вернусь…
– Зачем тебе?
– Товарища проведать… санитаром у нас работал… – Шура сам слышал собственное вранье, отвернулся, опустил руку и почесал ватные штаны внутри валенка.
– Бабешку завел? Хорошо подмахивает? – ехидно оживился земляк. – В женской общаге живет… Люська или Оксана?
– Сделаешь пропуск? – перебил Шура, Полю называть не хотелось.
– А ты со своим фельдшером переговоришь?
Белозерцев сосредоточенно думал. Не было ничего особенного в просьбе земляка, с кем угодно другим он его свел бы за этот пропуск, но… Горчаков был в сознании Шуры человеком особым, Женьку к нему нельзя было допускать.
– Шприц-другой смогу увести, больше не выйдет…
– Это не интересно, вы же все время получаете.
– С Горчаковым не выйдет, он и большим ворам отказывает, не станет говорить… – Шура сказал это и по внимательным глазам Женьки понял, что воры его и подсылают к Горчакову.
– Святого из себя строит?!
– Да нечего ему и строить, вторую ночь возле Балакина сидит… Был бы гондон, не сидел бы!
– Что, он живой еще, капитан?
– Пока живой, глаз, видно, удалять будут. Сделаешь пропуск-то?
– Не знаю, – Женька посмотрел внимательно и неожиданно спросил: – Ты в самоохрану[69] не хочешь?
Шурка не сразу понял. Потом понял и глаза прищурил не очень вежливо, даже чай отставил подальше.
– Чего ты? Жить за зоной будешь, и баба твоя под рукой всегда… Вояк с небольшими сроками берут, сейчас согласишься – целых полгода скидки! На вышке стоять – не кайлом махать!
– На вышку, значит, меня определяешь, землячок? Как падлу последнюю? – у Шуры глаз задергался, он забыл, зачем пришел.
– Да брось ты! Все не в зоне пухнуть! С оружием, на вышке! Почти воля!
– И что же я, в таких же, как я, мужиков стрелять стану?
– Не хочешь – не стреляй!
– А если кто к бабе полезет под проволокой? На сладкое свидание?
– У каждого своя доля… Сейчас при лазарете кантуешься, а если на общие пошлют?
– Вот эт-то землячок у меня! – Шура поднялся и стал шарить по карманам бушлата, лицо перекосилось от негодования. – Мне и сказать-то нечего… Старшину разведки в вертухая обрядил! Да я об эту самоохрану даже ноги не вытру!
Он так волновался, что не сразу достал колбасу, дернул в сердцах, разломил пополам, один кусок упал на пол. Он подобрал и положил их на край тумбочки перед Женей.
– Тебе, друг, только колбасой за это платят или деньгами тоже?! – он хотел сказать что-то совсем обидное, но удержался и, нахлобучив шапку, быстро шагнул за дверь.
Выскочил в темень морозной улицы, заспешил, стал надевать варежки, руки тряслись от злости, от несделанного дела, одна варежка в снег упала. Он поднял. Остановился. Дохнул морозным паром, страшно злясь на самого себя – пошел за должком да за пропуском, возвращается, как кот помойный. Как Манька с мыльного завода! Записка Полины вспомнилась, аккуратная такая записочка…
Развернулся к земляку. Челюсти стиснуты, глаза зло прищурены. Женька спокойно одевался.
– Так, значит, должки возвращаешь? Дай пропуск!
– Ты, Шура, идиот, видно, на всю голову! Иди отсюда! – земеля стоял безбоязненно, спокойно застегивал блатной тулупчик.
– Ну-ну! – Белозерцев обескураженно поскрипел зубами, потискал кулаки в карманах и вышел.
По дороге успокоился. Сам себя кругом виноватым почувствовал – пошел по бабьему делу, Горчакова втянул, как последний мудак… С земляком поссорился – была рука в штабе, теперь нет. Потом вспомнил про самоохрану и крепко, в несколько этажей выматерился – хер с ним, с этим земляком! Не выгорало повидаться с Полей. Он ухмыльнулся кривовато и горестно, представляя ее милое улыбающееся лицо и разные округлости под белым халатом.
– Звала меня Поля, да я не на воле! Эх-эх! – врезал Шура себе по ляжкам и бегом припустился в санчасть.
Горчаков сидел с книгой и со скальпелем в руках. Рассматривал рисунок устройства глаза, прослеживая скальпелем какие-то сосуды. Поднял на Шуру сосредоточенный взгляд:
– Шура, собери все для перелома. С крыши кто-то упал. Вместе пойдем.
– Куда же, Георгий Николаич? – не верил своим ушам Шура.
– В поселке, у Дома культуры…
Уже через час Горчаков с Белозерцевым, миновав вахту, шагали по улице Ермаково. Остановились, пропуская припозднившуюся бригаду. В густых сумерках полярной ночи заиндевевшая от стужи, припорошенная снежком колонна, казалось, была составлена из призраков – серые ватные штаны и бушлаты, серые казенные маски от мороза на лицах. И валенки были серыми и громко скрипели окаменевшим от стужи стеклянным сумеречным снегом.
Шел уже десятый час, до первых признаков зари, рассеивающей ночной мрак, было еще часа полтора. Шура все не решался спросить, только хмурился и прятал лицо под маской. Лицо Георгия Николаевича тоже было скрыто, только брови и ресницы побелели от дыхания.
– Полина Строева у нас работала осенью, – освобождая рот от маски, заговорил, собрав все свое мужество, Белозерцев. Глаз у него трусливо и лихорадочно горел. – Помнит меня. Письмецо написала! – Он переложил чемоданчик с медикаментами в другую руку и похлопал себя по карману.
– Что? – скосил на него глаза Горчаков.
– Сбегать бы мне на часок, да как вот, думаю… Она пишет, мол, сохнет по мне, забыть не может… – Шура и сам начинал верить своим словам. – В двух шагах живет! – ткнул чемоданчиком в проулок.
Горчаков продолжал идти молча, только головой кивнул. И Шура вдруг, как-то разом успокоился. Кивок этот Горчаковский означал: не суетись, Шура, ради бабы не стоит, а будет возможность – сходишь! И Шуре надежно стало от этих правильных слов Николаича, будто отец родной приласкал и не осудил, а поддержал.
Водовоз, по-бабьи перевязанный толстым платком, даже глаз не было видно, шел им навстречу рядом с санями и подхлестывал бедную лошадь. Полозья на таком морозе не скользили, а скрипели-орали по снегу на всю ивановскую – проще было по песку волочь, прикинул Шура. Деревянная пятидесятиведерная бочка косила сани на один бок – льда на ней наросло больше, чем внутри было воды. И прорезь наверху бочки, и лошадь были прикрыты попонами. Морда же и мохнатый круп животного густо белели от куржака.
Подошли к объекту – длинному брусовому зданию, в котором ни печей еще не стояло, не прорезаны были двери и окна, а над половиной здания только начали крышу. С этих-то стропил и упал пожилой сухощавый работяга и умудрился сломать лучевые кости на обеих руках. Вся небольшая бригада по такому случаю собралась у раскаленной до алого сияния печки-бочки. Горчаков осторожно ощупал опухшие переломы и открыл чемоданчик – достал временные шины.
– Иди сходи, если недолго… – негромко сказал Шуре. – Если что, скажешь, я послал за обезболивающим.
Шура благодарно сверкнул глазами в темноте и направился к выходу, но вдруг вернулся:
– Вы тут без меня…
– Иди-иди, я небыстро… К часу надо в лазарете быть.
Внутри барака было глаз коли, слабый свет шел только из дальнего конца, над которым не было крыши. Холодно было, почти как на улице. Горчакова с упавшим устроили возле буржуйки. Посматривали на работу фельдшера, переговаривались. Кто-то жалел немолодого мужика, кто-то прикидывал, сколько тот будет на шконке припухать-отдыхать и не прицепится ли особист, не объявит ли саморубом[70]. Бригада вся была из бытовиков с одним охранником, который ходил с ними не первый уже раз и хорошо всех знал. В нарушение инструкции он сидел тут же, среди мужиков, на заботливо подставленном пеньке, в распахнутом тулупе и с автоматом на коленях – тоже грелся. И хотя кто-то из бригады в ласковый момент мог у него и махорочки стрельнуть, совсем рядом со стрелком никого не было. Не ближе двух-трех метров – привычка, которую заключенные навсегда усвоили в первые же дни неволи.
Двухсотлитровая буржуйка, жрущая по кубометру дров за смену, затихала, бока ее из алых потемнели до рубиновых, в помещение возвращался мороз.
– Подбрось, кто там? – стрелок внимательно глядел, как Горчаков бинтует руку.
Бригадники негромко заспорили меж собой, стрелок поднял на них голову. Дрова – обрезки строительных досок и бруса, собранные с утра по объекту, кончились, бригадники косились на штабель новенького бруса. Стрелок понял их, усмехнулся и, расстегиваясь на ходу, пошел по малой нужде в дальний конец барака. Один брус в три ножовки тут же распилили на чурбаки и, наколов, запихали в печку.
Горчаков не торопился, опытной рукой щупал сломанные кости, наматывал расползающийся стиранный бинт. Тоже закуривал, поглядывая на огонь, гудящий в печке. Он наблюдал отношения работяг и охранника и шкурой старого лагерника ощущал, что жизнь на строительстве наладилась. Как будто все: и работяги, и охранники – договорились меж собой против малоумной государственной машины. Неразбериха и нервы первых месяцев улеглись, и наступили странные, но всем понятные и почти справедливые отношения несвободных людей. Всем было одинаково плохо. Горчаков рассматривал бригадников и вернувшегося к печке охранника – одни лица, одни и те же крепкие рабочие плечи и руки. Только и разницы, что один в тулупе, а другие в бушлатах. Любой из них мог влезть в этот тулуп и повесить на плечо автомат. А стрелка легко могли нарядить в серые ватные одежды.
Шура мелкой нервной перебежкой летел к зазнобе, и побежал бы, да не хотел привлекать к себе внимания. В голове мешалось все подряд – что будет говорить, если нарвется на патруль, что скажет Поле. Хотелось что-нибудь повеселей: здравствуй, Поля, вот и я! Позвала, и я явился! Как жила ты без меня? Прямо Пушкин… Поля ты моя, Полюшка, вольная ты моя волюшка! Он вспоминал, как подбивал к ней клинья, как шуточки шутил, а у самого все кишки выворачивало от сладкого преступного желания. И все сомневался – она была молоденькая, симпатичная медсестра, окончившая училище, а он вояка, грязный санитар подай-принеси… Вчера вечером он тщательно выстирал трусы и майку и разрезал новые портянки, которые до этого на ноги не наматывал, а использовал как шарф.
Полины не было дома!
Она была на работе в больнице для вольных! Шура не поверил, открыл дверь к соседям, он пытался быть вежливым и улыбался, но глаз у него, видно, нехорошо блестел, да и смотрели на зэка в белом халате с недоверием, так, что он даже достал и показал пропуск. Полина соседка выглянула из их комнаты и тоже строго за ним наблюдала. Шура помялся, проглотил матюшки, скопившиеся на языке, и поплелся на улицу. До больницы, где сейчас была Поля, уже не успеть было.
Он и хотел идти быстро, понимая, что Горчаков ждет, да ноги не шли, убитые горем. Так повезло, так размечтался-разохотился, что и предположить не мог, что она не сидит и не ждет его. Эт-то какой же мудила! Три дня суетился, и на тебе! Черная тоска текла по душе!
Ни одного патруля не встретилось. Горчаков ничего не спросил. И так все было понятно. Когда подводили переломанного к вахте, из-за поселка краем неба вставала морозная, желтоватая заря. Другой раз Шура и порадовался бы ей, а еще тому, что побывал за колючкой, но теперь только вздохнул тяжко, устраивая мужика на нары. Лицо Шуры было серым и думы такими же…
Был бы свободный, полетел бы к тебе на крылушках, дорогая моя Полюшка. Все бы бросил и полетел. Прижал бы тебя к груди своей так, чтобы все кишочки в тебе затрепетали, и заглянул бы в глаза твои – такое-всякое вертелось в голове, но тут же и ребятишки, и незабвенная жена Вера Григорьевна приходили на ум. Как-то ей теперь там, тоже небось несладко… так же, может, мужичка себе манит! Горькие мысли скребли Шурину душу когтями тоски. Полюшка да Верушка, кто нас развел, разделил, кому, какому зверю поганому в ножки за это кланяться?!
В два часа из ермаковской больницы пришел санитар, сказал, что хирург Богданов в Игарке и ни сегодня, ни завтра его не ждать. Горчаков стал совещаться со старшей медсестрой. Глаз надо было удалять, капитан кончался. Белозерцев заглянул к нему, он лежал и не стонал, не бредил уже, а только открывал и закрывал оскаленный и перекошенный рот. Может, и под морфием был. За стеной Горчаков вполголоса объяснял Рите, как устроен глаз и как, предположительно, надо ему будет идти скальпелем, который совсем для этого не подходил.
– А вы уже удаляли, Георгий Николаич? – слышался недоверчивый голос Риты.
– Никогда и не видел вынутого глаза. Даже коровьего.
Через двадцать минут Шура внес в комнатку Горчакова баранью голову с двумя глазами. Коровьей не было. Через знакомого хлебореза вышел на повара, все рассказал, как есть, и еще добавил хороший пакетик заныканного веронала. И вот принес. Горчаков нахмурился, когда Шура размотал грязную простынь, но вскоре они с Ритой уже ковырялись с пучеглазыми бараньими зенками. Шура, представлял, что они то же самое будут сейчас делать с капитаном, и не мог смотреть. Проверил кипяток, параши и печки. Заставил Сашку отпарить и отдолбить загаженные за день толчки, керосину долил в движок, дающий свет.
Пока работал, думал про неслучившуюся свою любовь, про землячка расторопного, про годики свои поганые, еще четыре их, развеселых, маячило впереди. До неведомого какого-то пятьдесят третьего определено было старшине Белозерцеву куковать в этих краях.
Было уже полпятого, на улице серые дневные сумерки снова сменились мглистой, беззвездной заполярной ночью. Он вспомнил про капитана, сунулся к Горчакову. Тот, не включая света, лежал на узких нарах в своей комнатушке, даже головы не повернул. Шура притворил фанерную дверь. Ритка шла по коридорчику, что-то марлей прикрыла на подносе. Спирт развела, понял Шура.
– Ну что? – спросил скорее взглядом, чем голосом.
– Ужас, Шура, Георгий Николаич сам изрезался, пока вынимал да чистил. Я еле стояла… – Она не договорила, толкнула плечом дверь в темную комнатку Горчакова.
Шура понимающе поскреб подбородок, зашел в операционную к капитану. Тот спал на койке, голова перевязана. На столе и возле куски окровавленной ваты валялись, грязные бинты. Шура удивился, что всегда аккуратный Горчаков не распорядился, чтоб убрали. Он налил кипятка из бойлера, разбавил холодной и, стараясь не шуметь, стал прибираться. За перегородкой в комнатке Горчакова сначала было тихо, потом послышались очень понятные Шуре шорохи. В висках застучало, он быстро дособирал бинты и вату и вышел в коридорчик. Тут было не так слышно. Белозерцев встал, охраняя комнату Горчакова, хмурясь и успокаивая себя, но сам все прислушивался невольно и нервно. То же и у него могло бы случиться сегодня.
По проходу, широко расставляя ноги (пораженная рожей мошонка висела почти до колен), шел к Шуре больной «западэнец» Мыкола Ковтун. Хмурый, с давно небритой измученной болью мордой, молча глянул на полку с пол-литровыми банками сульфидиновой эмульсии.
– Бери, – кивнул ему Шура.
Рожистых больных ничем не лечили, как-то оно само проходило, мазали только воспаленные места этой мазью, сильно вонявшей рыбьим жиром. И ожоги, и раны ей же мазали. Мыкола выбрал самую полную банку и, все так же раскорячившись, поплелся обратно в полумрак храпящего, кашляющего, стонущего и матерящегося лазарета.
Они курили у входа с Ритой. Медсестра была одного роста с Шурой, с большой грудью и приятной задницей, и еще Белозерцеву всегда нравилось ее лицо. Не так, как нравятся красивые лица женщин, а как-то по-другому, уважительно нравилось. Он затягивался и думал, как бы ловчее порасспросить Риту про Полину, но та рассказывала что-то о своей пятилетней дочке, потом заговорила о Горчакове:
– Нельзя Георгию Николаевичу оперировать, он и спокойный вроде, а видно, что все через себя пропускает. Богданов – тот как камень всегда… – она поежилась от холода, посмотрела на Шуру темными и честными глазами.
Шура постоял еще некоторое время, раздумывая, он, из-за утренней своей неудачи, хотел подкатиться к Ритке, она бы, наверное, не отказала – да чувствовал неловкость. «Николаич большое дело сделал, его было за что пожалеть, а меня-то за что?» Шура невольно гладил глазами пухлые Риткины прелести. И думал, что хорошая она баба, всех жалеет, иной раз и несчастному больному какому даст, а блядью язык не повернется назвать. И Георгий Николаич ее уважает, уверенно заключил Белозерцев.
– Мы с начальником стройки, с Барановым – однодырники! – с глупым отчаяньем похвастался вдруг Шура.
Рита слушала молча, докуривала папиросу.
– Помнишь, у нас летом Жанна лежала, актриса расконвоированная из театра?
Рита кивнула спокойно.
– У нас с ней любовь была, она мне потом записки передавала… – соврал Шура про записки, записка была одна. – А у нее как раз был роман с самим Барановым. Нежная была женщина, с обхожденьями любила. Так что… однодырники, выходит.
Неожиданно из-за угла вывернулась тень ночного санитара Васьки Трошкина. Оба вздрогнули, Шура не сразу его и узнал – из носа и со лба сочилась кровь, а губы были разбиты в хлам и раздулись, как у коровы, – под тусклой лампочкой, освещающей вход, Васька выглядел негром с картинки.
– Ты чего это? – удивился Белозерцев.
Васька стоял словно пьяный, смотрел то на Шурку, то вбок, потом разлепил кровавый рот:
– Ох, меня сейчас и отпиздили, Шура…
И замолчал. Шура тоже молчал. Думал, что лучше бы его так… чем эта злая история с Полей. Морда заживет, душа нет.
21
Ася с Колей шли пешком из Большого театра. Было морозно, Москва начала наряжаться к Новому 1950 году. Но прежде, 21 декабря, ей предстояло встретить семидесятилетие Иосифа Сталина. Огромные портреты вождя уже висели на фасадах домов. На Манежной мужики в валенках и телогрейках монтировали конструкцию с солнечным живописным полотном высотой с пятиэтажный дом. На нем самые счастливые в мире люди шли на демонстрацию и несли большой портрет Иосифа Виссарионыча. Все улыбались – сильные и смелые мужчины, красивые женщины и радостные дети. Автомобильные краны держали опасно гнущуюся конструкцию.
Коля по дороге насчитал четыре елки, самая большая уже переливалась гирляндами цветных лампочек напротив Большого театра. Вокруг нее специально поставленные ларьки собирались торговать сладостями и книгами. В скверике у метро «Арбатская» елку только привезли и поднимали из кузова. Как будто все те же мужики в телогрейках тянули дерево подъемным краном, расправляли мохнатые ветви, подпиливали что-то. Милиционеры оцепили сквер. Командовал работами высокий человек в белых бурках, хорошем пальто с серым каракулевым воротником и каракулевом же пирожке. Все его слушались. Время от времени человек снимал перчатку и отогревал уши и нос. Ася тоже грела нос и смотрела на елку, но думала о своем.
Сегодня утром после урока генерал протянул ей конверт с деньгами и посмотрел как-то особо пристально. И даже предложил подвезти до дома. Ася отказалась, растерянно улыбаясь. В конверте вместе с деньгами оказалась записка – генерал уверенным почерком признавался, что она ему нравится, и прямо назначал свидание. Обещал помощь, «финансовую и любую другую». Ася целый день помнила о записке, это было не первое такое предложение. Мужчины на фронте стали решительны в этом вопросе, многие вели себя очень откровенно.
И Ася, изводя себя, представляла, что у ее детей появляется крепкая одежда и обувь, а у нее работа… и всегда будут керосин в керогаз и продукты, кроме картошки и хлеба… Генерал мог бы переселить их в отдельную квартиру, где у Натальи Алексеевны была бы своя комната. Ася словно смотрела интересное и очень глупое кино, которое не надо, но очень хочется посмотреть еще чуть-чуть. Хотя бы в фантазиях увидеть свое семейство сытым и обутым. «За это я должна быть его любовницей, приходить к нему куда-то», – она была уверена, что у больших военных обязательно есть для этого специальные квартиры. Генерал выглядел мужественно и даже чем-то нравился Асе. Временами ей тяжело бывало, ее собственное живое и здоровое тело ныло и изводило помимо ее воли. Грубоватая беременная жена генерала пришла в голову. Она за что-то не любила рояль, двигала из угла в угол, расставляла на нем фарфоровых пастушков… может, и ревновала к Асе. Ася через силу улыбнулась собственным фантазиям. Это были не мысли, это было просто так, нервное. Очень-очень нервное.
Сегодня в театре во время спектакля она думала про «любую другую помощь». Генерал мог иметь в виду Геру. То есть Горчакову можно было облегчить жизнь или даже вытащить из лагеря…
– Мам! – звал Коля.
Ася вздрогнула всем телом, будто ее застали за чем-то крайне неприличным. Елка уже стояла вертикально, мужики курили, задрав головы. Она крепко взяла сына за руку и потянула к арбатским переулкам. В голове все стоял щедрый молодой генерал, он наверняка навел о ней справки и знал про сидящего мужа.
– На чем мы остановились? – Ася забыла, о чем они говорили по дороге.
Коля шел, задумчиво пиная снег и льдинки:
– Мы говорили про Бориса Годунова и царевича Дмитрия.
– Ну да, – ответила Ася машинально. – Я рада, что тебе понравилась опера.
– А когда он погиб, он был такой, как я?
– Нет, ему было всего девять лет.
– А где был его отец? – Коля остановился и поднял голову на Асю.
– Его отцом был Иван Грозный, он умер к тому времени. Ты почему спрашиваешь, ты же все это знаешь?
– А мой отец… – Коля не смотрел на мать.
– Что твой отец? – Ася испуганно инстинктивно глянула по пустынному Сивцеву Вражку. Они как раз сворачивали в темную арку, ведущую во двор.
– Он – враг народа? – голос Коли гулко прозвучал под аркой.
– Тише! – Ася остановилась, притягивая его к себе. Коля виновато, но и упрямо глядел.
– Ты нас обманывала, потому что не хотела говорить этого? Он правда геолог?
Ася молчала, ошарашенная вопросом. Момент, которого она избегала, но со страхом ждала, настал так неожиданно. Ее нагромождения правды и полуправды о Гере давно уже начали разваливаться. Она стояла в замешательстве: Коля, с его наивным стремлением к справедливости, мог проговориться в школе.
Она потянула сына из громкой арки во двор. Тут тоже было темно, только у подъезда горела тусклая лампочка. От растерянности сели на лавку. Коля заговорил сам:
– Сначала я ждал, что он вернется из экспедиции… потом, после войны ты сказала, что он на ответственном задании, и об этом ни с кем нельзя говорить… Я тебе верил и привык жить без него, – Ася сидела в страшном напряжении, в тысячный раз проживая собственное вранье, не глядела на сына. – Я ни с кем не говорил о нем. Меня спрашивали, я молчал, иногда говорили, что у меня нет никакого отца… – Коля сидел ссутулившись, как старик, челка выбилась из-под шапки. – Баба другое говорила о нем… и ты сама… Недавно ты сказала Лизе Воронцовой, что он не пишет.
Коля смотрел спокойно, без вины, что подслушал, но и ее не винил, что обманывала и скрывала. В его тревожном ребячьем взгляде читалась сейчас вся та бесчеловечная сложность их изуродованной жизни, в которой ложь была обязательна. Он прижался к матери, обнял, гладил ее руку в латаной-перелатанной и все равно дырявой варежке.
– Я никому не скажу. Кто мой отец? Он в тюрьме?
По Асиным щекам покатились слезы. Она сидела не шевелясь. Потом решительно достала платок, вытерлась.
– Твой отец – Георгий Николаевич Горчаков. Знаменитый геолог. Он красивый и светлый человек. Все, что я о нем рассказывала, все правда. Его арестовали тринадцать лет назад… – она замолчала. – Он ни в чем не был виноват.
Коля смотрел застыв, не отрываясь. Откуда-то взявшиеся черные птицы зашевелились вдруг, загалдели в темноте на деревьях, Ася испуганно подняла голову, опять обернулась, вглядываясь в темноту двора.
– А ему еще много там быть?
Ася молчала, в воздухе возникло тяжелое напряжение. Она сжала его руку:
– Двадцать три с половиной года.
– Так долго?! – вырвалось у Коли.
– Я тебя очень прошу, не говори ни с кем о нем. Скажи, что он нас бросил… – она заглядывала ему в глаза. – Тебе хочется, чтобы у тебя был отец… мне тоже хочется. И он у тебя есть! Я рада, что ты спросил, теперь мы сможем говорить о нем.
– Правда?
– Ты мне не веришь? Честное слово, я давно этого хотела. Только не при Севе и не при бабушке, пожалуйста.
– Почему?
– Сева еще мал, как ему объяснить, что об этом нельзя говорить?
– Он все понимает… Ты же говоришь, что отец не виноват?
– Ты мне не веришь?
– Но почему тогда нельзя?
– Коля, – зашептала Ася с испугом, – у нас, если человека осудили, значит, он виноват!
– Если ты знаешь, что отец невиновен, мы можем написать письмо Сталину. Я думал об этом. Люди пишут, можно обратиться через газету.
– Это не поможет. Когда ты думал об этом?