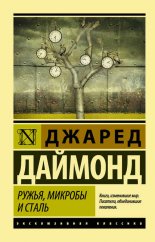На службе зла Гэлбрейт Роберт

First published in Great Britain in 2015 by Sphere
CAREER OF EVIL
Copyright © 2015 J. K. Rowling
© Е. Петрова, перевод, 2016
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2016
Издательство ИНОСТРАНКА®
* * *
Гэлбрейт пишет с необычными для детективного жанра юмором и теплотой; он столь умело проводит нас через все хитросплетения сюжета, что мы теряем счет времени.
The Seattle Times
Корморан Страйк одним своим появлением полностью захватывает воображение читателей… Талант Гэлбрейта проявляется в том, как он описывает жизнь Лондона и как создает нового героя.
Daily Mail
За спиной у Страйка – героическое прошлое. Он и сейчас то и дело проявляет героизм, хотя совершенно к этому не стремится. Внебрачный сын стареющего рок-идола, он никогда не пользовался теми благами, какие достаются его сводным братьям и сестрам… Он много размышляет, но это получается у него совершенно органично. У Страйка огромный потенциал. Было бы преступлением не обратить на него внимания.
Daily News
Страйк и его ассистентка Робин (играющая ту же роль, которую Саландер играла для Блумквиста в книгах Стига Ларссона) становятся настоящей командой, чьих дальнейших приключений читатель будет каждый раз ждать с нетерпением.
New York Times
Невероятно увлекательный сюжет, основанный на трогательных взаимоотношениях. Книга проглатывается залпом.
The Telegraph
Чрезвычайно сильная история… «Зов Кукушки» оказался визитной карточкой для целой серии романов и напомнил мне, почему я в свое время без памяти влюбилась в детективный жанр.
Вэл Макдермид(Guardian)
Откладывать эту книгу было сущей мукой – так мне хотелось знать, что будет дальше. Гэлбрейт – мастер психологического портрета, герои романа вставали передо мной как живые. «Зов Кукушки» – моя новая любовь, а Гэлбрейт – выдающийся новый талант.
Питер Джеймс(Sunday Express)
Детектив, от которого невозможно оторваться.
Financial Times
А вот и лучший переводной детектив сезона, и не только из-за сногсшибательной интриги – уровень рассказчицкой культуры очень высок: трехмерные, врезающиеся в память персонажи, отличные диалоги, остроумные авторские комментарии.
Афиша Daily
Посвящается Шону и Мэтью Харрисам: это посвящение можете использовать по своему усмотрению, но только –только – не для окраски бровей
Blue yster Cult. «Career of Evil»Lyrics by Patti Smith[1]
- I choose to steal what you choose to show
- And you know I will not apologize –
- You’re mine for the taking.
- I’m making a career of evil…
1
2011
This Ain’t the Summer of Love[2]
Полностью отмыться от крови так и не удалось. Под ногтем среднего пальца левой руки круглой скобкой темнела тонкая линия. Он принялся ее вычищать, хотя одним своим видом она напоминала про вчерашний кайф. С минуту он безуспешно пытался ее отскрести, а потом, сунув палец в рот, попробовал высосать. Твердый как железо коготь еще отдавал запахом струи, которая неудержимо хлынула на кафельный пол, обрызгала стены, пропитала его джинсы и превратила персикового цвета махровые полотенца – пушистые, сухие, аккуратно сложенные – в кипу окровавленной ветоши.
Сегодня утром все цвета сделались как-то ярче, мир стал прекраснее. Пришло спокойствие, настроение поднялось, как будто он вобрал ее в себя целиком, как будто перелил в себя ее жизнь. Когда убиваешь, все они переходят в твою собственность: даже секс не приносит такой полноты обладания. Чего стоит один их вид в момент смерти – получаешь такие ощущения, каких не способна дать близость двух живых тел.
С приятным волнением он размышлял, что ни единой душе не известно о его делах и планах. В покое и довольстве, посасывая средний палец, он прислонился спиной к стене, нагретой неярким апрельским солнцем, и не сводил глаз с дома напротив.
Дом отнюдь не шикарный. Обыкновенный. Спору нет, он комфортней, чем та конура, где засыхало в черных мешках для мусора вчерашнее окровавленное тряпье, ожидавшее сожжения, а за трубой под кухонной раковиной поблескивали принесенные им ножи, отдраенные с отбеливателем.
У дома напротив был обнесенный черной оградой садик с довольно запущенной лужайкой. Две белые входные двери, едва ли не вплотную одна к другой, указывали на то, что в этой трехэтажной постройке после ремонта разместились нижняя и верхняя квартиры. На первом этаже обитала некая Робин Эллакотт. Приложив определенные усилия к тому, чтобы разузнать имя этой девушки, про себя он звал ее не иначе как Секретутка. А вот и она: мелькнула в окне эркера, легко узнаваемая благодаря необычному цвету волос.
Слежка за Секретуткой была приятным бонусом, этаким бесплатным приложением. У него образовалась пара часов свободного времени, и он приехал на нее поглазеть. Сегодня – день отдыха между вчерашними победами и завтрашним днем, между удовлетворением от содеянного и предвкушением дальнейшего.
Дверь справа неожиданно распахнулась; из дома вышла Секретутка, да не одна.
Не отрываясь от теплой стены, он повернулся в профиль к этой парочке и стал смотреть в дальний конец улицы, словно кого-то ждал. На него не обратили ни малейшего внимания. Эти двое бок о бок шли своей дорогой. Дав им фору, через минуту он решил двинуться следом.
Она была в джинсах, светлой куртке и сапожках на низком каблуке. Под лучами солнца ее длинные вьющиеся волосы приобрели слегка имбирный оттенок. В отношениях этой молча шагавшей пары ему виделась некоторая натянутость.
Людей он читал как открытую книгу. Вот и вчерашнюю девицу, которая испустила дух среди кипы окровавленных полотенец, он сперва прочел и очаровал.
Засунув руки в карманы, он лениво брел по следу этих двоих – будто бы в направлении магазинов; прекрасным солнечным утром его темные очки смотрелись совершенно естественно. Легкий апрельский ветерок перебирал ветви деревьев. В конце улицы парочка свернула влево, на широкий, оживленный проспект, застроенный офисными комплексами. В солнечном свете здание районной администрации Илинга сверкало листовым стеклом.
Теперь Секретуткин сосед, а может, сожитель или кто еще, чисто выбритый, с квадратным подбородком, обратился к ней с разговором. Отвечала она коротко, без улыбки.
До чего же мелочные, низкие, грязные твари – женщины. С жиру бесятся – хотят, чтобы их ублажали. Такая очистится лишь тогда, когда раскинется перед тобой, мертвая и пустая; лишь тогда она станет таинственной, незапятнанной, даже прекрасной. Будет принадлежать одному тебе, не сможет ни заспорить, ни вырваться, ни убежать – делай с ней что хочешь. Вчерашний обескровленный труп оказался тяжелым и податливым: его игрушка, его кукла в человеческий рост.
Теперь он двигался за Секретуткой и ее дружком через торговый центр «Аркадия», маяча сзади, как привидение или божество. Могла ли видеть его субботняя толпа, или же он чудом преобразился, обрел двойную жизнь, получил дар скрываться от посторонних глаз?
У автобусной остановки они встали в очередь, а он топтался поблизости, будто разглядывая индийский ресторан, горку фруктов в продуктовом магазине, картонные маски принца Уильяма и Кейт Миддлтон в витрине газетного киоска, а сам следил з отражением в стекле.
Они приготовились уехать на восемьдесят третьем. Денег у него на кармане было в обрез, но хотелось еще за ней понаблюдать – не лишать же себя удовольствия. Поднимаясь по ступенькам, он услышал, как ее дружок назвал водителю «Уэмбли-Сентрал». Теперь оставалось только купить билет и последовать за ними наверх.
В передней части салона парочка нашла два места рядом. Он устроился поблизости, возле угрюмой тетки, которой пришлось убрать с сиденья магазинные пакеты. Сквозь гул пассажирских голосов до него изредка долетали обрывки разговора. Если Секретутка молчала, то безрадостно смотрела в окно. Когда она поправляла волосы, он заметил у нее на пальце колечко невесты. Стало быть, замуж собралась… ну-ну. Он спрятал в поднятом воротнике подобие улыбки.
Сквозь штрихи оконной грязи в автобус приникало теплое послеполуденное солнце. Все свободные места заняли ввалившиеся гурьбой парни, некоторые – в красно-черной форме регбистов.
Ему вдруг показалось, будто сияние дня померкло. Эти куртки с изображением полумесяца и звезды наводили на неприятные мысли. Возвращали его к тем временам, когда он отнюдь не ощущал себя богом. У него не было ни малейшего намерения пятнать и марать этот счастливый день воспоминаниями, причем гнусными, но приподнятость вмиг начала улетучиваться. Он разозлился (тем более что его вниманием завладел мальчишка-подросток из той же компании), но успел отвести взгляд, поднялся с места и в тревоге стал продвигаться назад, к лестнице. У дверей автобуса крепко держались за стойку отец с маленьким сынишкой. В груди взрывом полыхнул гнев: почему же у него самого нет сына? Точнее, почему теперь у него нет сына? Он представил себе, как мальчонка стоит рядом и, запрокинув голову, с обожанием смотрит на него; но сына у него давно не было, и все из-за негодяя по имени Корморан Страйк.
Корморана Страйка требовалось наказать. Ударить в самое больное место.
На тротуаре он поднял взгляд и напоследок успел заметить в переднем окне автобуса золотистую голову. Не пройдет и суток, как он увидит ее снова. Эта картинка помогла усмирить внезапное бешенство, вызванное зрелищем тех «сарацинских» курток. Автобус покатил дальше, а он побрел в обратном направлении, успокаиваясь с каждым шагом.
План у него созрел – что надо. Все шито-крыто. Комар носу не подточит. А дома, в холодильнике, ждал своего часа заветный сверток.
2
A rock through a window never comes with a kiss.
Blue yster Cult. «Madness to the Method»[3]
Робин Эллакотт, двадцати шести лет, ходила в невестах уже более года. Свадьба должна была состояться три месяца назад, но сорвалась из-за внезапной кончины будущей свекрови. С тех пор много чего произошло. Не факт, что они с Мэтью стали бы ближе друг другу, будь у них свидетельство о браке. Неужели они бы меньше ссорились, если бы под сапфировым перстеньком, который стал ей чуть свободен, заблестело обручальное кольцо?
В понедельник утром, лавируя между кучами строительного мусора на углу Тотнэм-Корт-роуд, она прокручивала в голове вчерашний конфликт. Первые его ростки пробились еще до похода на матч по регби. Конфликты возникали у них, считай, после каждой встречи с Сарой Шедлок и ее дружком Томом: на это и указала Робин после матча; склока не утихала за полночь. «Сара просто гов… говорила гадости… неужели до тебя не доходит? Она постоянно наводила разговор на него, не умолкала ни на минуту, но я-то тут при чем?..»
С того самого дня, когда Робин устроилась на работу в частное детективное агентство на Денмарк-стрит, путь ей преграждали эти завалы. Настроение вконец испортилось, когда она споткнулась о какой-то обломок и едва удержалась на ногах. Из глубокой канавы раздался свист и похотливый гогот работяг в касках и неоновых жилетах. Покраснев, Робин отвернулась и убрала назад облепившие лицо длинные золотисто-земляничные пряди, а потом невольно возвратилась мыслями к Саре Шедлок и ее коварным, назойливым расспросам про владельца агентства.
– Есть в нем какая-то необъяснимая притягательность, правильно я понимаю? Битый жизнью, но меня лично это никогда не останавливало. А какой он из себя, эротичный? И такой большой, да?
Робин видела, как Мэтью стиснул зубы, выслушивая ее холодные, равнодушные ответы.
– И, кроме вас двоих, в конторе никого нет? Неужели? Совсем никого?
Вот стерва, думала Робин, чья неизменная доброжелательность никогда не распространялась на Сару Шедлок. И ведь прекрасно знает, что делает.
– А правда, что он награжден медалью за Афганистан? В самом деле? Надо же, значит, он ко всему еще и герой войны?
Робин изо всех сил старалась заткнуть этот фонтан восхвалений, но все напрасно: Мэтью оставался холоден со своей невестой до конца матча. Однако на обратном пути с Викаридж-роуд его раздражение ничуть не мешало ему болтать и смеяться с Сарой, а Том, которого Робин считала тупым занудой, только подхихикивал, не видя ничего дальше своего носа.
Ее толкали прохожие, точно так же огибавшие дорожные раскопы, но потом ей все-таки удалось перейти на другую сторону, в тень громады бетонного, будто решетчатого, Сентр-Пойнта. Здесь на Робин опять нахлынула злость: ей вспомнилось, что сказал в полночь Мэтью, когда скандал разгорелся с новой силой.
– Черт побери, да он у тебя с языка не сходит! Я же слышал, как ты говорила Саре…
– Не я раз за разом поднимала эту тему, а она, ты просто не слушал…
Но Мэтью уже стал ерничать, заговорив писклявым, дурашливым голосом, каким передразнивал всех представительниц другого пола:
– «Ах, какая у него шевелюра, прелесть…»
– Уймись, это уже паранойя! – вскричала Робин. – Сара нахваливала шевелюру Жака Бургера[4], а не Корморана. Я только сказала…
– «А не Корморана», – как дебил, пропищал Мэтью.
При повороте на Денмарк-стрит Робин кипела той же злостью, что и восемь часов назад, когда пулей вылетела из спальни, чтобы улечься спать на софе.
Сара Шедлок, эта гадина Сара Шедлок, знавшая Мэтью с университетской скамьи, из кожи вон лезла, чтобы отбить его у Робин, оставшейся тогда в Йоркшире… Ладно бы Робин не ждала новых встреч с Сарой, так ведь нет: Сара получила приглашение к ним на свадьбу, перенесенную на июль, и, судя по всему, будет вечно соваться в их жизнь, а в один прекрасный день – с нее станется – проникнет и в агентство, чтобы познакомиться со Страйком, если, конечно, любопытствовала она искренне, а не из желания вбить клин между Робин и Мэтью.
Ни за что не буду знакомить ее с Кормораном, мстительно думала Робин, подходя к почтовому курьеру, топтавшемуся у входной двери. Одной рукой в перчатке он сжимал канцелярскую доску, а в другой держал прямоугольный пакет.
– На имя Эллакотт? – уточнила Робин.
У нее были заказаны одноразовые фотоаппараты в картонном корпусе под слоновую кость – сувениры для приглашенных на свадьбу. В последнее время ей все чаще приходилось задерживаться на работе, а потому оформлять заказы проще было на адрес агентства.
Курьер кивнул и, не снимая мотоциклетного шлема, протянул ей доску. Робин поставила свою подпись и взяла продолговатый пакет; он оказался тяжелее, чем она предполагала, а внутри вроде как перекатывался один объемный предмет.
– Спасибо, – сказала она, сжимая пакет под мышкой, но курьер уже заносил ногу над мотоциклом.
Под рев двигателя Робин отперла подъезд.
Стуча каблуками, она поднялась по гулкой железной лестнице, обвивавшей клеть неисправного лифта. По стеклянной двери с гравировкой «К. Б. Страйк, частный детектив» пробежал блик света, отчего надпись сделалась еще темнее.
Робин специально пришла в контору пораньше. У них сейчас была прорва заказов, и прежде чем отправляться на слежку за молоденькой русской стриптизершей, требовалось завершить необходимые отчеты.
По звуку тяжелых шагов над головой она поняла, что Страйк все еще находится у себя в квартир.
Опустив удлиненный сверток на стол, Робин сняла пальто и повесила его вместе с сумкой на крючок за дверью, зажгла свет, наполнила и включила чайник и только после этого взялась за острый нож для бумаг. Вспоминая, как Мэтью отказывался верить, что она хвалила шевелюру фланкера Жака Бургера, а не курчавые и короткие, совсем как на лобке, волосы Страйка, Робин одним движением вспорола пакет.
В коробку была втиснута отсеченная женская нога с загнутыми кверху – для компактности – пальцами.
3
Half-a-hero in a hard-hearted game.
Blue yster Cult. «The Marshall Plan»[5]
Оконные стекла задрожали от крика Робин. Она шарахнулась, не отрывая взгляда от этого чудовищного зрелища. Нога была стройная, бледная, гладкая. Взрезая картон, Робин скользнула по ней пальцем и теперь не могла избавиться от ощущения холодной, будто резиновой, кожи. Чтобы заглушить собственный крик, девушка зажала рот ладонями; сбоку тотчас же распахнулась стеклянная дверь. Ростом под два метра, Страйк ворвался в приемную с перекошенным лицом, даже не успев застегнуть рубашку, под которой виднелась по-обезьяньи волосатая грудь.
– Какого хе…
Он проследил за полным ужаса взглядом своей помощницы – и увидел ногу. Робин почувствовала на локте его железную хватку и без сопротивления позволила вывести себя на лестницу.
– Как это сюда попало?
– С курьером, – выдавила она, пока Страйк подталкивал ее вверх по ступеням. – На мотоцикле.
– Жди здесь. Я вызову полицию.
Он захлопнул дверь своей мансарды; Робин, с бешено колотящимся сердцем, приросла к полу и слушала, как Страйк спускается обратно в офис. К горлу подступила кислятина. Нога. Только что она, Робин Эллакотт, получила по почте ногу. И преспокойно занесла коробку с женской ногой в приемную агентства. Чья это нога? Где остальные части тела?
Робин отошла от двери, доплелась до ближайшего стула, дешевого, пластмассового, на металлических ножках, и опустилась на его мягкое сиденье, по-прежнему зажимая ладонями онемевшие губы. Посылка, припомнила она, была адресована ей лично.
В это время Страйк стоял у окна своего кабинета, выходящего на Денмарк-стрит, и, прижимая к уху мобильник, высматривал на улице хоть какие-нибудь следы курьера. В ожидании ответа блюстителей закона он перешел в приемную, чтобы изучить раскрытую коробку.
– Нога? – переспросил инспектор уголовной полиции Эрик Уордл. – Какая, к черту, нога?
– Даже не моего размера, – сострил частный сыщик, чего не решился бы сделать в присутствии Робин.
Из-под заколотой штанины его брюк виднелся металлический стержень, заменявший ему лодыжку. Из-за воплей своей помощницы Страйк не успел полностью одеться.
Только во время разговора с Уордлом он определил, что в коробке лежит именно правая нога, причем отрезанная, как его собственная, ниже колена. Не выпуская из руки телефона, Страйк склонился над столом, чтобы повнимательнее изучить эту конечность, и ему в нос ударил тошнотворный запах, как от размороженной курятины. Жертва принадлежала к белой расе; на гладкой, бледной коже не обнаружилось никаких изъянов, если не считать застарелой, зеленоватой гематомы на небрежно выбритой голени. Светлые волоски, чуть неопрятные ногти без лака. Из плоти белой ледышкой торчит кость. Отрублена чисто, заметил Страйк: вероятно, топором или мясницким секачом.
– Женская, говоришь?
– Похоже на то…
Заметил Страйк и кое-что другое: на задней части голени, возле места ампутации, виднелся старый шрам, никак не связанный с отсечением ноги от тела.
Сколько раз в детстве, на корнуэльском берегу, он останавливался спиной к предательской воде, которая застигала его врасплох? Кто не знаком с повадками моря, тот забывает о его тяжести и беспощадности. Когда оно холодным металлом обрушивалось на ребятишек, они цепенели. В силу своей профессии Страйк постоянно сталкивался, работал и боролся со страхом, но при виде этого застарелого шрама его на мгновение обожгла настоящая жуть, усиленная неожиданностью.
– Ты там не заснул? – спросил Уордл на другом конце.
– В смысле?
Дважды переломанный нос Страйка находился в каком-то дюйме от места отсечения женской ноги. В памяти всплыла детская ножка со шрамом – забыть это зрелище так и не получилось… Сколько же лет назад он видел ту девочку? Сколько было бы ей сейчас?
– Ты позвонил мне первому, потому что?.. – подсказал Уордл.
– Да-да, – спохватился Страйк, пытаясь собраться с мыслями. – Я хотел, чтобы этим делом занялся именно ты, но если тебе влом…
– Выезжаю, – сказал Уордл. – Скоро буду. Не суетись.
Страйк дал отбой и опустил мобильник на стол, не сводя глаз с ноги. Только теперь он заметил, что под ней лежит какая-то бумажка – отпечатанная записка. Прошедший хорошую армейскую школу, Страйк поборол в себе желание тут же вытащить ее и прочесть: к вещдокам прикасаться без нужды не положено. Вместо этого он неловко присел, чтобы разобрать перевернутый адрес на откинутой крышке.
Посылку отправили не кому-нибудь, а Робин; это плохо. Ее фамилия, напечатанная без ошибок на белом листке с клейким слоем, соседствовала с адресом агентства. Под этим стикером виднелся другой. Твердо решив не трогать коробку, даже чтобы прочитать надписи, Страйк прищурился и понял, что вначале имя адресата было указано как «Камерон Страйк» и лишь потом отправитель налепил сверху новую распечатку с именем Робин Эллакотт. С какой целью?
– Бляха-муха! – выругался Страйк себе под нос.
Не без труда распрямившись, он снял с крючка у входа сумку Робин, запер стеклянную дверь и пошел наверх.
– Полиция уже едет, – сообщил он, ставя перед ней сумку. – Чаю выпьешь?
Она кивнула.
– Бренди плеснуть?
– Бренди у тебя нет, – хрипловато заметила Робин.
– Уже пошарила?
– Еще не хватало! – возмутилась она, и Страйк даже улыбнулся: как можно было подумать, что Робин у него в квартире пойдет шарить по полкам? – Не такой ты человек… не такой ты человек, чтобы держать дома бренди для лечебных целей.
– Может, пивка?
Робин помотала головой, не в силах улыбнуться. Когда заварился чай, Страйк устроился напротив со своей кружкой. По его внешности было отчетливо видно, что это бывший боксер-тяжеловес, давно подсевший на табак и фастфуд. Грозные брови, нос расплющенный, асимметричный, в отсутствие улыбки – вечная мина сумрачного недовольства. Его плотные, черные, вьющиеся мелким бесом волосы напомнили Робин про Жака Бургера и Сару Шедлок. Тот скандал остался где-то в прошлом. О Мэтью она вспомнила сегодня разве что походя. Робин не представляла, как расскажет ему об этом происшествии. Он разозлится. Его и раньше бесило, что Робин работает у Страйка.
– Ты… рассмотрел? – прошептала она, взяла свою кружку, но тут же опустила – чай не пошел.
– Угу, – ответил Страйк.
Что бы еще такое спросить, она не знала. В посылке была отсеченная нога. Такая жуть, такой бред… любой вопрос прозвучал бы пошло, издевательски.Это, случаем, не от твоей знакомой? Как по-твоему, кто мог это прислать? И самое главное: а я-то при чем?
– Полицейские будут спрашивать про курьера, – сказал Страйк.
– Естественно. Постараюсь припомнить все до мелочей.
Снизу позвонили.
– Это, наверно, Уордл.
– Уордл? – Робин даже вздрогнула.
– Самый доброжелательный коп из всех, кого мы знаем, – напомнил ей Страйк. – Жди, я приведу его сюда.
В прошлом году Страйк умудрился восстановить против себя всю полицию Большого Лондона, причем даже не по своей вине. Раздутые прессой, два самых громких его расследования уязвили офицеров, которых он обошел. При этом Уордл, помогавший распутать первое из тех двух дел, слегка погрелся в лучах его славы, и за счет этого у них сохранились более или менее сносные отношения. Робин знала Уордла только по газетным фотографиям. В зале суда она его не видела.
Внешне он оказался довольно привлекательным: густая каштановая шевлюра, шоколадно-карие глаза, одет в кожаную куртку и джинсы. Перехватив его быстрый, испытующий взгляд, обшаривший Робин – ее волосы, фигуру и особенно левую руку, на которой блестело наглядное свидетельство помолвки, колечко с бриллиантом и сапфиром, – Страйк не знал, смеяться или досадовать.
– Эрик Уордл, – представился инспектор вкрадчиво и, как подумал Страйк, с совершенно лишней обольстительной улыбочкой. – А это сержант уголовной полиции Эквензи.
С ним прибыла чернокожая коллега: тощая, с кичкой выпрямленных африканских волос на затылке. Она приветствовала Робин краткой улыбкой, и Робин почему-то успокоилась от присутствия другой женщины. Сержант уголовной полиции Эквензи окинула взглядом тесное жилище Страйка, на все лады расписанное газетчиками.
– А где же посылка? – спросила она.
– Внизу. – Страйк вытащил из кармана ключи от офиса. – Я вас провожу. Как поживает твоя жена, Уордл? – не удержался он, выходя из квартиры с сержантом Эквензи.
– А тебе-то что? – огрызнулся офицер, но, к немалому облегчению Робин, перестал изображать из себя психотерапевта, сел напротив и открыл блокнот.
– Он дожидался у подъезда, – начала Робин, когда Уордл спросил, как у нее оказалась коробка с отрезанной ногой. – Я подумала, это курьер. Затянут в черную кожу, весь в черном, и только на плечах куртки – синие полосы. Гладкий черный шлем, зеркальный щиток опущен. Рост – где-то под два метра. Если не учитывать шлем – сантиметров на тридцать выше меня.
– Телосложение? – спросил Уордл, строча в блокноте.
– Я бы сказала, довольно плотное, но у него, вероятно, куртка была на теплой подкладке. – Робин невольно покосилась на Страйка – тот как раз входил в дверь. – Ну то есть, конечно, не…
– Конечно, не такой жирный кабан, как босс? – подсказал Страйк, и Уордл, никогда не упускавший случая пнуть частного сыщика или поржать над чужой подколкой, негромко хохотнул.
– Он был в перчатках, – без улыбки добавила Робин. – В черных кожаных байкерских перчатках.
– Куда же без перчаток, – отозвался Уордл, делая очередную пометку. – Мотоцикл, вероятно, вы не разглядели?
– «Хонда», красная с черным, – сказала Робин. – Я логотип запомнила – изображение крыла. По моим прикидкам, рабочий объем семьсот пятьдесят кубиков. Здоровенный.
Уордл не поверил своим ушам.
– Робин у нас – гонщица. Рассекает, как Фернандо Алонсо, – вставил Страйк.
Робин стало раздражать его панибратство и ерничество. У них в конторе, этажом ниже, лежала отсеченная женская нога. А где искать саму жертву? Сдержать слезы было нелегко, особенно после бессонной ночи. Проклятущий диван… В последнее время она нередко стелила себе в гостиной…
– И он заставил вас расписаться в получении? – спросил Уордл.
– Не то чтобы заставил, – уточнила Робин. – Он протянул мне папку-планшет с зажимом, и я машинально черкнула свою подпись.
– А что было под зажимом?
– То ли накладная, то ли…
Пытаясь восстановить это в памяти, Робин закрыла глаза. Теперь ей вспомнилось: бланк действительно выглядел каким-то кустарным, будто сляпанным на компьютере. Так она и сказала.
– А вы, вообще-то, ожидали какую-нибудь посылку? – спросил Уордл.
Робин объяснила, что к собственной свадьбе заказала для гостей одноразовые фотоаппараты.
– И что он сделал, когда коробка оказалась у вас в руках?
– Сел на мотоцикл и умчался. В направлении Черинг-Кросс-роуд.
В дверь мансарды постучали; сержант Эквензи принесла в пакетике для вещдоков отпечатанную на принтере записку, которую Страйк в самом начале заметил под ногой.
– Прибыли судмедэксперты, – доложила она Уордлу. – Вот это лежало в посылке. Хотелось бы услышать мнение мисс Эллакотт.
Сквозь прозрачный полиэтилен Уордл пробежал глазами записку и нахмурился.
– Белиберда какая-то, – сказал он и начал читать вслух: – «A harvest of limbs, of arms and of legs…»
– «…of necks that turn like swans…» – подхватил Страйк, который стоял прислонившись к плите, откуда уж никак не мог разобрать написанное, – «…as if inclined to gasp or pray»[6].
Трое слушателей вытаращили глаза.
– Это текст песни, – сказал Страйк.
От Робин не укрылось выражение его лица. Она поняла, что эти слова наполнены для него особым, гнетущим смыслом. Страйк с видимым усилием объяснил:
– Из последнего куплета «Mistress of the Salmon Salt»[7]. Группы Blue yster Cult[8].
Сержант уголовной полиции Эквензи вздернула тонко подведенные бровки:
– Это кто такие?
– Культовые рокеры семидесятых.
– Ты, надо думать, хорошо знаешь их музыку? – предположил Уордл.
– Я хорошо знаю эту песню, – ответил Страйк.
– А отправителя ты, случайно, не знаешь?
Страйк медлил. Троица слушателей выжидала, а в голове у сыщика мелькали образы и воспоминания. Чей-то приглушенный голос: «Она звала смерть… Quicklime Girl»[9]. Тонкая ножка двенадцатилетней девочки, исполосованная серебристыми шрамами от порезов. Темные, как у хорька, мужские глаза, сузившиеся от ненависти. Наколка – желтая роза.
А потом, в конце прочих воспоминаний (у кого-нибудь другого эта мысль возникла бы в начале), ему в голову пришел протокол допроса, в котором упоминался отрезанный от трупа пенис, отправленный по почте полицейскому осведомителю.
– Ты знаешь отправителя? – повторил Уордл.
– Возможно. – Страйк покосился на Робин и сержанта Эквензи. – Нам с тобой лучше потолковать с глазу на глаз. Ты узнал у Робин все, что хотел?
– Нам понадобится ваше полное имя, домашний адрес и прочее, – сказал Уордл. – Запиши, Ванесса.
Сержант Эквензи вышла вперед с блокнотом. Железные ступеньки лязгом отозвались под шагами мужчин и затихли. Робин отнюдь не горела желанием еще раз увидеть содержимое посылки, но расстроилась, что ее не позвали в офис. Как-никак на коробке была наклейка с ее именем.
Зловещее почтовое отправление все еще лежало этажом ниже, на конторском столе. Сержант Эквензи впустила еще двоих подчиненных Уордла: один фотографировал, второй вел переговоры по мобильному, когда мимо прошел их начальник с частным детективом. Полицейские проводили Страйка любопытными взглядами: он добился относительной известности, но вместе с тем успел насолить многим коллегам Уордла.
Закрыв за собой дверь кабинета, Страйк с Уордлом сели за стол друг против друга. Уордл открыл чистую страницу блокнота:
– Итак, известен ли тебе любитель расчленять трупы и по кускам рассылать частным лицам?
– Теренс Мэлли, – после небольшой заминки ответил Страйк. – Для начала.
Уордл не стал ничего записывать и только воззрился на Страйка, занеся ручку:
– Теренс Мэлли по кличке Диггер?
Страйк кивнул.
– Из харрингейской банды?
– А ты знаешь других Теренсов Мэлли? – Страйк начал раздражаться. – И сколько среди них любителей отправлять по почте расчлененку?
– Черт возьми, неужели ты пересекался с Диггером? Какими судьбами?
– Во время совместных рейдов с полицией нравов, в две тысячи восьмом. Он наркоту толкал.
– После той облавы его и закрыли?
– Точно.
– Ё-моё! – вырвалось у Уордла. – Вот же и ответ, да? Этот перец – больной на всю голову, только что освободился и пасет половину лондонских проституток. Впору пройтись землечерпалкой по Темзе – поискать остальные части тела.
– Загвоздка в том, что я давал показания анонимно. Он не мог знать, что закрыл его именно я.
– У них повсюду глаза и уши, – возразил Уордл. – Харрингейская группировка – это же чистой воды мафия. Ты слышал, как он послал Иэну Бевину отрезанный член Хэтфорда Али?
– Да, я в курсе, – ответил Страйк.
– Так про что там в песне поется? Про урожай какой-то долбаный…
– Вот это меня и настораживает, – с расстановкой признес Страйк. – Для такого баклана, как Диггер, слишком тонко… наводит на мысль, что это мог быть один из троих других.
4
Blue yster Cult. «Astronomy»[10]
- Four winds at the Four Winds Bar,
- Two doors locked and windows barred,
- One door left to take you in,
- The other one just mirrors it…
– То есть ты знаешь четверых, которые могли прислать тебе отрезанную ногу? Четверых?
В круглом зеркальце у раковины, над которой сейчас брился Страйк, отражалось перекошенное от ужаса лицо Робин. Полицейские наконец-то увезли ногу, Страйк объявил, что на сегодня дела окончены, и Робин сидела со второй кружкой чая за кухонным столом у него в мансарде.
– Если совсем честно, – сказал он, соскребая щетину с подбородка, – то всего лишь троих. Думаю, напрасно я приплел сюда Мэлли.
– Почему же напрасно?
Робин услышала историю его краткого знакомства с этим рецидивистом, которого в последний раз упекли за решетку не без участия Страйка.
– …поэтому Уордл теперь считает, что меня вычислила харрингейская группировка. Но я вскоре после дачи показаний отбыл в Ирак, и мне неизвестны случаи, чтобы офицер специальной разведки засветился из-за участия в судебном процессе. А кроме того, текст песни – это Диггеру не по уму. Такие изыски – не его уровень.
– Но на его счету есть расчлененные трупы? – спросила Робин.
– Насколько мне известно, один… но имей в виду: тот, кто расчленил труп, – не обязательно убийца, – рассуждал Страйк. – Нога могла быть отсечена от уже имевшегося трупа. Могла быть ампутирована в больнице. Уордл прояснит эти вопросы. Пока нет результатов экспертизы, нам остается только гадать.
О леденящей кровь возможности отсечения ноги от живого человека он умолчал.
Во время паузы Страйк ополаскивал под краном бритвенный станок, а Робин, погруженная в свои мысли, смотрела в окно.
– Пожалуй, ты был просто обязан упомянуть Мэлли, – заключила она, поворачиваясь к Страйку, который встретил ее взгляд в зеркале, – коль скоро тот один раз уже отправил по почте… что там он отправил? – нервно поинтересовалась Робин.
– Да пенис, – ответил Страйк, дочиста вымыл лицо и вытерся полотенцем. – Ага, возможно, ты права. Хотя по зрелом размышлении я все больше убеждаюсь, что Мэлли тут ни при чем. Я сейчас… хочу рубашку сменить, а то две пуговицы оторвал из-за твоих воплей.
– Это плохо, – туманно сказала Робин, когда Страйк исчез в спальне.
Попивая чай, она огляделась. Прежде ей не доводилось бывать у Страйка в квартире. Самое большее, что она себе позволяла, – это постучаться к нему в дверь, чтобы сообщить нечто безотлагательное, а в периоды его напряженной работы и постоянного недосыпа – разбудить.
В тесной кухоньке-гостиной царили чистота и порядок. Там не наблюдалось почти никаких примет личности: разрозненные кружки, стопка дешевых посудных полотенец возле газовой плиты, никаких изображений и безделушек, разве что прикрепленный к дверце посудного шкафа детский рисунок солдата.
– Кто это нарисовал? – полюбопытствовала она, когда Страйк вернулся в свежей рубашке.
– Мой племянник Джек. Он ко мне хорошо относится, по непонятной причине.