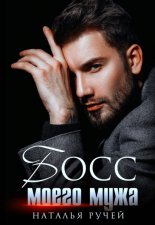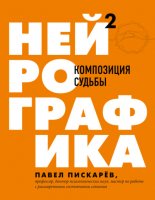Ореховый Будда Акунин Борис

Но это ее не мучило. Ее больше ничего не мучило. Потому что ничего не осталось. Ни мыслей, ни желаний, ни надежды на избавление. Одна пустота.
* * *
Но оказалось, что еще есть страх.
В последний, восьмой раз архимандрит пришел под конец дня, когда в темницу лился косой свет заката.
Сначала вошел послушник с блюдом, на котором была всякая снедь – и пироги, и моченые яблоки, и пшеничный хлеб. Поставил всё это богатство перед Катой, удалился.
Потом возник и Тихон. Не жалкий, не яростный, а спокойно отрешенный.
– Не буду тебя боле истязать, – сказал он ровным голосом. – Завтра, должно быть, прискачут государевы люди, увезут тебя к иным истязателям, мучительней меня. Не знаю, что у тебя за тайна, но знаю, как ее будут у тебя выпытывать. Сначала подвесят на дыбе, выломав плечевые суставы. Потом сдерут со спины кожу кнутом. Будут поливать раны соленой водой. Прижигать горящим веником. Сомлеешь – дадут полежать, обольют из ведра. И снова. Не станешь говорить – замучают до смерти. Но то уже будет не мой грех. Пока же ты еще здесь – ешь, пей. А увезут – буду о тебе, твердовыйной, молиться. Христос с тобой, дочь моя.
Тихонько, сам себе, добавил: «А не со мной» – и ушел.
К еде Ката не прикоснулась, только попила квасу из кувшина. Ей было очень страшно. Господи, ведь чертов поп правду сказал! Увезут в застенок, станут мучить, как Фому Ломаного мучили, он рассказывал! Фоме-то что, он всех выдал, и его, хоть покалеченного, но отпустили. А ее не отпустят. Книги-то нет, и неизвестно, где она теперь. Кто поверит сказке про японца, унесшего книгу в мешке? И где он ныне, тот японец? И будут терзать Кату всё более ужасными, нескончаемыми терзаниями до самой смерти…
Господи Исусе, господи Будда!
Плакала, скрежетала зубами – в точности как в Матфеевом писании: «плач и скрежет зубовный». Ночью, устав плакать, провалилась в сон, но скрежетала зубами и во сне.
Открыла глаза в темноте, и опять: крррр, крррр. Скрежещет.
Не сразу и поняла, что звук не изнутри, а от окна. Что-то там противно, душеотвратно скрипело. Покачивалась тень, заслоняла лунный свет.
Думая, что продолжается сон, Ката – явно ли, в сонном ли видении – поднялась, медленно приблизилась.
И услышала голос.
Голос молвил:
– Крепко спишь, ученица. Я уж прут сверху перепилил, теперь снизу допиливаю.
– Дедушка! – пролепетала она. – Я уж не чаяла! Думала, ты меня бросил!
– Учитель ученика бросить не может, – назидательно ответил Симпей. – А Хранитель не может бросить Орехового Будду.
– Где же ты был? Добывал напильник? Иль не мог к окошку подобраться?
– Зачем напильник, если есть мой нож. Он и железо перетирает. А подобраться сюда ночью нетрудно. Но нужно было дать тебе время обжиться на второй ступени.
Прут тихонько крякнул и поддался. Окошко было свободно.
– Лезь. Я спилил под корень, не оцарапаешься.
Ката примерилась – и похолодела.
– Не пройду я! Узко!
Он просунул руку, пальцами померил ей плечи, потом оконницу.
– Да, тесно. Сымай рубаху, тут каждый четвертьвершок на счет. И – головой вперед, как из утробы. Уши пролезут, пролезет и остальное.
Она протянула в окошко рубаху, сунулась головой. Но плечи застряли – никак.
– Сейчас будет больно. Не шумни.
Симпей взял ее за шею своими мягкими, но удивительно сильными пальцами, стал плавно тянуть.
Тело немного продвинулось вперед и встало намертво, стиснутое с двух сторон. Дедушка уперся коленом в стену, рванул.
– Мммммм! – подавилась стоном Ката, чувствуя, как сдирается с плеч кожа.
Но в следующее мгновение полегчало, и ученица выскользнула из дыры, повалилась на Учителя.
Чтоб не заорать, со свистом втягивала воздух. Обхватила горящие плечи руками – пальцы намокли от крови.
– Тихо… Дозорные услышат.
Симпей показал на костер, горевший под деревянным крестом – в самом узком месте перешейка, что соединял монастырь с берегом.
– Хорошо, что у этого соина вместо крепостных стен вода, – сказал Учитель. – Мы уйдем вплавь.
Кусая губы, Ката пошла за ним в темноту. За братскими кельями был спуск, под которым чернела вода. Она была ледяная, но холод ослабил боль.
Плавала Ката хорошо (выросла-то на реке), но за дедом не поспевала, его блестящая под луной башка быстро отдалялась.
– Пробежим. Согреешься, – сказал он, вытягивая ее за руку на берег. – У меня в лесу шалаш.
На бегу Ката, в самом деле, согрелась, но зато снова засаднила ободранная кожа – хоть вой. И опять засочилась кровь.
Ничего! Бежать через лес, по свободе, не вдыхая смрад темницы, было счастьем.
Дед сызнова легко ее обогнал, и скоро она уже еле видела серое пятно его спины.
Впереди показалось слабое свечение. Это на полянке, близ листвяного шалашика, тлел умело разложенный костер: чтоб горел неярко, но долго не гас. Симпей подбросил веток, огонь стал жарче.
– Сейчас, сейчас, – уютно приговаривал дед, роясь в своем мешке. – Ага, вот. Давай-ка плечо.
Она, морщась, подставила рану, дожидаясь облегчения от боли.
– Что это за белый порох? Лекарство?
– Лекарство, лекарство, – кивнул он и сыпанул на содранное место.
Обожгло так, что Ката не сдержалась – заорала во все горло.
– Аааааа!!! Чем… чем это ты?
– Солью.
– Какая же соль лекарство?!
– Очень хорошее. Не для твоей раны, а для твоего духа, который готов постичь третью ступень. Пора нам продолжить учение.
Ступень третья
Сийский лес
Сушить одежду подле костра было необязательно, но девочка выглядела такой измученной и продрогшей, что Симпэй сделал ей поблажку. В деревне он достал сытной еды. Дал Кате несколько глотков молока и одну ложку меда. Больше было нельзя – не выдержит иссохший живот. Содранные плечи смазал травяным соком, чтоб не загноились и быстрее зажили. Но, делая всё это, не говорил добрых слов, которые размягчают душу. Жалость опасна, она поощряет слабость. Ничто не должно поощрять слабость. Хочешь и можешь помочь – помоги, но не ослабляй.
А чтобы ученица не жалела сама себя, он сразу повел ее дальше по Лестнице.
– Третья ступень заключает в себе владение болью. Она бывает двух видов: боль души и боль тела. Над первой ты властна. Прикажи себе: из-за этого я страдать не буду, и, если твой дух хорошо выучен, он послушается. Но боль телесную причиняет внешний мир, когда он тебя ранит или проникает в твою плоть. С такой болью управляться труднее. Тут надобен навык.
– Сказать себе, что я боль придумала, да? – спросила Ката-тян, с сомнением глядя на свое плечо, где начинала запекаться корка. – Я попробую…
– Нет, при сильной боли не получится. Боль – доказательство того, что ты существуешь на самом деле. Она не снится.
– А что же?
– Надо научиться с ней разговаривать.
– С болью?
Он помог ученице надеть рубаху.
– Когда тебе бывает больно? Когда твое тело, твой конь, твой верный пес, жалуется, что ему плохо. Просит тебя: «Хозяйка, выручай!». Что ты сделаешь, если твоя собака скулит? Знаешь, как помочь – помогаешь. Не знаешь или не можешь – утешаешь. Говоришь: «Ты не одна, я с тобой. Я твой хозяин, я тебя не брошу». Собака поскулит, поскулит и перестанет.
– Ужто? – недоверчиво спросила ученица.
– Гляди сама.
Симпэй задрал рукав, взял из костра головешку, приложил к голому локтю и держал, пока не запахло паленым. Морщился, шевелил губами. Потом морщиться перестал.
– Моя боль – как ручной медведь. Велю – рычит, велю – плачет, велю – на задние лапы встает.
У девочки загорелись глаза.
– Дай! Я тож попробую!
– Не так быстро, – засмеялся Симпэй. – С телом учатся говорить постепенно. И начинают с простого. Вот ты устала, ослабела, а нам нужно идти. Потому что утром в монастыре хватятся, что узница сбежала, и будут тебя искать. Нам надо встать на копыта и уйти сколь можно дальше. Поговори со своим телом, попроси его, чтоб сыскало в себе силу. Скажи ему: «Я плохо тебя кормила, но это не оттого, что я тебя разлюбила. Послужи мне, яви милость. А я тебя после награжу».
Глядя, как она, зажмурившись, шепчет, Симпэй улыбался. В пятнадцать лет убедить тело, что оно не устало, легко. Это можно и без Мансэевой науки.
Девочка тряхнула волосами, вскочила на ноги.
– У меня получилось! Тело меня услышало! Оно готово!
– Пристегивай копыта. Путь не ждет.
Скоро Симпэй, за эти дни хорошо изучивший округу, нашел лесную дорогу, что вела на юг. Она была частью в тени, частью под луной, и быстрые ходоки неслись по ней, будто сквозь время: светлый день, темная ночь, светлый день, темная ночь.
Ката-тян, плача, рассказывала про убитого щенка, про то, как ей пришлось выбирать между предательством истинного креста и спасением невинной жизни и как она предать предала, а спасти не спасла.
– …Знай еще и то, Учитель, что ежели бы архимандрит поверил про книгу и спросил, у кого она, я бы и тебя выдала, – каялась девочка. – Предала бы тебя из-за собаки! А как поступил бы ты? Что бы выбрал?
– У нас это называется «Искушение ложным выбором», – ответил Симпэй неохотно, потому что задача была трудная, не для первого и даже не для второго этажа. – Нельзя попадать в ловушку, когда единственным выбором представляется одно из двух зол. Например, между двумя предательствами. Это Путь испытывает твою твердость, показывает развилку из двух дорог: и по одной идти плохо, и по другой, а назад не повернешь. Но есть еще одна развилка, никогда о ней не забывай.
– Какая?
– Жить дальше или не жить. Этот выход никто и никогда у тебя отобрать не может, потому что жизнь принадлежит тебе. Ты всегда можешь сказать: «Мне перестал нравиться этот сон. Всё, Будда, я просыпаюсь». И проснись. Тогда твоя верность (чем бы она для тебя ни была, пускай двумя сложенными пальцами – неважно) и твоя любовь (пускай к щенку) останутся целы. А ты проснешься, и будешь видеть в следующей жизни новый сон. Или не проснешься, а навек сольешься с Буддой. Это еще лучше.
– Легко сказать! Я бы в тот миг лучше померла бы, но как это сделаешь? Помереть, чай, не просто!
– Всё просто, если умеючи. Этому искусству я тебя тоже однажды научу. Чтобы ты никогда ничего не боялась. Но не сейчас, а в третьем Жилье. Пока рано.
Слезы у девочки высохли. В этом возрасте лучшее средство от них – любопытство.
– А сколько всего Жильёв?
– Восемь.
– Ого! А в котором ты? В самом высоком, да?
Симпэй вскинул ладонь и остановился.
Его кожа вдруг ощутила акусю, запах Зла.
Этот навык оттачивается долгим учением. Для Хранителя он необходим. Во время праздников того или иного из «семи богов» в Храм приходит множество людей, средь которых могут оказаться безумцы. Иногда появляется человек, страдающий от своей никчемности и боящийся, что после смерти о нем быстро забудут. Одержимый голодом славы – любой, хоть бы и черной, – такой человек может захотеть уничтожить великую святыню и тем самым навсегда остаться в памяти потомков. Такое случалось дважды. В эпоху Тэндзи некий торговец поджег сосуд с маслом и пытался бросить его в алтарь. А в эпоху Бунроку бродячий самурай выхватил меч и успел изрубить им пять внешних богов, прежде чем злодея обезоружили.
Поэтому Хранители, незаметно стоящие в тени алтаря, полагаются не только на зрение, но и на кожу: от близости Зла на ней выступают мурашки.
Именно это произошло сейчас.
– Ты чего, дедушка?
– Мы дальше не пойдем, – сказал Симпэй, глядя на кусты, вплотную подступавшие к дороге. До них было шагов двадцать.
Он пятился, тянул девочку за собой.
Но кусты затрещали, из них вылезли-выломились двое мужиков, у каждого в руке топор, за кушаком пистоль.
– Куды? Стой! – закричали они и через миг-другой были уже рядом.
Один, у которого правый глаз смотрел прямо, а левый в сторону, схватил за руку Кату. Второй, заросший дикой бородищей, вцепился в Симпэя. Оскалил зубы – они блеснули среди шерсти, словно ощерился медведь:
– Гляди, Косоглаз, твоего полку прибыло! Ты на одно око косишь, а этот на оба!
– Дура ты, Мохнач, – ответил второй и обернулся к кустам. – Чего с ими, атаман? Кончать что ли?
– Тащи сюда! – откликнулись кусты не мужским, а женским голосом.
Симпэй немного удивился. Что за новую диковину уготовил ему Путь?
* * *
За кустами открылась поляна. Там были еще двое, мужчина и женщина. Он низенький, но очень широкий, почти квадратный (Симпэй подумал: вся сила в плечах, а ноги слабые). Она – для лесной чащи чудн нарядная, в бархатном платье и шелковом платке, с белым лицом, насурмленными бровями, на тонких пальцах цветные перстни. Будто райская птица гокуракутё, ошибкой залетевшая в эти северные края. Необычная женщина, подумал Симпэй, заинтересовавшись ею больше, чем квадратным человеком. Очень красивая и очень опасная. Нет, не гокуракутё. Скорее лисица-оборотень кицунэ.
– На кой они нам, Павушка? Прибить, да во мхи кинуть, пока обоза нет, – сказал мужчина.
Из-за пояса у него торчала шипастая палица, под мышками, в лямках, два пистоля. Главным здесь был он – ясно по тому, как на него смотрели Мохнач с Косоглазом.
– Погоди, Федул, это мы успеем, – мягким, грудным голосом проворковала Кицунэ, едва взглянув на Кату и затем – с долгим прищуром – на Симпэя. – Времени довольно. Как только казначей у запруды появится – Сенька прокукует… Не простые это люди. У меня нюх. Вишь, татарин как зыркает. Обшарьте их, ребятушки.
Взять на Симпэе и Кате было нечего. Разве что нож из его рукава. Кицунэ по имени Павушка осторожно потрогала каленую сталь тамахаганэ, оставила находку себе.
– Ну-тка, а в мешке у него что?
Симпэй нахмурился. В мешке у него было всякое.
Пока нехорошая женщина пыталась развязать сложный узел катамусуби, он смотрел на разбойников и слушал их разговор, определяя, насколько они грозны.
Пожалуй, очень. От атамана, которого двое остальных звали то Федькой, то Федулом, то Кистенем, исходил крепко въевшийся запах убийства. Это закоренелый злодей, бездумно, а может быть, и с удовольствием отнимающий у других жизнь. Косоглаз с Мохначом немногим лучше, разве что не такие сильные.
Скоро стало ясно, и чего разбойники здесь ждут. Из Архангельска должен вернуться монастырский казначей, ездивший продавать пушной оброк. Тати собираются напасть на монахов и отнять деньги, большие – несколько тысяч рублей. В шайке есть еще какой-то Сенька, он подаст знак, как только покажутся повозки.
– Чего возишься? – повернулся Федька Кистень к женщине. – Порешим их, а в мешке после пошаришь. Чего там могет быть, а и куды оно денется?
– Порешить дело быстрое. Погоди…
Павушке надоело воевать с узлом, она вынула отобранный нож и разрезала веревку.
Ум шайки – Кицунэ, соображал Симпэй. Атаман ее во всем слушает.
Первое, что она достала из мешка, – книга старого князя Голицына. Раскрыла, поднесла к глазам.
Не только умная, но и грамотная, понял Симпэй. У русских женщин это редкость.
С трудомразбирая мелкое, Павушка медленно прочла самое начало:
– «Сей довд есть следствие долгих наблюдений и умозрительных замет, собранных на долгой дороге странником, тщившимся смотреть, внимать и думать, имея целью едино лишь повсеместное утверждение добрых законов и благого порядка…»
Кажется, князь Голицын постиг науку Пути, почтительно подумал Симпэй. Надо будет ознакомиться с мудрым писанием.
Но женщина истолковала прочитанное иначе.
– Ага! – воскликнула она с торжеством, захлопывая книжку. – Что я тебе говорила, Федул! Непростой это татарин! Вишь, чего пишет? Подглядываю-де по дорогам, подслушиваю, вынюхиваю заради закона и порядка. Шпыни это воеводские! Помнишь, что Венька Кривой сказывал? Воевода повсюду шпыней пустил, Федьку Кистеня добывать. Одни богомольцами обрядились, другие странниками. Гляди, что у него еще тут!
Она вынула кошель.
– Видал ты странников с золотыми червонцами?
Разбойники столпились вокруг, рассматривая монеты.
– Не простой это шпынь, а самый главный над всеми! – втолковывала им Кицунэ. – Допросить его надо. Пусть скажет: что им про нас ведомо, да сколько их, да где бродят.
– Ох Павушка, светлая головушка! – восхищенно прогудел атаман, мощной ручищей обхватил красавицу за плечо, громко поцеловал.
– То-то, меня слушайте, – ответила та.
И вдруг все замерли. Где-то недалеко закуковала кукушка.
– …Три… Четыре… Пять… Шесть… Семь… – вслух сосчитал Федька. – Сенька! Пора! Вяжите этих к дереву! Пава, гляди, чтоб не шумнули.
Мохнач схватил за локти Симпэя, Косоглаз – Кату, поволокли к росшему посреди поляны дубу, ловко прикрутили веревками. Женщина, угрожая ножом, велела открыть рты и запихнула обоим кляпы: Симпэю его же выпотрошенный мешок, свесившийся на грудь; Кате – свой переливчатый платок.
Волосы у лесной царицы были гладкие, медные, на затылке собранные в узел. Лисица, как есть лисица.
Ощущая спиной жесткую кору старого дерева, Симпэй смотрел тревожный сон дальше. Чем-то он закончится?
* * *
Скоро появился еще один разбойник. Юркий, быстрый, бесшумный в коротких валяных сапогах, он прибежал по дороге.
Зашипел:
– Едут! Едут!
В шайке, видно, все было заранее сговорено. Женщина осталась подле пленников, держа наготове нож, а четверо мужчин залегли в кустах шагах в пяти друг от друга. Каждый достал пистоль, изготовил.
Сбоку от поляны, где кусты были редки, дорога неплохо просматривалась. Сначала донеслось неторопливое чмоканье копыт по мягкой земле, скрип колес, позвякиванье сбруи. Потом, вывернув голову, Симпэй увидел сам обоз.
Впереди ехала легкая тележка. В ней двое: возница-монах и сзади, на скамейке, толстый человек, с большим серебряным крестом на груди – должно быть, отец казначей. Сзади еще два воза. На передке по крепкому чернецу: в одной руке вожжи, в другой ружье. Зорко смотрят по сторонам.
Едут навстречу своей карме, не догадываясь, что Путь сейчас закончится, грустно подумал Симпэй. Помоги им Будда подняться выше в следующем рождении.
Обоз скрылся за кустами. Через полминуты один за другим грянули четыре выстрела, и потом какое-то время было очень шумно.
На дороге раздались вопли боли и крики ужаса. Затрещали ветки – это разбойники ринулись вперед: трое с топорами, атаман со своей шипастой палицей.
– Бей! Бей! – орали за кустами.
И еще:
– Господи помилуй!
И по-матерному.
Слышались звуки хрустких ударов. Добивают раненых, сказал себе Симпэй, мысленно читая отходную сутру. Он посмотрел на Кату. Бледна, глаза расширены.
Слегка покачал головой. Да, люди убивают друг друга, разве ты не знала? Мир страшен. Не бояться страшного – этому тебе еще предстоит научиться.
Стонов больше не слышалось. На дороге что-то трещало, грохотало. Потом раздался ликующий вопль и радостный гогот.
– Есть? Нашли? – звонко крикнула Пава.
На поляну вернулся Кистень.
– Ай, умница! Ай, Павушка! – приговаривал он. – Во всем права! Ладно присоветовала не нападать, когда они с мехами ехали. Куды бы мы два воза пушнины дели? А ныне вона!
Он показал назад. Мохнач с Косоглазом, пыхтя, тащили за ручки тяжелый сундук.
Косоглаз возбужденно крикнул:
– Федь, как он тебя, жирный-то: «Христом-Боженькой!», а ты его хрясь в лоб – и зенки вылетели!
– Сенька где? – спросила Пава, идя им навстречу.
– Чернец его недобитый тесаком достал, – махнул рукой атаман. – Да черт с ним.
– Пойду погляжу, чисто ль дело сделали.
Кицунэ скрылась за кустами, а разбойники столпились у сундука, зазвенели серебром.
– Ух ты! Сколь здесь? Тыщи! И кони ладные, продать можно! – наперебой говорили они. – И в возах добра много. В Архангельске для монастыря накупили.
– То-то, ребята. Говорил я вам: «Кистеня держитесь, богачами будете»?
Атаман шлепнул одного по спине, другого по плечу – чуть не сшиб с ног. От дороги шла Кицунэ, звенела небольшой кожаной сумой.
– Дураки вы, а не богачи! У казначея под скамейкой киса с червонцами. Проглядели? Вот где настоящее богатство!
Ликование сделалось еще шумней.
Женщина говорила:
– Незачем нам с лошадьми да возами колупаться. Попадемся на ворованном, сгорим из-за мелочи. Нам серебра-золота хватит.
Никто не заспорил. Мохнач спросил:
– Когда дуванить будем?
– Сначала с этими окончим. – Пава показала на пленников. – Послушаем, что скажут.
– Да чего их слушать? – Федул не мог оторвать глаз от кисы. – Косоглаз, тюкни их топором, и делить будем. Уговор помните? Вам всем по одной доле, мне две, Сеньке теперь не надобно… Павушка, сколько это долей выходит?
– Стой ты! – приказала женщина косоглазому разбойнику, уже вынимавшему из-за пояса свой окровавленный топор. – Нельзя их тюкнуть, не допросивши. Думай сам, Федул. Надо вызнать, куда шпыни посланы, кого и по каким приметам ищут. Какими дорогами уходить, каких сторониться. А то попадемся при таких деньгах – срам будет.
– Твоя правда, – нехотя согласился Кистень. – Сейчас всё с татарина вытрясу. Кочетом закукарекает. Косоглаз, развязывай. Рты им ослобони. Да держи парня, чтоб не сбёг.
Пленников отвязали от дерева, вынули кляпы. Пава как ни в чем не бывало разгладила свой плат, помятый Катиными зубами. Повязала на голову.
– Татарину сызнова руки свяжи, – посоветовала она.
Атаман хмыкнул.
– На кой? Что мне эта мышь плюгавая сделает?
– Когда мыши деваться некуда, она, бывает, и на кота бросается.
Симпэю снова стянули запястья, спереди. Он не сопротивлялся, потому что для Хранителей существует лишь одно исключение из «Канона Ненасилия», и угроза для самого себя в эту категорию не подпадает.
– Легко и быстро помереть хочешь? – спросил главный злодей, скалясь. Он был с Симпэем в один рост, по русским меркам совсем короткий.
Хранитель покачал головой. Умирать он не хотел ни легко, ни трудно, пока не исполнена миссия и Курумибуцу не вернулся на свое место.
– На этого попусту время стратишь, – сказала Кицунэ. – Я таких молчаливых видала. Сдохнет, а рта не раскроет. Дайка я лучше с малым потолкую. Этот всё скажет. Мохнач, возьми-ка мальчонку с другой стороны. Да глядите – чтоб не вырвался.
Кату крепко держали в четыре руки. Она кинула дикий взгляд на Симпэя, но тот отвернулся, чтоб не мешать. Давай-ка сама. Это твой мир, не мой.
Плохая женщина, которая в следующей жизни вернется в мир сколопендрой или ползающей на брюхе змеей, сначала как следует попугала. Это она умела.
Погладила Кату по лицу, ласково приговаривая:
– Не бойсь, сахарный… Не бойсь, сладкий… Павушка на тебе, как на дудочке, сыграет… Ты пой верно, не криви, и ладно выйдет. А не станешь петь иль, упаси тя Христос, не ту песню соврешь, ой худо будет.
И, как кошка, вдруг выпустившая когти из пушистой лапы, процарапала по щеке четыре кровавые борозды.
Симпэй внимательно наблюдал.
Ученица скривилась только в первый миг, но не вскрикнула и, что важно, не отвела глаз – смотела мучительнице прямо в лицо. Это хорошо.
Ну-ка, что дальше?
Кицунэ повела себя так, как и положено оборотню. Отпор и непугливость эту нечисть разъяряют.
Разорвала на девочке рубаху. (Грудь, слава Будде, была совсем плоская, мальчишья. Разбойники ею не заинтересовались.) Вытащив нож, разбойница просвистела:
– Сейчас я тя приголублю. Всё скажешь.
И воткнула кончик под тонкую ключицу. На пол-суна левее – и попала бы в нервный узел. От такой боли и Симпэй бы вскрикнул. Но, опять-таки слава Будде, местных душегубцев анатомии не обучают. Ката-тян поморщилась, но не издала ни звука, лишь зашевелила губами.
Правильно, девочка. Разговаривай с болью, разговаривай.
Нож медленно двинулся вниз, в сторону, опять вниз, прочертив по коже багровый, сразу засочившийся зигзаг.
Губы шевелились, но ни одного стона не раздалось.
– Упрямишься? – Кицунэ улыбнулась. – Это хорошо, это я люблю. Поиграемся. Сейчас я тебе шкурку от шеи до паха взрежу и стану кожу на стороны сымать. Как кожуру со свеклы. Тихонечко, без спеха.
Она подняла руку, приставила острие к горлу, повела вниз. Нож прокровянил короткую линию, перерезал нитку, на которой висел Будда.
Орех упал на траву, и тут Ката-тян вскрикнула. Не от боли, отметил Симпэй. От тревоги за реликвию. Это допускается. Но кричать все же не следовало. Хитрая Кицунэ сразу что-то почуяла.