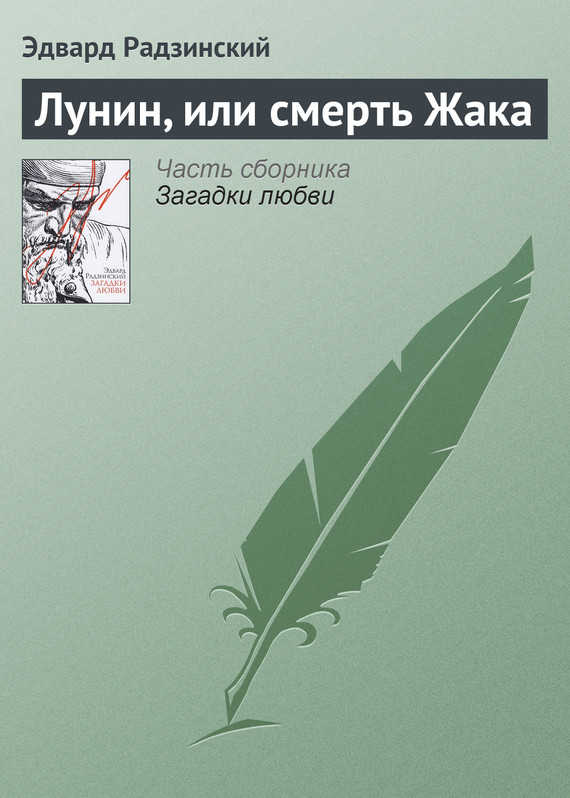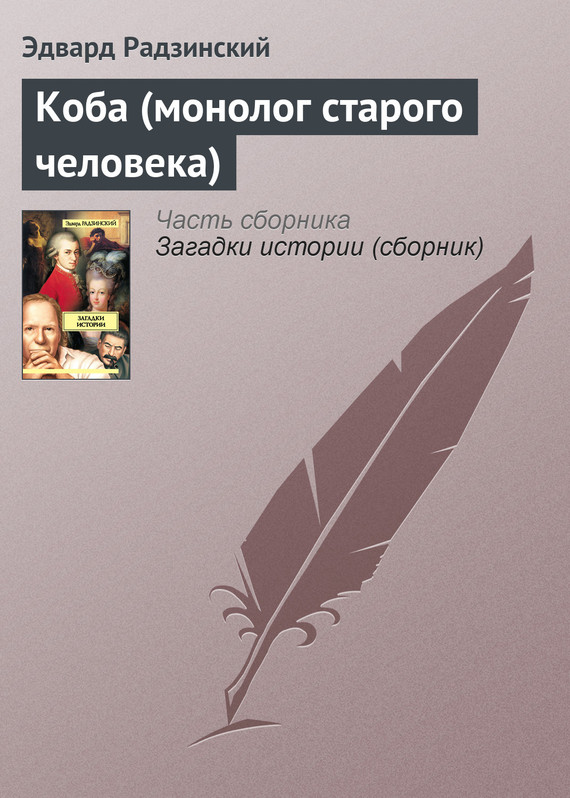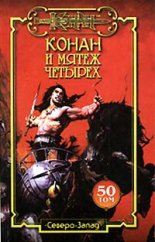Яблоки из чужого рая Берсенева Анна

Часть I
Глава 1
Глупость, приснившаяся в ночь накануне дня рождения, почему-то кажется обидной. Особенно если она снится под утро, уже на самой грани пробуждения, и запоминается поэтому во всех своих бессмысленных подробностях.
Анне приснилось, будто она заходит в магазин, который называется «Мандарин», и покупает полотняную, невнятного цвета и к тому же бестолково маленькую сумочку, в которую даже пудреница поместится с трудом. Платит в кассу синие советские двадцать пять рублей и получает сдачу какими-то странными купюрами. На одной из них стоит номинал – сто тринадцать, и эта подробность, вовсе уж идиотская, тоже неизвестно зачем запоминается. Из «Мандарина» она переходит в кондитерскую и долго, как никогда этого не делала наяву, выбирает пирожное. Пирожные все очень мелкие и очень дорогие, и это страшно ее угнетает, хотя ни разу в жизни ей не приходило в голову расстраиваться по такому ничтожному поводу. Потом она замечает в очереди знакомого и долго советуется с ним – все о том же, о выборе пирожного. А потом наконец покупает самое крупное, покрытое толстыми червяками разноцветного крема. Наяву она вздрогнула бы, только увидев такой крем, а уж съесть его ей и в голову не пришло бы. Но во сне она покупает это кошмарное пирожное, успевает заметить, что оно называется «Доппель-дойч»… И наконец просыпается.
Анна проснулась и сразу вспомнила, что ей исполнилось сорок лет. Она родилась рано утром, в шесть часов, а сейчас стеклянный потолок ее спальни светится тусклым ноябрьским светом, и это значит, что уже гораздо больше, чем шесть утра, и день ее рождения уже наступил.
Вот тут-то ей и стало обидно, что приснилась такая огромная глупость, к тому же состоящая из множества мелких, ничтожных глупостей. Как будто жизнь напомнила: все самое яркое, сильное, освещенное глубоким и неназываемым смыслом уже кончилось, и теперь будут только мелочи, ничего не значащие подробности.
Анна никогда не переживала из-за того, что годы идут и уходят. Да она и вообще не считала, будто они уходят. Просто ее жизнь время от времени вступала в какие-то новые состояния, и каждое из них было не лучше и не хуже предыдущего – оно просто было не такое, оно было новое. Потому она и воспринимала свой возраст без отчаяния, из-за чего одни знакомые ей завидовали, а другие думали, что она притворяется.
Но при этом она не умела прогонять от себя неприятные мысли, и знаменитая формула: «Я подумаю об этом завтра», – не казалась ей спасительной. Поэтому из-за дурацкого сна настроение у нее сразу испортилось так, что даже вставать расхотелось.
Она повернула круглую ручку над кроватью, шторы на окнах всколыхнулись, словно вздохнули, и раздвинулись, впуская в комнату еще больше света. Собственно, шторы были даже не на окнах, а на стенах, потому что от стен спальни после произведенной десять лет назад реконструкции остались только угловые опоры, а все остальное, снизу доверху, стало стеклянным, прозрачным и, освобождаясь от штор, создавало ни с чем не сравнимое ощущение: как будто ты просыпаешься так высоко, что над тобою ничего, кроме неба, и вокруг тебя ничего, кроме просторных, как поля, зеленых крыш старого Центра.
Крыши были видны далеко и во все стороны, потому что прозрачную спальню переделали из странной, неизвестного назначения «коробочки», которая торчала на крыше прямо над потолком квартиры. А дом был высокий, выше большинства окрестных домов, вот из спальни и видно было далеко вокруг.
Анна и теперь не могла привыкнуть ко всему этому, а прежде у нее и вовсе дух захватывало от такой запредельной картины. Они с Сергеем даже специально раздвигали все шторы ночью и, не включая свет, сидели на своей широкой, в темноте казавшейся жемчужной, постели и смотрели на звезды, которые светились как будто бы не только над головой, но и вокруг, и под ногами – везде. В те дни Анна как раз перечитывала антологию английской поэзии – редчайшую редкость, каким-то чудом изданную в Ленинграде в тридцать седьмом году, – а в этой книге были стихи Браунинга: «И мы сидели, я и ты, всю ночь, не двигаясь, и Бог ни слова нам сказать не мог…» И она вспоминала эти стихи такими вот ночами, потому что они существовали в мире совершенно отдельно и ни от чего не зависели.
Правда, это было очень давно, в прошлом состоянии жизни. Даже в позапрошлом.
Но и теперь Анне нравилась ее спальня – прозрачная, светлая в любую погоду, вся, от ковра до лампы у кровати, переливающаяся неуловимым множеством пастельных тонов. Поэтому она всегда начинала день с того, что раздвигала шторы и хотя бы несколько минут лежала, пропитываясь светом и воздушным городским простором. Потом задергивала шторы и вставала, зная, что теперь день будет совсем другим, чем был бы, если бы она вскочила в утреннем мраке, непонятно куда торопясь.
Она только в последние десять лет, когда совершенно отпала необходимость рано вставать, поняла, что является абсолютной, бесповоротной совой, которой противопоказан режим жаворонка, даже при катастрофической нехватке времени. Впрочем, ничто и не нарушало теперь ее режим, и времени ей хватало на все.
Телефон зазвонил, когда, уже спустившись из спальни вниз и приняв душ, она пила на кухне кофе, курила и одновременно сушила волосы широким махровым полотенцем.
– Маманька! – Матвей заорал так громко, что Анна засмеялась, покрутила головой и почесала ухо. – Да ты у меня уже совсем старушка! Поздравляю, – радостно добавил он.
– Пока ребенок у меня такой глупый, как будто ему пять лет, – сказала Анна, – я могу считать себя молодой. Матюшка, ну кто тебя научил так поздравлять женщин?
Она всегда улыбалась, когда разговаривала с сыном по телефону. Лицом к лицу-то его приходилось время от времени воспитывать, и вид для этого требовался соответствующий, но по телефону ведь незаметно.
– Каких еще женщин? – хмыкнул он. – Я только тебя в индивидуальном порядке поздравляю. А остальных оптом с Восьмым марта.
Тут Анна не выдержала и засмеялась, потому что представила, какое количество женщин приходится поздравлять ее сыну каждую весну. И правда, оптовая акция! Хорошего, конечно, мало, но Матвей сообщает об этом так, что только столб не засмеялся бы.
– Расти большая, мамуля, – сказал он. – И такая же юная и прекрасная, как всегда.
– Подлиза! – ответила Анна.
Все-таки Матюшины слова ее растрогали, хотя вообще-то ее не очень беспокоило, юная она или не очень, а уж тем более – прекрасная или обыкновенная. Но в его голосе слышались такие живые и ласковые ноты, что любая женщина растрогалась бы. Неудивительно, что они ходят за ним как завороженные, эти его «любые женщины»!
– Почему это я подлиза? – удивился Матвей. – Подлизам чего-нибудь от подлизываемого нужно, а мне от тебя ничего не нужно, кроме факта твоего существования.
– Ладно-ладно, – улыбнулась Анна. – Отвезешь меня сегодня?
– Куда? – не понял он и тут же вспомнил: – Ой, елки, а я же…
– Если не можешь, то необязательно, – поспешила сказать она. – Я водителя вызову.
– Да ладно! – Анне показалось, что она видит, как ее сын великодушно машет рукой. – Что я, депутата сраного ради мамульки на пару часов не брошу?
– Матвей! – рассердилась Анна. – Сколько раз я тебя просила?
– Ну не буду, не буду, – весело сказал он. – Не сраного, а говенного, если тебе так больше нравится.
– Мне вообще все это не нравится, ты же знаешь, – вздохнула Анна.
– Во сколько за тобой заехать? – спросил Матвей. – Отец звонил?
– В два часа. Не звонил.
– Ну, значит, сейчас позвонит, – сказал Матвей. – В четырнадцать ноль-ноль я как штык у подъезда, перезванивать не буду, можешь прямо сразу спускаться. Или нет, чего это я говорю? Не спускайся – я поднимусь. Пока, мам.
Телефон зазвонил сразу же, как только Анна положила трубку.
– Доброе утро, Аня, – сказал Сергей. – С днем рождения. Не разбудил?
– Здравствуй, Сережа. Спасибо. Не разбудил, – ответила она.
Он помолчал немного, потом сказал:
– Извини, что не наяву поздравляю. Я в Лондоне, в аэропорту. У нас туман. Но обещают к вечеру выпустить. Так что, может быть, еще и наяву успею.
– Вряд ли успеешь, Сережа, – ответила она. – Я ведь тоже сегодня улетаю. В Италию. В два часа Матюшка за мной заедет. Обещал, во всяком случае.
Анна повесила полотенце на вытянутую шею раскрашенной утки. Утка стояла на подоконнике и искоса поглядывала с таким любопытством, как будто глаза у нее были живые, а не деревянные. Анна смотрела утке в глаза и слушала, как Сергей молчит в телефонной трубке. Зря он сказал, что сидит в лондонском аэропорту. Она уже приучила себя не думать о том, где он и когда приедет, и ей стало гораздо легче жить, как только она себя к этому приучила.
– Тогда счастливо тебе. – Голос у него был спокойный, как всегда. – Надолго ты в Италию?
– Не знаю, как получится. Я должна виллы Палладио посмотреть, а их много, так что неизвестно, как с хозяевами договорюсь. И от фотографа будет зависеть – их ведь еще и отснять надо.
Сергей простился. Анна положила трубку и смела со стола длинный столбик пепла, который незаметно упал мимо пепельницы, пока она разговаривала с мужем.
Надо было одеться, причесаться и зайти в редакцию, потому что там ее, конечно, хотят поздравить и было бы свинством не просоответствовать. Благо теперь это нетрудно: у плиты ночь напролет стоять не надо.
Она достала из холодильника черную и красную икру, салаты, разложенные во множество крошечных корзиночек из песочного теста, тарелки с рыбой и мясом, нарезанные замысловатыми фигурками овощи и поставила все это на сервировочный столик, который из-за высоких колес напоминал телегу. Когда-то Анна сама делала корзиночки для салатов по рецепту, которому ее научила майорша Тамара Григорьевна, соседка по белорусскому гарнизону: жарила тоненькие блины, оборачивала ими перевернутые вверх дном майонезные баночки, ставила в духовку, чтобы блины подсушились до состояния твердых формочек… Теперь она просто не представляла, что стала бы делать, если бы пришлось выстряпывать что-нибудь подобное ради собственного дня рождения. Она вообще хотя и не разучилась, но совершенно разлюбила готовить и не видела причин снова влюбляться в это занятие. А корзиночки, как и салаты, продавались готовыми в любом супермаркете, и все можно было заказать на дом, что Анна вчера и сделала.
Вино, фрукты и птифуры на столик не поместились, но это ничего – идти ведь недалеко.
Оделась она тоже быстро. Да и вообще, оделась – это было громко сказано. Анна всей душой приветствовала минималистскую моду последних двух-трех лет: когда стало хорошим тоном выглядеть просто и даже дорогие вещи «на выход» стали напоминать те, в которых она студенткой бегала на лекции, – простые прямые юбки с едва проступающим на ткани узором, крупной вязки неброские свитерочки… Конечно, вся эта нынешняя неброскость, в отличие от тогдашней, стоила денег, и немалых, но с деньгами-то у нее проблем теперь не было, а вот необходимость долго и тщательно выбирать одежду была бы проблемой, потому что такой выбор должен быть потребностью и даже страстью, а ей об этом и подумать было теперь смешно.
Поэтому она оделась за пять минут – в черное до колен платье, о котором сразу, когда увидела его в маленьком венском магазинчике на Кернтнерштрассе, поняла только то, что его простые линии повторяют линии ее фигуры, но при этом, повторяя, каким-то неведомым и незаметным образом делают их совершеннее.
Примерно столько же времени она потратила на прическу и макияж – чуть-чуть ресницы, чтобы выглядели потемнее; чуть-чуть веки, чтобы казалось, будто серые глаза по-прежнему светятся и этот свет выплескивается из них; едва заметный блеск на губы, чтобы они сияли хотя бы так же, как лет десять назад; совсем незаметный лак на волосы, чтобы не разлетались, а сохраняли форму прически, тоже, впрочем, почти незаметную… И все, элегантная женщина готова к появлению среди своих сотрудников в день своего сорокалетия.
Медная кукушка в шварцвальдских часах прокуковала двенадцать раз. В такое время Анна всегда появлялась в редакции, поэтому предупреждать о своем приходе не было необходимости. Она постучала в дверь между кухонным буфетом и холодильником, повернула торчащий в замочной скважине ключ и, катя перед собою уставленный закусками столик, вошла во вторую половину кухни – уже в редакционную.
Глава 2
– Многая лета, многая лета, мно-огая ле-ета! – встретил Анну нестройный хор.
– С днем рождения, Анна Александровна, – добавил Павлик.
Слух у него отсутствовал напрочь, поэтому он не участвовал в женском хоре. Точнее, в трио.
– С днем рождения, Анечка! – Валентина Андреевна на правах старшей и старейшей звонко чмокнула Анну и тут же погладила ее щеку пальцем, оттирая пятно ярко-алой помады. – Ничего, что поздравляем?
– Почему – ничего? – удивилась Анна. – Спасибо, что поздравляете.
– Ну и умница, – кивнула Валентина. – А то сейчас неизвестно откуда мода взялась, что, мол, с сорокалетием нельзя поздравлять.
– Это мужчин нельзя, – уточнила Рита. – У них, считается, кризис среднего возраста. А нам все можно.
Арт-директор Рита работала в «Предметном мире» всего месяц и была моложе всех: ей неделю назад исполнилось двадцать два. Весь этот месяц она поглядывала на своих коллег – и на хлопотливую, вечно одетую в вытянутые трикотажные кофты Валентину, и на нескладного Павлика, об одежде которого уж и вовсе говорить не приходилось, и на прокуренную, хриплоголосую Наташу – с легким недоумением. Видимо, не могла понять, как можно держать в современном, с высокими окладами журнале таких маргинальных, притом старомодно маргинальных личностей.
Анна понимала, что со временем ей, наверное, придется объяснить Рите, что здесь к чему и почему. А может быть, и не придется: Рита выглядела девушкой сообразительной, и не исключено было, что она сама во всем разберется.
Наташа Иванцова чмокать Анну не стала, но приобняла ее за плечи и весело шепнула на ухо:
– Не переживай, Нюра, какие наши годы!
– Я не переживаю, – улыбнулась Анна. – Павлик, зайди ко мне на кухню и принеси все остальное из холодильника.
– Что именно принести? – уточнил педантичный Павлик.
– Все, что там находится. – Его наивная педантичность большинство женщин, может быть, и раздражала, недаром же в тридцать три года Павлик не был женат, но Анну только смешила иногда. А чаще она просто не обращала на это его качество внимания, потому что давно к нему привыкла. – Рита, пойди, пожалуйста, с ним и выбери вино. Бутылки на кухне, в подставке. Только не взбалтывай.
– Знаю, – снисходительно кивнула Рита.
– Ой, лучше я с Ритой схожу! – вскинулась Валентина Андреевна. – Он разобьет что-нибудь. Павлик, а букет?! – ахнула она. – Ну ничего тебе нельзя поручить, еще называется мужчина!
– Он не называется, – сказала Анна, – а является. А букет уже у меня на столе, и я его прекрасно вижу. Спасибо.
– Да, это вам цветы, Анна Александровна, – не обратив внимания на обидное Валентинино замечание и даже, кажется, его не услышав, кивнул Павлик. – Цветы и колоски.
Букет, скорее всего, заказывала Рита. И уж точно, что не Павлик, хотя преподносить «цветы и колоски» поручили ему, как единственному мужчине. Это был настоящий летний полевой букет, тех самых пастельных тонов, которые Анна любила. Даже крошечные голубые цветочки, которые она знала под названием «мужская верность», тоже были в этом букете. Правда, в природных условиях эти цветочки облетали от одного дуновения, потому, наверное, так и назывались, а эти, внешне в точности на них похожие, держались крепко.
Во всем букете только купальница была яркой, но и ее цветы, некрупные желтые колокольчики, выглядели такими нежными, почти прозрачными, что не нарушали, а подчеркивали общую тихую гармонию. Где можно было достать в Москве ко второму ноября полевые цветы и зеленые овсяные колоски, Анна не представляла. Впрочем, теперь в Москве можно было достать все, чего душа пожелает. Лишь бы она вообще чего-нибудь желала…
Да, пожалуй, и прежде многое можно было достать. Марина Эдуардовна, соседка еще по Ломоносовскому проспекту, рассказывала, как встречали какой-то предвоенный Новый год на никологорской даче и артист Яхонтов привез ночью, в метель, обернутый рогожей куст цветущей белой сирени – прямо туда, на Николину Гору. Да, тридцать седьмой год встречали, точно. Через месяц родителей Марины Эдуардовны арестовали, ее отдали в детдом, и тот белый цветущий куст остался последним счастливым воспоминанием ее детства.
Все это мелькнуло у Анны в голове мгновенно, как всегда сами собою, без надобности, мелькали такие вот живые воспоминания.
– Спасибо, – повторила она. – Жаль, до моего приезда не достоят – нежные такие…
– Достоят, – убежденно сказала Наташа. – Ты же не навечно в свою Италию едешь. А они в какую-то подставку воткнуты, которая черт знает чем пропитана. До второго пришествия достоят, не то что до твоего приезда. Да что вы – одни цветуечки! – вспомнила она. – Валюха, ты подарок-то доставай.
Подарок Валентина и так уже достала и тут же набросила его Анне на плечи.
– Ты же носишь шали, Анечка, – сказала она. – А эта авторская, эксклюзивная, ее Рогинский в единственном экземпляре расписал.
Эмиль Рогинский был художником по ткани, они несколько раз писали о нем и давали съемку, поэтому в эксклюзивности всего, что он делает, сомневаться не приходилось.
– Символы бесконечности мироздания, – усмехнулась Рита, заметив, что Анна рассматривает узоры на шали – загадочные бронзовые сплетения на фиолетовом фоне. – Магические к тому же. Бред, по-моему, но смотрится стильно, особенно на вас. Правильный платочек! Пойдемте, Павел Афанасьевич, за продуктами, – бросила она.
Рита всегда называла Павлика по имени-отчеству, видимо, не относя его к числу тех, кого до старости лет можно называть молодо, одним только именем, как это принято у правильных людей.
– Через кухню иди, Рита, не надо кругом, – сказала Анна, заметив, что та направилась к выходу.
В обычные дни кухонной дверью, соединяющей две соседние квартиры, пользоваться было не принято, и сама Анна тоже всегда входила в редакцию с лестничной площадки. Но сегодняшний день хоть и казался ей совершенно обычным, все-таки считался ее праздником, поэтому можно было изменить правилам. К тому же Павлик и правда мог разбить бутылки с вином, если бы понес их длинной дорогой.
– Как тебе идет-то, Аннушка, – заметила Валентина. – Вот я накинь шаль – и тетка теткой, только носки вязать. А ты стройная, изящная такая, и все тебя молодит. Ты под нее парюру свою надевай, – добавила она. – Ту, с яхонтами. Редко носишь, а зря, вещь старинная, второй такой небось и нету.
– С яхонтами! – хмыкнула Наташа. – Изъясняешься ты, Валюха, как в пятнадцатом веке. Еще скажи, с лалами. Нормальные гиацинты. А не носишь и правда зря, – сказала она уже Анне. – Если б мне моя жаба хоть какую свою драгоценность отжучила, я б ее, кажется, в нос воткнула и на ночь не вынимала. У тебя вон и свекровь человек, а моя: «Раньше считалось, Натали, что бриллианты до сорока лет носить неприлично, а лучше всего они вообще смотрятся на старухах», – передразнила она тягучие интонации свекрови. – Раньше! Когда это, интересно, раньше, при большевиках, что ли? Можно подумать, она не за членом Политбюро всю жизнь прожила, а за потомственным дворянином! Одно слово, жаба.
Свекровь была единственным человеком, которого Наташа презирала еще больше, чем мужа. Однако и муж, и его мамаша были в то же время людьми, которых она терпела с редким для себя постоянством. Наташа прекрасно понимала, что только в качестве их родственницы имеет доступ к сильным мира сего, а значит, имеет возможность верно применять свое грубоватое обаяние, а значит, является незаменимым менеджером по рекламе. Конечно, Анна не выгнала бы Наташу, даже если бы та вдруг развелась со своим ныне влиятельным супругом или рассорилась с его в прошлом влиятельными родственниками. Но Наташа все-таки предпочитала перестраховаться – знала, что умение добывать рекламу является единственным умением, которым она, женщина за сорок, имеющая специальность невестки члена Политбюро, может похвастаться в новой жизни. Впрочем, Наташе можно было поручить любое дело, связанное с общением: она умела уговорить кого угодно и на что угодно.
– А ты прямо сейчас парюру и надень, – предложила Валентина. – Ну надень, Аннушка, что тебе стоит! Праздник же у тебя.
– Хорошо, – кивнула Анна. – Действительно, у меня праздник.
Она вернулась к себе в квартиру, столкнувшись на пороге с Ритой и Павликом, которые уже возвращались, нагруженные бутылками и закусками, и быстро прошла к Сергею в кабинет. Яхонтовая парюра – кольцо, серьги и брошь, – двадцать два года назад подаренная ей к свадьбе Антониной Константиновной, лежала в музыкальной шкатулке. Она и всегда там лежала, и шкатулка всегда стояла на огромном столе из карельской березы, рядом с выточенной из черного дерева головой мавра в чалме. Сергей когда-то утверждал, что мавр – это Отелло, а деревянная танцующая одалиска, которая стоит рядом с ним на столе, это переодетая Дездемона. Но Анна однажды нашла фотографию точно такой же мавровой головы в справочнике по материальной культуре начала двадцатого века. Оказалось, что мавр всего-навсего украшал витрину табачного магазина, потому у него между ярко-алых лакированных губ и просверлена дырочка для сигары. Сергей тогда посмеялся и сказал, что плохо иметь ученую жену: в доме не остается места ни для одного ревнивца, даже для деревянного.
Анна открыла шкатулку и под первые такты незамысловатой мелодии достала из нее украшения. Они и в самом деле прекрасно подходили к шали – и по цвету, и по ощущению подлинности, бесценной единственности, которое сразу создавали. Крупные желтые гиацинты были вправлены в филигранную оправу из темного старинного золота, и тонкие кружева этой оправы можно было рассматривать так же долго, как узоры на шали, которые действительно напоминали о бесконечности мироздания.
Анна подняла волосы вверх, чтобы видны были серьги, а брошкой сколола на плече шаль. Конечно, желтые камни больше подошли бы не к ее серым, а к каким-нибудь карим, медовым, золотым глазам, поэтому она почти и не надевала парюру. Но, с другой стороны, такие украшения мало кому не идут, на то они и дорогие, и старинные.
Она закрыла шкатулку, оборвав мелодию, и вернулась в редакцию.
Вещи были собраны еще с вечера, поэтому Анна снова появилась дома без четверти два – только чтобы успеть переодеться в дорогу. Женское трио вместе с Павликом осталось праздновать юбилей начальницы: номер только что сдан, следующий начнут собирать уже после ее возвращения, в общем, гуляй не хочу.
Правда, заметив, что Анна уходит, Павлик остановил ее умоляющим возгласом:
– Анна Александровна, а фабрики мои как же? Может, пока вас не будет, мы с Лешей все и отсняли бы?
Анна только вздохнула: не удалось улизнуть незаметно! Когда речь шла о его обожаемой советской архитектуре, Павлик проявлял поразительную расторопность и даже хитрость, вовсе уж ему несвойственную. Правда, он действительно написал прекрасную статью о фабричных зданиях пятидесятых годов, но Анна все-таки сомневалась, надо ли ее ставить в следующий номер и тем более заказывать под нее дорогую съемку. Все-таки очень уж специфическая тема…
– Павлик, может, повременим пока? – спросила она, без особенной, впрочем, уверенности.
Расслышав ее нетвердые интонации, Павлик тут же принялся бессовестно дожимать начальницу.
– Как же – повременим? – с жаром возразил он. – Самое время сейчас – осень, все в золоте стоит… Вы бы видели эту фабрику в Карабанове, красный кирпич, неописуемая ведь красота!
– Да уж представляю… – пробормотала Анна.
Что хорошего нашел интеллигентный Павел Афанасьевич в советском фабричном стиле, она не понимала. Но зато понимала, что если такой глубоко и тонко чувствующий человек, как он, так горячо чем-то увлечен, то это дорогого стоит.
– Ладно, Павел Афанасьевич, – вздохнула она. – Поезжай в свое ненаглядное Карабаново с Лешей, если он свободен. Скажи, что оплатим по обычным его расценкам.
Фотограф Леша Разин не мог быть свободен по определению, потому что всегда был завален заказами на рекламную съемку от всех западных фирм, работающих в Москве. Однако в Анниных словах не было ни капли лукавства: она знала, что на самые бредовые просьбы Павлика, вроде этой, о поездке в какую-то дыру для съемки фабричных бараков, Леша никогда не ответит отказом. Такой уж человек был Павел Афанасьевич.
Как только она вернулась домой, зазвонил телефон.
– Анечка! – услышала Анна радостный мамин голос. – Как хорошо, что застали! Это папа высчитал, – объяснила мама, – что вечером у тебя наверняка банкет, утром ты в редакции будешь поздравляться, а сейчас, значит, дома – перышки чистишь. Правильно угадал?
– Правильно, – улыбнулась Анна. – Как хорошо, что дома застали!
Она действительно этому обрадовалась – иначе пришлось бы объяснять маме, почему не празднует юбилей, да неужели нельзя отложить командировку на пару дней, да ведь Сережа может обидеться, что она уезжает в день своего рождения… Родители жили в Канаде уже пятнадцать лет – уехали сразу, как только чуть-чуть приоткрылись границы, – поэтому, к счастью, у Анны не было необходимости посвящать их во все обстоятельства своей жизни. В Москву они не приезжали, ссылаясь на реку, в которую лучше в преклонном возрасте второй раз не входить, Анна бывала у них в Торонто раз в год, Матвей тоже время от времени навещал бабушку с дедушкой… Два раза, во время случайных канадских командировок, заезжал Сергей. В общем, родители были вполне довольны тем, как живут их дочь, зять и внук. Как, впрочем, и те, кто общался с Ермоловыми не раз в год, а чаще.
«Вот и отлично, – подумала Анна, кладя трубку после радостных маминых и папиных поздравлений. – Родители отзвонились – можно лететь».
Правда, еще не позвонила свекровь, но это уже неважно: Антонине Константиновне ничего объяснять не надо. И скрывать от нее нечего.
Поэтому Анна со спокойным сердцем слушала, как щелкает замок входной двери. Ее точный как король сын прибыл ровно в два часа, чтобы отвезти маму в аэропорт.
– Матюша! – засмеялась она, увидев, как он протискивается в кухонную дверь. – И что я с этим буду делать?
Букет, который Матвей держал в охапке, напоминал то ли клумбу, то ли цветущие альпийские отроги: он состоял из немыслимого количества благоухающих чайных роз.
– Отец сказал не забыть цветы – я не забыл, – гордо заявил ребенок. – Ну у тебя, мамань, и вопросы! Что будешь делать… А что ты обычно с цветами делаешь, у метро продаешь?
– Да ведь жалко, я же уезжаю, зря будут стоять.
– Ничего, перед отъездом полюбуешься, – махнул рукой Матвей. – А подарок, отец сказал, у него в столе взять. Принести? – каким-то мимолетным тоном спросил он.
– Конечно, – кивнула Анна. – Принеси, раз отец сказал.
Подарок от Сергея, как нетрудно было предположить, оказался очень дорогим, изысканным и совершенно нейтральным. Это было ровно то, что преуспевающий мужчина и должен дарить супруге на сорокалетие: элегантные швейцарские часики – белое золото, бриллианты, изумруды.
– Ничего такие брюлики, – хмыкнул Матвей. – К глазам тебе идут. А эти, зеленые, что за камешки?
– Бриллианты всем идут. – Анна вспомнила слова Наташиной свекрови. – Всем женщинам после сорока, и особенно старухам. А зеленые – это изумруды. Они к твоим глазам больше подошли бы.
– Буду у тебя их брать поносить по праздникам, – заверил Матвей.
Глаза у него были зеленющие, ну просто как весенняя трава. «Подзаборная», – всегда уточнял он. Даже непонятно было, как у сероглазых родителей мог появиться такой ребенок. У Анны, например, вообще не было ни одного зеленоглазого родственника. Правда, свекровь говорила, что именно такие, зеленые, глаза были у ее отца, но Анна не очень в это верила. Когда отец погиб на фронте, Антонине Константиновне едва исполнилось шесть лет, вполне могла забыть, какие у него были глаза, и досочинить потом, в качестве легенды. Тем более что от него и фотография сохранилась всего одна, присланная с фронта, и по ней нельзя было разобрать такие подробности, как цвет глаз.
Правильнее было бы думать, что зеленые глаза были у Сергеева отца, но о нем свекровь не говорила ничего и никогда. Замужем она не была, родила, как предполагала Анна, в результате правильно организованного курортного романа, единственной целью которого являлся ребенок. Отчество у Сергея было по деду – Константинович. Но и то сказать, когда мужчине сорок пять лет, не все ли равно, от кого и почему он родился? Говорят ведь, что даже лицо у человека только до тридцати лет такое, какое «сделали» родители, а после тридцати он за свое лицо отвечает сам.
Куда больше Анну интересовала сейчас внешность сына.
– А что это у тебя на щеке? – заметила она.
Об этом можно было и не спрашивать. У Матвея на скуле, прямо поверх тоненького светлого шрама, который остался после того, как он, годовалый, упал в смородиновый куст, красовался желто-фиолетовый синяк.
– Да ничего особенного. – Он пожал плечами. – Обычный фингал, на тренировке звезданули.
– Все-таки лучше бы ты и дальше плаванием занимался, – вздохнула Анна. – Что это вообще за спорт такой, рукопашный бой? Есть в нем хоть какие-нибудь правила?
– Есть, есть, – засмеялся Матвей. – Максимально приближенные к реальности. И зачем мне еще лучше плавать? На Канарах отдыхать – навыков уже хватает, а если так, по жизни непонятки какие, то плавай, не плавай, далеко не уплывешь. – И, не дав маме высказать свое отношение к таким его жизненным перспективам, мальчик благоразумно сменил тему. – Ну как, мам, разгадала наконец ребус? – поинтересовался он, стряхивая пепел в плоскую фаянсовую пепельницу.
Пепельница была того же происхождения, что и все в этой квартире – и деревянная утка, и табачный мавр, и музыкальная шкатулка… Наверное, когда-то пепельница принадлежала отцу Антонины Константиновны. А ребус, который был на ней изображен, Анна разгадать не могла, как ни старалась. Она не понимала, каким образом связаны между собою нота ре, слон, дама в шляпке-загогулине, мужчина с разинутым ртом… Матвей, с его врожденной сообразительностью, разгадал ребус, когда ему было лет восемь, и с тех пор издевался над маминой бестолковостью. Сергей, конечно, тоже знал, что написано на пепельнице. Когда-то Анна, смеясь, просила мужа, чтобы объяснил и ей, но это было так давно, что уже забылось. Почти забылось.
– Не разгадала, – с притворным сожалением вздохнула она. – Когда-нибудь ты все-таки не выдержишь материнских страданий и сам мне расскажешь. Матюша, я готова.
– Всегда ты, ма, вовремя готова, – заметил Матвей. – Хоть бы раз куда опоздала!
– Ты так говоришь, как будто это мой огромный недостаток, – обиделась Анна. – А сам, интересно, что делал бы, если бы приехал, а я не готова?
– Да ничего, – пожал плечами Матвей. – Подождал бы. Я однажды за девчонкой заехал – мы с ней в ночной клуб собирались, а она только в ванну влезла, – так, пока ее ждал, целый «Космополитен» успел прочитать.
– Почему именно «Космополитен»? – засмеялась Анна.
– А больше у нее не было ничего, – объяснил Матвей. – Ну, скажу тебе, журнальчик! У меня к сто пятидесятой странице вообще крыша уехала. Как все равно инструкцию к стиральной машине читаешь. «Одна моя подруга купила к весне новую сумочку и завела нового бойфренда, так вот она мне посоветовала… а я тебе советую…» – смешно пропищал Матвей. – Еще удивляются, почему я на них не женюсь! Я там, правда, ценный совет обнаружил, – вспомнил он. – Что от поноса, оказывается, «Спрайт» помогает. И точно, помогает! Только газы выбалтывать надо. Я недавно попробовал, когда шашлыков недожаренных наелся. Хочу вот благодарное письмо в редакцию написать.
– Поехали, маленький, – поторопила Анна. – Помнишь, тетя Фая говорила: «Пусть лучше я подожду поезда, чем он меня не дождется»?
Тетя Фая когда-то жила этажом ниже Ермоловых. Десять лет назад она уехала к младшему сыну в Израиль, но ее бессмертные высказывания до сих пор бытовали среди соседей как фольклор.
– А меня ты почему про подарок не спрашиваешь? – помолчав, спросил Матвей.
– Я думала, ты мне цветы подарил, – удивилась Анна.
– Хорошенького ты мнения о сыне! – хмыкнул он. – Я что, для того при депутате своем балду пинаю, чтоб родной матери на юбилей растительность дарить?
– Не знаю я, что ты при своем депутате делаешь и тем более для чего, – вздохнула Анна.
– Это долго объяснять! – отмахнулся Матвей. – Держи лучше подарок.
Он вышел в прихожую и вернулся, держа в руке коробку, обтянутую малиновой кожей. Открыв ее, Анна обнаружила лежащее на бархате зеркало. Оно было овальное, настольное, явно ручной работы и такое, что смотреть на него хотелось больше, чем в него.
Зеркало было обрамлено серебряным цветочным венком. Цветы в этом венке были простые, луговые – ромашки, лютики, васильки; как раз такие, которые Анна любила и которые ей сегодня подарили в живом букете. В некоторые из этих серебряных цветов были вставлены неограненные камни – синие аквамарины, зеленые хризопразы, сиреневые аметисты…
Но еще более необычное впечатление производила подставка, на которой зеркало должно было стоять на столе. Она представляла собою две женские скульптурные фигурки, тоже серебряные. Они держали зеркало и при этом сами в него заглядывали, одна с восхищенным, а другая с сердитым и даже, как показалось Анне, завистливым выражением лица – как будто оценивали того, кто будет в это зеркальце смотреться. Конечно, это была не просто ручная, а потрясающая старинная работа. Анне не приходилось видеть работы современной, в которой лица были бы так выразительны. И где только Матвей откопал такое невероятное явление?
В этом подарке как будто бы отразился весь ее мальчик – неунывающий, бесшабашный, уже от нее отдельный, и все-таки ее любящий, и как-то совсем по-взрослому нежный с нею… Анна чуть не заплакала, глядя на это зеркальце.
– Ну что ты, мам? – расстроился Матвей; наверное, она все-таки шмыгнула носом. – Совсем не нравится?
– Очень нравится, – скрывая слезы, улыбнулась она. – Просто мне грустно сознавать, что ты уже такой взрослый…
– Ну и что, что взрослый? Глянься в зеркальце – ты же все равно еще молодая, – заметил он и добавил со смешной важностью: – Все-таки от ранних детей только поначалу одни заморочки, а потом и радости тоже бывают. Ладно, мамуль, поехали, – сказал Матвей, вставая. – А то во Внуково еще пилить и пилить, к тому же пробки.
Глава 3
– У тебя что, опять новая машина? – ахнула Анна, выходя из подъезда.
– Какая же она новая? – Ребенок сделал честные глаза. – Да этому «бумеру» в обед сто лет!
– Не ври, пожалуйста, – суровым тоном возразила она. – Я, по-твоему, совсем дремучая? И не сто лет, а максимум три года, и вообще, я не о возрасте ее говорю. У тебя же неделю назад «Мерседес» был!
– Был да сплыл, – элегически промолвил Матвей. – Ничто не вечно под луной.
– И номера какие-то странные, – заметила Анна, обходя вокруг сияющего черного «БМВ».
– Не странные, а просто ростовские, – объяснил он. – Ну, мам, земеля моего депутата продавал по дешевке, а в Ростов тащиться, чтоб с учета снять, ему было влом. Я и купил по доверенности. И какая мне разница, ростовские номера или московские? Смотри, хороший какой «бумер», а летает как! С места двести идет, красавец, сейчас сама увидишь. – Он забросил в багажник чемодан и распахнул переднюю дверцу. – Прошу, мадам!
– Двести с места, пожалуйста, не надо, – сказала Анна. – И не с места тоже.
Впрочем, ехать по Малой Дмитровке со сколько-нибудь ощутимой скоростью все равно было невозможно. Времена, когда это была сравнительно тихая старинная улица, давно прошли. Теперь она в любое время дня была запружена машинами, и даже на последнем этаже дома, в котором жили Ермоловы, из-за шума невозможно было бы спать, если бы не стеклопакеты в окнах.
Меньше всего хотелось занудствовать, глядя в Матвеевы смеющиеся глаза, но следовало воспользоваться тем, что в ближайший час мальчик уж точно никуда не денется и не избежит воспитательной беседы.
– Матвей, когда ты последний раз был в университете? – тем же тоном, каким она расспрашивала про новую машину, поинтересовалась Анна.
– Ну, когда… – недовольно протянул он. – Сравнительно недавно.
– Сравнительно с чем? – не отставала она. – А недавно – это когда?
– Мамуль, ну какая тебе разница? – Матвей явно не собирался воспитываться.
– Разница мне такая, что тебя выгонят и ты останешься без диплома.
– Мам, я уже усвоил всю теорию, которой меня могли научить на этом факультете вашей альма-матер. – Он наконец перестал улыбаться, и взгляд у него стал сердитый. – Теперь я сравниваю теорию с практикой. А если мне когда-нибудь понадобится диплом, я его куплю.
– Но почему нельзя просто написать дипломную работу и закончить пятый курс? – возмутилась Анна. – Почему обязательно надо доводить до крайности? А если в самом деле выгонят? Ведь в армию заберут! – привела она самый убедительный довод.
– Не заберут. – Матвей махнул одной рукой, а другой лихо крутнул руль, поворачивая на Тверской бульвар. – Меня депутат отмажет.
– Я понимаю, о чем ты думаешь. – Анна решила донять его не мытьем, так катаньем. – Мамаша – нудная тетка, жизни настоящей не знает, в молодых делах ничего не понимает, лезет с нравоучениями, дай Бог вытерпеть! Но ведь я…
– Ничего я такого не думаю, – улыбнулся Матвей. – Я тебя, маманька, нечасто вижу, так что ты меня воспитывай, пожалуйста, хоть всю дорогу, не стесняйся. Я с удовольствием слушаю.
Анна только вздохнула. Если сын был в чем-то прав, то только в том, что, наверное, и вправду уже усвоил все, чему могли его научить на факультете госуправления МГУ. Способностей у него оказалось вполне достаточно, чтобы учиться играючи и даже вполне прилично сдавать сессии. Во всяком случае, до второго курса, после которого он объявил родителям, что будет жить отдельно, чтобы не травмировать их психику своим образом жизни.
Если бы их с Сергеем отношения складывались иначе, Анна ни за что не позволила бы мальчику начинать самостоятельную жизнь так рано. Но неизвестно еще было, кто кому травмирует психику, и она не смогла возразить… Матвей перебрался в маленькую квартирку, которую дедушка и бабушка купили «на вырост» внуку, когда продали свою, профессорскую, уезжая в Канаду. Квартирка эта находилась на Ломоносовском проспекте; Матвей уверял, что оттуда ему проще будет ходить в университет. И вот пожалуйста, этого и следовало ожидать: диплом на носу, а Анне звонит его куратор – еще спасибо этой даме, она же все-таки не классный руководитель, могла бы и не беспокоиться! – и сообщает, что сын на грани отчисления.
– Если бы я думала, что тебе это стоит хоть каких-то усилий, – вздохнула Анна, – может, я не настаивала бы. Но я же знаю, что ты можешь написать диплом за неделю! Можешь, но не хочешь сделать эту малость – ну, хотя бы только потому, что я тебя об этом прошу. Или у тебя сессия не сдана? – догадалась она.
– Не сдана, – нехотя согласился Матвей. – И не одна. Мам, только не говори, что без высшего образования жить невозможно. Сейчас невозможно жить без совсем других вещей.
Он произнес это таким уверенным тоном, что Анна растерялась. Она всегда терялась, когда вдруг посреди разговора понимала, что собеседника бесполезно убеждать в том, в чем сама она убеждена совершенно, потому что он-то как раз всей своей жизнью убежден в совершенно обратном. Но она не предполагала, что таким собеседником может оказаться не какой-нибудь посторонний человек, которого неизвестно кто и неизвестно как воспитывал, а ее единственный сын. Понятно, что ему всего двадцать два года, и понятно, что в этом возрасте половину убеждений составляют глупости, основанные на поверхностном опыте, но все же…
Она молчала, глядя, как мелькает за окном длинная громада Дома на набережной. Машина уже миновала Большой Каменный мост и неслась теперь к Ленинскому. Удивительно, но Матвей все-таки умудрялся ездить быстро даже в будничных пробках центра Москвы. Впрочем, удивляться этому не приходилось: все-таки ему было лет тринадцать, когда Сергей научил его водить «Жигули», а за то лето после первого курса, когда Матвей гонял машины из Калининграда, он стал просто асом. Анна тогда ночей не спала, представляя всякие ужасы, самым малым из которых были придорожные бандиты, но ребенок уперся как осел и ни за что не хотел бросать свое восхитительное денежное занятие. Он вообще был упрямый, с самого детства, и теперь тоже – с этим своим странным нежеланием просто взять и написать диплом…
– Не переживай, ма, – успокаивающе произнес Матвей, ловя ее взгляд в водительском зеркальце. – Ну что ты, в самом деле, ничего же у меня страшного!
«Страшного, может быть, и ничего, но все и у тебя могло быть по-другому», – подумала Анна и спросила:
– А папа знает про твои сессии?
– Знает, – пожал плечами Матвей.
– И что говорит?
– Да ничего особенного. Что я взрослый человек и в состоянии сам отвечать за свои поступки. Так ведь и я о том же! – горячо подтвердил он.
– Лучше бы… – начала было Анна, но тут же замолчала.
Какой смысл рассуждать о том, что было бы лучше, когда все есть так, как есть, и уже не сложится иначе?
– Оба-на! – вдруг воскликнул Матвей. – Так я и знал! И чего ты из Шереметьева не летишь, как все люди? Далось тебе это Внуково. Мало того что аэропорт колхозный, так еще – пожалуйста…
– Но я же не специально, – растерянно проговорила Анна. – Просто из Внукова рейс был удобный.
– Вот тебе и все удобство. – Матвей кивнул подбородком на длинную шеренгу машин, неподвижно стоящих впереди. – Не слышала, президент никуда лететь не собирался?
– Понятия не имею, – вздохнула Анна. – Меня он, во всяком случае, о своих планах не информировал.
– А он никого не информирует, – усмехнулся Матвей. – Я однажды в точно такой же пробочке два с половиной часа парился, пока он с Рублевки не выехал. И, главное, на Кольцевой дело было – ни туды, ни сюды. Говорят, дамочку какую-то муж в роддом вез, так самому пришлось роды прямо в машине принимать. Ладно! – вдруг решительно произнес он. – Тут, слава Богу, не Кольцевая!
Матвей резко вырулил на пустую встречную полосу и понесся вдоль вереницы стоящих машин. Анна даже зажмурилась на мгновенье – представила, что сейчас им навстречу выскочит милиция или, того хуже, какая-нибудь, в самом деле, президентская охрана… И что тогда будет?
Но навстречу им никто пока не выскакивал. Они все мчались и мчались вдоль пробки, растянувшейся по всему Ленинскому проспекту, а встречная полоса по-прежнему была пуста – Анне казалось, что как-то зловеще пуста.
Матвею, правда, так не казалось.
– Нет, не президент, – уверенно заявил он, подмигивая своей растерянной маме. – А то б в нас уже стреляли. – И тут же завопил, предупреждая ее испуганный возглас: – Я шучу, шучу! Не бойся, мам, это так, мелкая шушера какая-нибудь в свое Внуково едет. Летит небось в Эмираты пузо греть, и как же без понтов? Ага, вот и граждане начальники. Погоди, я сейчас.
Он остановился, выскочил из машины и быстро пошел вперед – туда, где виднелся ряд милицейских мигалок.
Анна тоже вышла из машины, не зная – может быть, надо пойти за ним? Вдруг он начнет скандалить, влезет в какие-нибудь неприятности?
Но уже через пять минут она увидела, что сын бежит обратно и на ходу машет ей, чтобы садилась в машину.
– Я же говорил, мелкая шушера, – удовлетворенно заявил он, хлопая дверцей и срываясь с места – и вправду, показалось, что сразу со скоростью в двести километров. – А не обманул меня депутат, ксиву сделал крутую.
– Все-таки это так неправильно… – медленно проговорила Анна.
– Что неправильно? – удивился Матвей.
– Да вот то, что ты – обычный мальчик, которому хочется похвастаться, пусть и перед мамой, – запросто проезжаешь там, где взрослые люди проехать не могут. А они, может быть, опоздают на самолет, у них, может быть, все планы из-за этого нарушатся…
– Что поделаешь, так мир устроен! – засмеялся Матвей.