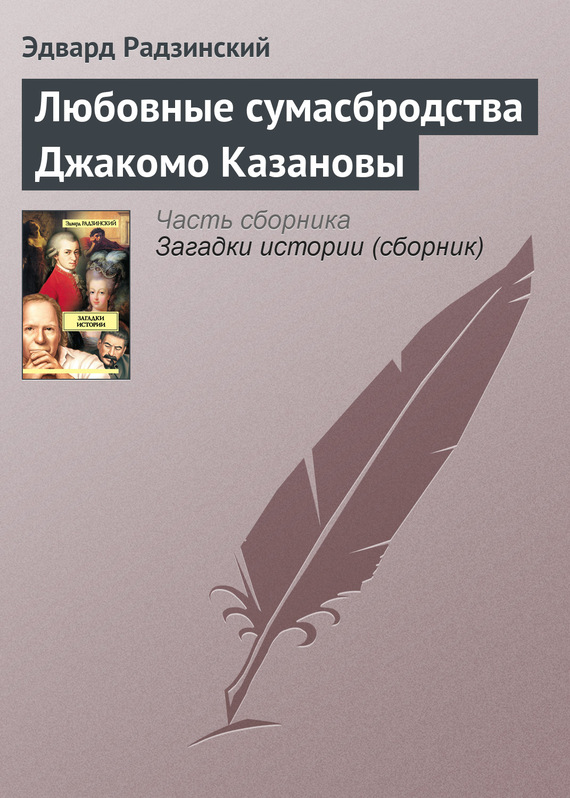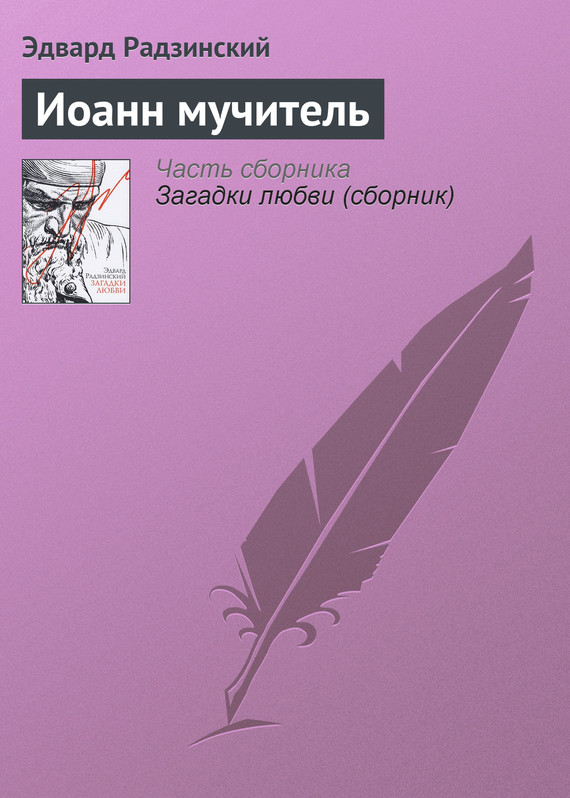Я возьму сам Олди Генри

До каких я великих высот возношусь
И кого из владык я теперь устрашусь,
Если все на земле, если все в небесах –
Все, что создал Аллах и не создал Аллах,
Для моих устремлений – ничтожней, бедней,
Чем любой волосок на макушке моей!
Абу-т-Тайиб аль-Мутанабби
Есть такие призраки, что приходят между явью и сном.
«Ну что это за свинство?! – хрипло бормочешь ты, натягивая одеяло на голову. – Просто безобразие! Эй вы там – я вас что, для этого выдумывал? Для этого, да?! А ну живо, кыш отсюда!»
Шаги. Скрипят половицы, чужое дыхание перышком касается щеки, щекотно, щекотно… у дальней стены тихо смеются. Хрустальные колокольцы откликаются щемящим вздохам сквозняка; ты пинаешь ногой наугад, промахиваешься и обнимаешь подушку истово, как обнимают желаннейшую из женщин.
На кухне звякает посуда.
Пахнет чаем: крутым, свежезаваренным… чаем пахнет.
– Призываю в свидетели чернила, – бормочешь ты, не ведая, что творишь, – и перо, и написанное пером! Эй, свидетели: я сейчас встану, и никому мало не покажется! Вы слышите… вы… слышите…
Есть такие места, куда попадаешь между сном и сном.
Песок струится меж пальцами, уходя в песок; желтые крошки бытия, и белые крошки бытия, а еще, говорят, бывают черные, красные… Стойте! Куда вы?! В горсти вода – те хрустальные колокольцы, что совсем недавно заигрывали со сквозняками, обрываются крупными каплями, и остается лишь вытереть мокрой ладонью лоб.
«Ну что это за свинство?! – Ты идешь по берегу реки, ругаясь в такт шагам всеми бранными словами, которые успело выдумать человечество за века существования; и еще добрым десятком слов, человечеству неизвестных. – Эй вы там – дадите мне выспаться, в конце концов, или нет?! На кой я выдумывал эту речку, и эту пустыню, и эти горы (что, уже горы?! м-мать!..)?! Для чьей забавы: моей или вашей?! Вот сейчас проснусь – и всех к ногтю… всех… к ногтю…»
Ветер смеется в лицо, мелкий щебень норовит забиться в башмаки, сосны на взгорье текут смолистым ароматом, и вместо одеяла остается лишь натянуть на голову серую пелену дождя.
Шаги.
За спиной.
Ты оборачиваешься: никого.
Одни шаги.
– Призываю в свидетели серые сумерки, и ночь, и все то, что она оживляет, – бормочешь ты, лишь бы заглушить проклятые шаги, лишь бы не слышать этого шарканья стертых подошв. – Призываю в свидетели месяц, когда он нарождается, и зарю, когда она начинает алеть… призываю! Эй, свидетели: имейте в виду, в следующий раз я напьюсь до того волшебного состояния, когда сны шарахаются от перегара на сто поприщ! Имейте… в виду…
Есть такие слова, что начинают звучать между сном и явью.
Безумие воцаряется кругом: лепет младенца, крик страсти, вопль влюбленного ишака, старческое бормотанье, гнусаво пришепетывает мелкий плут, взахлеб плачет женщина, выталкивая из себя комки отчаянья. «Да чтоб вас всех! – надрываешься ты, не слыша собственного голоса, ощущая лишь боль, жгучую боль в горле. – Заткнитесь! Онемейте! Клянусь: всем языки вырву!.. всем… всем…»
Слова испуганно разбегаются, чтобы из углов тыкать в тебя пальцами.
– Призываю в свидетели день Страшного Суда и укоряющую себя душу. – Остается лишь воздеть руки к потолку, прекрасно понимая всю бесполезность жеста. – Призываю в свидетели время, начало и конец всего, ибо воистину…
– Ибо воистину человек всегда оказывается в убытке, – отвечают они, уходя.
Призраки, места, слова…
– Всегда? – спрашиваешь ты у них.
– Нет, правда? – спрашиваешь ты у них.
– Постойте! – И они останавливаются на пороге.
Есть такая жизнь, что начинается между явью и явью.
Книга первая
Фарр-ла-Кабир
Во имя Творца, Единого, Безначального, да пребудет его милость над нами! И пал Кабир белостенный, и воссел на завоеванный престол вождь племен с предгорий Сафед-Кух, неистовый и мятежный Абу-т-Тайиб Абу-Салим аль-Мутанабби, чей чанг в редкие часы мира звенел, подобно мечу, а меч в годину битв пел громко и радостно, слагая песню смерти…
- То, что гнало его в поход,
- Вперед, как лошадь – плеть,
- То, что гнало его в поход,
- Искать огонь и смерть,
- И сеять гибель каждый раз,
- Топтать чужой посев –
- То было что-то выше нас,
- То было выше всех.
Касыда о ночной грозе
- О гроза, гроза ночная, ты душе – блаженство рая,
- Дашь ли вспыхнуть, умирая, догорающей свечой,
- Дашь ли быть самим собою, дарованьем и мольбою,
- Скромностью и похвальбою, жертвою и палачом?
- Не встававший на колени – стану ль ждать чужих молений?
- Не прощавший оскорблений – буду ль гордыми прощен?!
- Тот, в чьем сердце – ад пустыни, в море бедствий не остынет,
- Раскаленная гордыня служит сильному плащом.
- Я любовью чернооких, упоеньем битв жестоких,
- Солнцем, вставшим на востоке, безнадежно обольщен.
- Только мне – влюбленный шепот, только мне – далекий топот,
- Уходящей жизни опыт – только мне. Кому ж еще?!
- Пусть враги стенают, ибо от Багдада до Магриба
- Петь душе Абу-т-Тайиба, препоясанной мечом!
Глава первая,
где излагаются сожаления по поводу ушедшей молодости, слышится топот копыт и бряцанье клинков, воспеваются красавицы и проклинаются певцы, но даже единым словом не упоминается о том, что всякому правоверному в раю будет дано для сожительства ровно семьдесят две гурии, и это так же верно, как ваши сомнения относительно сего
1
Рыжая кобылица зари, плеща гривой, стремительно неслась в небо. Словно хотела пробить первый свод, как следует тряхнув подвешенные на золотых цепях звезды, и ворваться туда, где ангелы в воплощении животных предстоят перед Всевышним за разных зверей. Туда, где бродит одиноко белоснежный петух, чей гребень касается опор неба второго – хоть пятьсот лет пути разделяет небеса! – и про которого сказано: «Есть три голоса, к коим Аллах всегда преклоняет свой слух: голос чтеца Корана, голос молящего о прощении и кукареканье сего петуха». Ибо все твари земные просыпаются от его пенья (кроме человека), а прочие кочеты поют «аллилуйя» тем же тоном, что и белый гигант.
Говорят, в преддверии Судного Дня смолкнет великий провозвестник зари, сложит крылья и нахохлится, а следом за ним онемеют все петухи земли; и это будет знаком скорого конца мира.
Несись, рыжая, тешь себя несбыточными надеждами, пока есть еще время, пластайся в яростной скачке над минаретами Басры и Куфы, дворцами аль-Андалуса и острова Вахат, садами Исфахана и Хуросона – гони!..
…Человек у ночного костра невесело ухмыльнулся. Поворошил угли палкой с завитком на конце, похожим на вытянутую букву вав, и в ответ иные буквы зарделись, заплясали в очнувшемся пламени – алиф, мим, нун, син, каф… ты, гроза, гроза ночная… Заревая кобылица пока что существовала лишь в воображении человека, до бега ее оставалось не меньше трех часов, а реальность была совсем иной: костер, который пришлось разводить заново, ежеминутно поминая шайтана над сырыми дровами. Гроза промочила одежду до нитки, бурнус пришлось дважды выкручивать, и в итоге сухими остались лишь нижние шаровары из кожи, пропитанной овечьим жиром, да еще упрятанный на дно запасного вьюка уккаль – головной убор бедуинов.
Полотнище ткани и витой шнур, удерживающий покрывало на голове.
Человек еще раз усмехнулся. Уккаль подарили ему те, кто сейчас рыскал по пустыне в надежде залить пожар ненависти кровью беглеца. Смешная штука – жизнь. Все прекрасно знают, куда влечет нас течение, и тем не менее каждый надеется, что именно его забросит в иное русло. Вчера ты грел зад на атласных подушках, а черноглазая гурия несла тебе чашу шербета или запретный плод виноградных лоз, сегодня тебя ждет дырявый ковер, вытканный еще во времена Яджуджа и Маджуджа, и вместо гурии с чашей ты вынужден довольствоваться старухой-фазариткой со щербатой плошкой, где плещется верблюжье молоко. Но пройдет день или час, и явление ангела смерти Азраила, чьи ужасные глаза отстоят друг от друга на семьдесят тысяч дневных переходов, заставит добрым словом помянуть щедрую дочь Бену Фазар – и что с того, что ее предки после смерти пророка (да благословит его Аллах и приветствует!) отпали от истинной веры, возвратясь к племенному идолу Халлялю?! Только что твой рот набивали жемчугами, превращая каждое сказанное тобой слово в блестящую бусину, но вот уже твой сладкоречивый рот, твою сокровищницу, готовы доверху набить собачьим дерьмом, ибо сказал не то, чего ждали, и не так, как ждали! Старый мерин, кричат они вслед, крепость паскудства, дитя вони и слепоты… ты хватаешься за меч, но они разбегаются, гнушаясь честным боем, и ты остаешься один на один с обидой.
Стрелы поношений, оперенные наилучшими сравнениями, с наконечниками из самых изысканных рифм от Йемена до Моря Мрака, где плавают наводящие страх глыбы льда, падают в пустоту, не найдя цели – о, они убегают, а «старый мерин» и без рифм звучит громче и противней ослиного рева…
Как же ты был прав, еретик и скряга Абу-ль-Атахия, чье прозвище-кунья означает «Отец Безумия», умерший за девяносто лет до моего рождения, непревзойденный мастер жанра «зухдийят» – стихов о бренности жизни:
- Вернись обратно, молодость!
- Зову, горюю, плачу,
- свои седые волосы
- подкрашиваю, прячу,
- как дерево осеннее
- стою, дрожу под ветром,
- оплакиваю прошлое,
- впустую годы трачу.
- Приди хоть в гости, молодость!
- Меня и не узнаешь,
- седого, упустившего
- последнюю удачу.
Человек собрался было усмехнуться в третий раз, но раздумал.
И правильно, в общем, поступил.
Улыбка давно не красила его, лишенного изрядной части зубов, и среди них – двух передних. Их выбил тупым концом копья один ревнитель чести из племени Бену Кельб, столь же горячий, сколь и опрометчивый. Ведь если его сирийские прадеды действительно придерживались веры креста до того, как обратить свой слух к воззваниям пророка (да благословит его Аллах и приветствует!), то почему об этом нельзя сказать вслух?! Сказать ясно и просто, не рискуя лишиться передних зубов и поссориться затем со всеми кельбитами – о нет, не из-за их прошлого, но из-за безвременной гибели пылкого соплеменника! Ведь если не вовремя высказанная правда стоит славного удара, то заплатить ударом за удар вдвойне достойно! Возгласил же пророк Иса: «Не мир я вам принес, но меч!», и спустя шесть веков с лишним Мухаммад, последний из пророков, повторил при многих свидетелях: «Меч есть ключ к небу и аду».
Да, меч… Человек посмотрел на свою левую руку, до сих пор сжимавшую палку с завитком в виде буквы вав. Вместо безымянного пальца красовалась уродливая культяпка, а на среднем не хватало одной фаланги. Впрочем, палец не голова, а шрамы украшают мужчину. Вон, на шее, и еще на скуле, и еще под ключицей. Драгоценности, не рубцы! Сокровища. Так говорят сами обладатели шрамов, но с ними редко соглашаются стройные газели тринадцати лет от роду, предпочитая изрубленным ветеранам пухлощеких юношей с усиками чернее амбры. Вот ветеранам и приходится брать газелей силой, утешая себя глупыми пословицами. Пятьдесят лет – плохой возраст для костров под ночными ливнями, особенно в тех краях, где впустую потраченная капля воды воспринимается как личное оскорбление. Давно, давно пора было остепениться, осесть где-нибудь… да хоть в том же Дар-ас-Саламе! Осесть, купить дом, восхвалять халифа и ближних его, подставляя открытый рот за жемчугом или динарами, поносить скупых, вышибая подачки острословием, вести беседы с закадычным другом, прожорливым неряхой Абу-ль-Фараджем Исфаханским, в надежде попасть в «Книгу песен» последнего, наконец, бросить воспевать дев и битвы, вспомнив о бренности тела и вечности души…
Увы, человек никогда не считал себя мастером жанра «зухдийят». Душа не лежала. Собственно, желание освоить этот жанр (вопреки велению сердца, зато по настоянию плешивых умников) и погнало его сперва на Шамийские равнины, а потом сюда, в пустыни Аравии, или, как говаривали персы, Степь Копьеносцев. Где, если не здесь, сохранился неиспорченный язык бедуинов, язык Корана и поэтов «джахилийи»?! – тех времен, когда неистовый Мухаммад еще не родился, чтобы принести верующим слово истины.
Язык восхвалений и поношений, язык правды, язык открытого сердца.
Человек боялся признаться самому себе, что дело не только в этом. Перекати-поле – вот кто он такой. Просто Аллах спросонья моргнул невпопад, и некий младенец в глухом селении близ Куфы родился намного позже правильного срока. Лет эдак на четыреста. Или на пятьсот. Пусть прикусят языки те, кто зовет сии благословенные дни прошлого Эрой Невежества, пусть прикусят до крови, или нет! – пусть лучше вспомнят, чьи семь касыд, где каждое слово благоуханней мускуса, были подвешены к стенам святой Каабы! Пусть вспомнят грозного Имру уль-Кайса, прозванного Скитающимся Царем, пусть их устрашит видение чернокожего Антары, Отца Воителей, пусть остальные пятеро великих поэтов-бойцов Эры Невежества на миг скинут погребальные покровы и явятся к хулителям из скрежета зубовного или райского блаженства, где бы они сейчас ни были! Вот когда надо было рождаться, вот с кем надо было ехать бок о бок в походе и набеге, вот с кем стоило состязаться в красноречии и остроте копья…
Где Медный город и Долина гулей, талисманы ифритов и летающие кувшины колдунов, где поединки храбрецов и красавицы-пери, смущающие сердце и похищающие рассудок… и наконец – откуда под горбатым небосводом такое обилие серой слякоти, лишь по недоразумению судьбы именующейся сынами Адама?!
Аллах, куда ты смотришь?!
Человек вздохнул и поднял голову. Умытое грозой небо отливало у горизонта лиловым, и падающие звезды расчерчивали его вдоль и поперек, превращая в драгоценную кашмирскую парчу. Сегодня была ночь правоверных джиннов, сегодня духи, созданные из чистого огня, старались украдкой заглянуть в горние сферы, а ангелы швырялись в дерзких соглядатаев метеорами, отпугивая от запретного зрелища. Видимо, какой-то из вождей джиннов в дерзости своей сунулся дальше обычного – ослепительная молния заставила светильники небес поблекнуть, а вместо грома донеслось рычание Ангела Мести и перезвон раскаленных цепей, грудой сваленных у подножия его престола. Свод над головой затопило овечьим молоком, потом осыпало пеплом и ржавчиной, но джинны отпрянули, рык стих, и лишь холодный порыв ветра налетел с запада.
Будто вздох бездонной пропасти.
Крохотный оазис, давший приют беглецу, вздрогнул до основания, испуганно плеснула влага в водоеме, обнесенном каменными плитами, и колючие акации зашептались, затрясли в испуге ветвями, роняя редкие капли.
Тишина.
Лишь храпят недовольно две лошади: низкорослая тихамитка, чья доля – тяжесть вьюков, и тонконогая кобылица с белым пятном во лбу, напоминавшим звезду Сухейль.
– Наама! – еле слышно позвал человек.
Кобылица встрепенулась, зафыркала, и человек помахал ей рукой. Левой, искалеченной, которая до сих пор сжимала палку с завитком в виде буквы вав. Он сам дал кобылице, гордости джизакских табунов, это имя – Наама. В честь страуса-бегуна, чьи ноги способны мерить пески так же споро, как купец меряет дареный тюк шелка; и еще в честь знаменитой кобылицы прошлого, из-за которой вожди племен спорили долго и обильно, заливая кровью окрестные земли.
Пора было собираться в путь.
Пора было сунуть голову в пасть льва.
Рыжая кобылица зари, плеща гривой, стремительно неслась в небо. «Наама!» – позвал кто-то снизу. Заря не обернулась, как не оборачивалась и раньше, в славные времена джахилийи, времена поэтов, бойцов и безбожников, о которых тосковал ночью человек у костра.
Аль-Мутанабби Абу-т-Тайиб Ахмед ибн аль-Хусейн из племени Бану Джуф.
Что значит на языке Степи Копьеносцев, языке остром, как меч, и «звонком», как меч: Выдающий-Себя-За-Пророка, Отец Всадников рода Тай, Ахмед, сын аль-Хусейна из южных арабов, рожденный близ благословенной Куфы.
А на земле полновластно царил 354-й год со времени «Бегства пророка», или 965-й год от рождения пророка Исы, как привыкли считать люди креста.
2
«С детства ненавижу удачливых», – подумалось Абу-т-Тайибу, когда из-за дальнего бархана вывернул такой же одинокий, как и он сам, всадник; и клич радости огласил пески.
Поэт в досаде забыл добавить: «Но удача еще никому не мешала», – ибо клич вполне мог оказаться куда более многоголосым, а встретить одного преследователя, несомненно, лучше, чем дюжину ему подобных.
Будем спорить?
Не узнать всадника пристало лишь слепому: даже самый щеголеватый из бедуинов не станет скакать по пустыне, вырядившись женихом. Кроме разве что жениха. Того самого жениха из маленького, но гордого племени Бену Кахтан, куда Абу-т-Тайиба позавчера чуть ли не силком затащили на свадьбу. Шейхам племени было лестно присутствие на празднике знаменитого поэта, а самым ретивым охота была проверить: сможет ли похититель столичных сердец привести в восхищение привередливых детей пустыни?
– Мадх! – закричали кахтаниты хором, после того как обильные дары были разложены перед гостем. – Хвалебный мадх в честь невесты!
А одноглазый крепыш, слывший меж соплеменниками знатоком прекрасного, добавил с ехидной усмешечкой:
– Хвалебный мадх с «серой» рифмой, как однажды пел Ибрахим Счастливец перед повелителем правоверных, мир им обоим!
Абу-т-Тайиб поднялся, не коснувшись руками ковра, с достоинством поклонился собравшимся и начал, аккомпанируя себе на чьей-то изрядно расстроенной лютне:
- Ты горбата и зобата, и меня гнетет забота:
- Если будешь ты забыта – не моя вина, красавица!
- Ты бежишь быстрее лани, ты бредешь, пуская слюни,
- Предо мною на колени скоро встанешь ты, красавица!
- О, бока твои отвесны, и соски твои отвислы,
- Убежать смогу от вас ли, если…
В упоении «серым» мадхом, чья импровизация требовала от сочинителя всего напряжения душевных сил, Абу-т-Тайиб позорно упустил из виду, что шумные знатоки далеко не всегда являются знатоками истинными, и заказчик может быть подталкиваем скорее гонором, нежели знанием тонкостей. Ни одноглазый, ни его соплеменники, как вскоре выяснилось, и понятия не имели о правилах стихосложения. Знай они заранее, что славное восхваление Ибрахима Счастливца начиналось с описания собачьей подстилки с целью дальнейшего противопоставления ей дворца повелителя правоверных… О, тогда бы они, разумеется, дослушали бы мадх до конца и поняли всем сердцем: их гость намеренно начал с описания верблюдицы, на которой доставили невесту к шатрам жениха, дабы оттенить сим сравнением всю прелесть девушки! Поняли бы, и не стали гневаться, и подарили бы певцу вышеупомянутую верблюдицу вместо того, чтобы ворчать и рычать яростными львами, размахивать мечами и потрясать копьями, швыряться камнями и гоняться за оскорбителем по всей пустыне, обещая сунуть его раздвоенный язык в места много худшие, нежели блюдо с мясом в уксусе!
Ах, и впрямь опасно рассыпать жемчуг перед хрюкающими!
Плащ закона гостеприимства спас Абу-т-Тайиба от немедленной расправы, но едва истек второй час после его бегства, как кахтаниты дружно ринулись в погоню. Впрочем, сперва неудача в поисках, а затем ночная гроза поохладила горячие головы (или кто-то из шейхов вспомнил-таки основы стихосложения, за что хвала создателю миров!) – короче, лишь оскорбленный жених продолжил рыскать меж барханами и оазисами, кусая губы.
Докусался, везунчик.
Догнал.
– О встреча, не позволившая моей желчи разлиться бурным потоком! – заорал бедуин еще издалека, и кобылица Наама злобно откликнулась на ржание бедуинского жеребца. – О старик, чей вид скверен, образ мерзок, а запах отвратителен! Любуйся мною, ибо пробил твой час!
Абу-т-Тайиб вздохнул и понял, что юноша в детстве пересидел у пастушьих костров, слушая «Рассказы о подвигах племени ал-Хиллял».
Но, так или иначе, начало требовало продолжения.
– Ты подробно описал мне своего благородного отца, о пылкий жених! – привстав на стременах, крикнул поэт, пытаясь не усложнять поношений лишними сравнениями и образами – для вящего понимания. – Ты лишь забыл добавить, что он в старости делает воздух мрачным и пространство от вони непрозрачным! Давай же теперь вспомним твою славную мать! Правда ли, что, когда она хотела золотой динар, ей давали медный фельс, а когда она просила фельс, то получала рубленый даник? И правда ли то, что когда она просила сына, то получала безродного ублюдка вроде тебя?!
После этого бедуин вместо острых слов швырнул в оскорбителя копьем, а оскорбитель, уворачиваясь, понял раз и навсегда: жанр «зухдийят», воспевающий добродетель и осуждающий мирскую тщету, воистину недоступен для бедного поэта.
Как райские сады недоступны для хулителей веры, как чалма недоступна для безголового, как…
Вскоре досужие мысли улетучились сами собой, а жеребец араба и тонконогая Наама сшиблись, стараясь вцепиться друг другу в шею.
Легко и весело рубился жених, пьянея от самого опасного в мире хмеля, вкладывая в удары всю нерастраченную юность, весь пыл, которому следовало бы выплеснуться в невестиной палатке – во имя рождения новой жизни, а не для истребления старой. Бой должен был стать коротким, коротким и ярким, ибо ждать – сердце плавить, а кровь обидчика слаще воды источника Земзем, даруя если не бессмертие, то непреходящую славу. Увы, кривой машрафийский меч старика, изготовленный славными оружейниками Йемена, оказался существенно длинней и тяжелее, чем звонкая жениховская альфанга, а сам старик-сквернослов – существенно упрямей и опытней в поединках храбрецов, чем показалось юноше с первого взгляда. Змеи клинков плели в воздухе чудную вязь, рассыпая искры-чешуйки, немела рука бедуина, запаздывая выполнять приказы хозяина, и вот уже ядовитый поцелуй залил бедро алым ручьем, и еще, и снова, а проклятая кобыла вертелась вьюном, словно крылатая аль-Борак, что доставила пророка к престолу Аллаха; и еще, и снова… и мнилось, поет небо над головой: «Разящие рифмы в пыли загремят, обученные сражаться – от этих стихов головам врагов на шеях не удержаться!..»
Нет, Абу-т-Тайиб не хотел убивать глупого мальчишку. И жалость была тут совершенно ни при чем. Мало чести, а душа потом воет на луну тоскливым воем, саднит застарелой язвой, словно и не душа она вовсе, и являются из ниоткуда призраки с тусклыми бельмами, сидят рядом до самого утра, безмолвно вопрошая убийцу:
– Зачем? Пусть его, отлежится, опомнится, свои подберут, невеста выходит… Е рабб, в смысле «Боже мой»! Что ж ты делаешь, безумец?!
В самый последний момент жених вдруг застыл в седле каменным изваянием, рисованным красавцем-идолом, запретным для истинно верующих; изрядно выщербленная боем альфанга остановилась на полувзмахе – и клинок Абу-т-Тайиба не удержал разбега. Когда голова жениха отделялась от шеи, умирающие глаза все еще смотрели куда-то за спину поэта, смотрели пристально, испуганно, будто увидев рогатого ифрита или святого бродягу Хызра; но кто в наши времена поддается на дешевые уловки? Поэт благоразумно дождался, пока безглавое тело упадет в песок, и лишь потом обернулся, заранее зная, что не увидит ничего особенного.
Он и не увидел ничего.
На пустыню рушился самум.
Непроглядная чернота задрала подол небу, и насилие свершилось.
3
«Кто я… о-о-о, скажите мне, кто я?!»
«Выдающий-Себя-За-Пророка, Отец Всадников рода Тай; маленький Ахмед, глупый сын аль-Хусейна, ветвь от пальмы гордых арабов юга…»
«Где я?! Где я, Абу-т-Тайиб аль-Мутанабби?!»
Нет ответа.
Лишь хихикает меленько насмешник-невидимка: «В преддверии ада, дружище, – а хуже места и не сыскать, хоть век ищи!»
Тьма обступает, морочит, приникает постылой женою, на зубах хрустит песок, а где-то неподалеку капли воды долбят темя вечности: алиф, мим, нун, син, каф… ты, гроза, гроза ночная…
Капли?
Воды?!
Встать на ноги труднее, чем пешком дойти до легендарной горы Каф, и поначалу приходится двигаться на четвереньках, по-собачьи, в кровь обдирая колени, а потом уже, когда боль становится обжигающим кнутом, рывком подымать себя и, выплевывая хриплый стон, тащиться в темноту, невозможную, небывалую темноту, где пахнет сыростью, а капли не смолкают, бубнят речитативом: алиф, мим…
Надо было идти.
Глава вторая,
которая есть наилучшая в нашем повествовании, ибо здесь говорится о безвременной кончине владык и трудностях, связанных с наследованием трона, о моргающих глазах мира и долинах гулей-людоедов, но даже краешком не приоткрывается завеса над тайной древнего храма Сарта-Ожидающего, да сохранит его Аллах и приветствует!
1
Суришар с ленивым интересом наблюдал за приготовлениями жрецов-хирбедов, вызвавшихся служить проводниками. Перевал как перевал, родной брат предыдущего и двоюродный того, что они миновали три дня назад – морщинистые, изъязвленные ветрами скалы, сквозь которые упрямо ползет змея горной тропы, накручивая кольца: вверх-вниз, вверх-вниз…
В общем, будущий шах совершенно не понимал: зачем хирбедам понадобилось останавливаться именно здесь и с головой погружаться в таинства явно бессмысленного обряда? Подготовка затягивалась на шее удавкой палача, грозя если не смертью, то смертельной скукой; и вскоре ожидание вдоль и поперек изгрызло печень нетерпеливому Суришару. Даже учитывая, что сейчас его взгляд настойчиво ласкал молоденькую жрицу Нахид. Увы! – будь сей взгляд стократ пламенней, и то остыл бы, расплескавшись по ледяной броне невозмутимости прекрасной хирбеди. Девушка была всецело поглощена разведением ритуального огня на жаровенке-алтаре, установленной поперек дороги, и не обращала на наследника престола никакого внимания.
Впрочем, точно так же она вела себя и в течение всего пути, чем дальше, тем больше раздражая молодого человека. Суришар ценил себя весьма высоко, и не без оснований: знатен, юн, красив, остроумен… что еще? Стихи – как из рога изобилия! Вот, к примеру:
- Прости, красавица, и не вини поэта,
- Что он любовь твою подробно описал!
- Пусть то, о чем писал, не испытал он сам –
- Поверь, он мысленно присутствовал при этом!
Ну?! Где славословия?! Где восторги равных и пресмыкание низших?! Все нам по плечу, хоть слово, хоть меч… кстати, о мечах! На ристалище или на скачках приз получить – и тут он один из первых в столице! Отвага? Презрение к опасности? Ха! Кто еще из возможных наследников решился на Испытание, вышел на дорогу, которую должен пройти будущий владыка Кабира? Да никто, кроме него! И быть ему вскорости шахом, а эти унылолицые пусть прозябают…
Женщины от таких молодцов должны быть без ума. И были без ума. И будут. За исключением Нахид-хирбеди. Разумеется, подобное равнодушие «небоглазой» жрицы (а ведь действительно: глаза у девицы – голубые и пронзительные, как небо в горах!) выводило будущего шаха из себя. Тем более что обета безбрачия жрицы не давали. Сыщется достойный жених – и ладно… а сказок про блудливых хирбеди хоть пруд пруди!
«Ничего, дай срок, гордячка! Вот сяду на престол – возьму в жены. Или лучше в наложницы. Шаху не отказывают, – злорадно думал юноша, лаская яростным взглядом по-звериному изогнувшуюся фигурку жрицы, что припала к алтарю. – А мольбы Огню Небесному пусть плешивые мудрецы возносят!.. кто на них, кроме Огня, позарится?» – Он покосился на хирбеда, бродившего вокруг Нахид и алтаря с невнятным бормотанием.
Вот этот жрец был правильный: долговязый старец, отменно седой и морщинистый, в плаще шафранового цвета, надетом по случаю обряда поверх изрядно сношенной рясы. Общую благообразность слегка портила бородавка на верхней губе – раздвинув усы, проклятая нагло вылезала, подставляя бока для всеобщего обозрения и топырясь тремя иссиня-черными волосками, росшими из нее…
Словно почувствовав взгляд Суришара, старец вдруг остановился, коротко взглянул на шах-заде, но ничего не сказал и продолжил свое бесконечное хождение по кругу.
Седой хирбед тоже был «небоглазым», только в его запавших глазницах плескалась не безумная горная синь, а блеклое небо пустыни.
«Так, наверное, и должно быть», – невпопад подумалось шах-заде, и он сам удивился такому странному итогу.
Огонь мало-помалу разгорался, обратив слух, наконец, к уговорам молодой хирбеди, старец без устали наворачивал круг за кругом, бормоча себе под нос свое «хирам, хирам, кирам, пирам» – молитвы? заклинания? просто какую-то ерунду? – и Суришару уже начало казаться, что так было всегда, от сотворения мира, и они торчат на этом перевале уже целую вечность, и будут торчать еще вечность, до скончания времен, и хирам, и пирам, и еще кирам…
– Вставай, шах-заде. Можно ехать.
– А до этого нельзя было? – не удержался Суришар, стряхивая оцепенение и с трудом поднимаясь на ноги.
В колени словно песка насыпали.
– Можно. Но не нужно. И прошу тебя: держись строго между нами.
Юноша презрительно фыркнул, подражая собственному жеребцу, но спорить не стал: как раз в этом месте тропа была достаточно широкой, чтобы по ней бок о бок могли проехать трое конных. Раз жрец говорит «надо» – значит, надо. Вот только – зачем? Спросить? Суришар ловко вскочил в седло, подбоченился и с некоторым удивлением обнаружил, что и старик, и девушка опередили его. Святые покровители! – оба сидят верхом. А вся поклажа собрана и приторочена к седлам. И когда успели? Сон его сморил, что ли?..
Что-то здесь было не так. Несуразица комом стояла в горле, насмехалась шорохом малой осыпи, горькой оскоминой плыла в воздухе, от которой хотелось закричать во все горло… а тут еще хирбед с хирбеди буквально зажали его коня с двух сторон своими лошадьми. Шах-заде вновь помянул святых покровителей и машинально проверил: легко ли выходит из ножен сабля? Мало ли. Хотя в такой тесноте и не развернешься для хорошего удара…
– Драться не придется, шах-заде, – в холоде голоса Нахид явственно сквозила легкая насмешка. – Оставь саблю в покое и всего лишь держись между нами. В этом месте очень легко заблудиться.
«Да за кого она меня держит, эта гордячка?!» Однако вслух юноша ничего не сказал: пререкаться с женщиной, пусть даже трижды «небоглазой» – ниже достоинства наследника шахского рода!
Тем паче заблудиться на одной-разъединственной тропе в горах, при полном отсутствии развилок… ладно, промолчим!
Старец сухо щелкнул пальцами, будто уличный лицедей-мутриб – кастаньетами, и кони, как если бы только этого и ждали, шагом тронулись с места. Они шли голова в голову, мерно бряцая серебром уздечек, будто на время превратились в единое существо, и Суришар невольно задумался: а что еще может этот немногословный старик с лающим именем Гургин?
Кроме как бормотать и пальцами щелкать…
В следующее мгновение мир вокруг мигнул. Другое слово подобрать было трудно, да и не стоило его подбирать, это слово, ни другое, ни третье, как не нужно пальцами сбрасывать набежавшую слезу – веки сошлись, разошлись, словно встретились века, дрогнув ресницами-днями; миг сменился мигом, и вот – жизнь вроде бы прежняя, но без слезы, застившей взор.
И без соринки, что вызвала слезу.
Шах-заде ошарашенно заморгал в ответ, затряс головой, не веря своим глазам. Те же горы, то же небо – вот только внизу, в долине, что открылась по правую руку от путников, возник город! Суришар готов был поклясться: до того, как миру вздумалось мигать, никакого города внизу не было! Да и долины не было. Или все-таки была?..
Лишь сейчас он заметил, что кони уже не держат строй, тропа распухла от сознания собственной значимости, превратившись в довольно торную дорогу, а ладонь самого Суришара крайне глупо закаменела на сабельной рукояти.
– Не беспокойся, шах-заде, – буднично сообщил Гургин, почесывая бородавку. – Осталось совсем немного. К вечеру доберемся до места.
Прозрачное небо опрокинулось само в себя, плотно облегая тропу и всадников на ней; пестрая крупинка ястреба металась в голубизне, оглашая простор хриплым клекотом, и мелкие камни переговаривались друг с другом под копытами.
У наследника престола было много вопросов к проводникам, но юноша прикусил язык: стыдно уподобляться молокососу-несмышленышу, донимающему взрослых глупой болтовней. Поэтому Суришар осведомился лишь с показным безразличием:
– Что это за город, Гургин? Харза? Кимена? Медный город?
Последнее Суришар добавил с явной подковыркой: в Медный город попадали исключительно доблестные витязи, исключительно при помощи колдунов с бородавками где ни попадя и исключительно в сопровождении прекрасных девиц.
Гургин кивнул с абсолютным равнодушием.
– Проницательность шах-заде не имеет пределов. Это именно Медный город. Впрочем, на самом деле он медный не более, чем любой другой. И названия у него нет.
– Как это – нет? – опешил юноша. – Но ведь хотя бы его жители как-то называют свою родину?
– Называют, – во второй раз кивнул хирбед. – Просто Город. Город – и все.
2
Наследник престола честно сдерживался почти час. Потом его прорвало, и сквозь разрушенную плотину выдержки и напускного безразличия хлынул мутный поток вопросов.
– Мы заедем в Медный город, Гургин?
– Заедем, шах-заде. Или не заедем. Если да – то на обратном пути. Если нет – то тоже на обратном. Сначала ты должен пройти Испытание.
– А что это вообще за горы? Ты бывал здесь?
– Бывал. И Нахид бывала. А кличут их по-разному. – Суришар обратил внимание, что после странного перевала старик стал куда более разговорчивым. – Жители Города вообще лишних имен не любят. Просто – горы. Других-то все равно поблизости нет. Местные горцы… ну, тут история особая. Для них гор просто так не бывает, для них горы – это весь мир, а мир целиком и без названия проживет. Разве что части… Вон та вершина, в дымке – Тау-Кешт, за ней Ырташ-ата; а перевал, на котором ты скучал и поминал старого дурака тихим помином, – перевал Баррах. Хочешь – запоминай, не хочешь – выбрось из головы.
– Гургин, а как ты сам здешние места зовешь? Тоже – просто горы?!
– Фарр-ла-Кабир, – отрезал хирбед, поджав губы, и веселый шах-заде осекся.
Словно подзатыльник схлопотал.
Именно здесь, в этих горах без названия, из века в век решалась судьба будущих шахов Кабира. Наследники рода, претенденты на престол и шахский фарр всякий раз гурьбой отправлялись сюда в сопровождении жрецов Огня Небесного – а возвращался из взыскующих славы лишь один. Шах. Куда девались остальные – никто не знал. Впрочем, хирбеды, наверное, знали. Они-то всегда возвращались в целости и сохранности!.. знали, но молчали.
Однако Суришару подобная участь не грозила. Дивное дело! – на сей раз он оказался единственным, кто отважился пройти Испытание. Значит, исход однозначен.
Шахом станет он.
А вот известие, что юная Нахид уже бывала в здешних местах, оказалось для шах-заде новостью. Когда это она успела? И – зачем? Похоже, «небоглазые» скрывают ото всех целые сундуки тайн, отнюдь не стремясь посвящать в них даже великих правителей Кабира-белостенного!.. Ничего, когда он примерит шахский кулах и перстень-печать, он заставит их развязать языки. Щелкая пальцами или не щелкая – заставит. Всему свое время: и время это уже не за горами. Вернее, как раз за горами! – притаилось в логове, куда они сейчас направляются.
Ждет.
Эй, время, слышишь? – ты дождешься!
Я иду!
«Ду-у-у-у…» – откликнулось эхо прямо в сознании шах-заде, не размениваясь на прогулки меж скалами, и юноша вслушался в самого себя: кто это там насмешничает?
– Ты никогда не рассказывал мне, в чем состоит Испытание, «небоглазый», – вновь заговорил Суришар спустя полчаса. – Здесь водятся гули-людоеды? Дэвы? Горные великаны? Я должен буду сразиться с ними?
– Водятся, – охотно согласился старый хирбед, а бородавке досталась новая доля почесываний. – В изобилии.
В ответ послышалось лошадиное фырканье, и до будущего шаха не сразу дошло, что это Нахид весьма удачно передразнила его самого. Еще и издевается, девчонка! Ох, дойдут у меня руки, дотянутся, почешут, где чешется!..
Однако, когда юноша скосился на едущую рядом жрицу, вид красавицы-хирбеди был совершенно серьезен.
– Вон за Тау-Кешт, – пальчик Нахид указал на вершину в чалме сизых облаков, – живут хмурые горные великаны. Очень хмурые и очень горные.
– Но мы туда не поедем, – не преминул добавить Гургин, хмурясь почище старейшины всех на свете великанов.
– А долина, куда можно выйти через ущелье по левую руку – владения гулей-людоедов. Там хранится их боевой петух – чьи перья острее копий, а кукареканье заставляет воинов ходить под себя, словно малых детей и впавших в детство патриархов…
– Но туда мы тоже не поедем, – снова уточнил хирбед. Видимо, на всякий случай.
У Суришара начало складываться впечатление, что эта парочка вполне могла бы зарабатывать кучу динаров, теша своими байками чернь на площадях.
– Наискосок от Тау-Кешт, и на треть фарсанга ближе к Городу, расположен древний храм Сарта-Ожидающего. Иногда там ночуют странные люди, чтобы выйти наружу еще более странными. Или не выйти совсем.
– Сарт-Ожидающий? – с интересом переспросил юноша. – Я никогда не слышал о таком боге. Кто он?
– Он не бог. Он – Сарт. Он ждет; и ждет не нас, – резко бросил жрец, скривившись, словно в рот ему попала пригоршня зерен горького колоквинта, сулящего несчастье глупому едоку. – И туда мы уж точно не поедем. Испытание – не самоубийство; вернее, далеко не всегда самоубийство. Потерпи, шах-заде. Умерь горячность. Осталось недолго.
После такого ответа у Суришара напрочь пропало желание пускаться в дальнейшие расспросы, и они продолжили путь в молчании.
3
…Суришар сидел перед входом в пещеру и время от времени бросал взгляд на клонящееся к закату солнце, ожидая, когда Огнь Небесный утонет в складках чалмы Тау-Кешт. Именно в этот момент он, наследник престола, должен будет войти в шершавый сумрак входа, который поглотит его… надолго ли?
Этого шах-заде не знал.
Сейчас юноша был один: Гургин и Нахид ушли, уведя с собой всех трех лошадей и предупредив, что будут ждать шах-заде у выхода. Ему надо просто пройти через пещеру насквозь и выбраться к ожидающим его спутникам. Только и всего. В этом заключалось Испытание. «Только и всего!» – мысленно передразнил юную хирбеди Суришар. Без факела тащиться через мутную сырость, где просто обязан поджидать неизвестно кто или что! Сидит небось во мраке, тварь безымянная, потирает клешни, слюну меж клыков пускает – желтую такую, тягучую… Только и всего! Правда, старый хирбед клялся, что в пещере отродясь не водилось никаких страхолюдин, кроме темноты – но ведь всякий раз с Испытания возвращался лишь один претендент на трон и фарр! Куда девались остальные? Темнота убаюкала?! Даже если пещера и впрямь пуста, как торба нищего (шах-заде отнюдь не был трусом, но ему очень хотелось верить Гургину), то во мраке вполне можно заблудиться и сгинуть, так и не найдя выхода. Ждите, «небоглазые»! Авось дождетесь… Суришар справедливо полагал, что внутри пещеры должен крыться некий лабиринт – иначе велико ли испытание: пройти по прямой от входа до выхода?!
Нет, на подобное везение он даже не надеялся.
Впрочем, все теперь в руках Судьбы – а еще не было случая, чтобы Судьба отвернулась ото всех претендентов, и шахский престол опустел! А раз так, раз претендент один, как одно солнце в небе, значит, Судьба сама за руку проведет его по всем лабиринтам мира – к будущей славе и величию! Иначе просто и быть не может!
Придя к подобному заключению, Суришар малость приободрился, и мысли шах-заде игриво свернули в другое русло, уводя в сторону от предстоящего Испытания.
Только сейчас до юноши начало доходить, сколь завидная доля ему уготована. Когда скоропостижно скончался его прадед, шах Кей-Кобад, донельзя удивив этим знать и простолюдинов, в столице (да, похоже, и во всем Кабирском шахстве) почти месяц царили растерянность и тихое смятение. Впору до дыр зачесать затылки: шах уходит к праотцам, не достигнув и двухвекового рубежа?! Ведь даже сельскому дурачку известно, каков срок жизни великих шахов, обладателей священного фарра, а если верить преданиям старины, так и вовсе впору развести руками! Умереть в сто семьдесят девять лет, в самом расцвете сил…
О Кей-Кобад!
Поговаривали об отравлении или ином тайном умерщвлении, но слыханное ли это дело – поднять руку на носителя фарра?!! Вовек не бывало! И тем не менее…
Официальное заключение придворных лекарей-хабибов и верховных хирбедов было: смерть от внезапно наступившей преждевременной старости. Ха! Поверить в такую нелепицу?! Однако вслух объявить лжецами ученых хабибов и мудрых жрецов никто не решился. Через месяц волнения улеглись, траур продолжился, но траур трауром, а престол – престолом.
Кто унаследует трон и фарр?
Кто?!
Родственников у покойного шаха оказалось порядочно, несмотря на раннюю кончину: дряхлые младшие сыновья (старшие давным-давно перешли в лучший из миров, ибо, в отличие от шаха, жили обычные земные сроки), племянники, внуки, правнуки…
Суришар был одним из многих. И даже не самым близким. Но, видимо, молодой шах-заде чем-то выделялся среди толпы возможных претендентов на трон, поскольку однажды рядом с ним остановился один из верховных хирбедов – все тот же Гургин – и загадочно осведомился: «Не зябко ли стоять в тени фарра, шах-заде?»
Ответить или просто переспросить юноша не успел: хирбед исчез быстрее змеи, когда та стремится во мрак норы.
И вскоре выяснилось, что претенденты, один за другим, отказались испытывать судьбу. По собственной воле. В здравом уме и трезвой памяти. В итоге осталось двое: Суришар и его двоюродный дядя Лухрасп, тридцатипятилетний силач и гуляка, который не собирался отступать. Не умел. «Испытание? Отлично! – во всеуслышание заявил Лухрасп, подкручивая ус. – Я чувствую в себе силы достойно продолжить дело Кей-Кобада!» И через три дня силач слег в горячке: родичи даже испугались, что последнее дело шаха, то бишь безвременная смерть, и впрямь будет продолжено бахвалом. Придворные хабибы клялись, что непременно поставят Лухраспа на ноги – но не раньше чем через месяц. А к Испытанию он будет готов… ну, скажем, месяца через три-четыре… Для круглого счета, через полгода. А время подгоняло. Смутная пора междувластья затягивалась, дела в стране шли наперекос, жалобы на самоуправство наместников текли в столицу грязным потоком, дихкане роптали, пряча зерно в потайных ямах, благопристойные горожане без причины ударялись в хмельной загул, ремесленники бездельничали, стражники несли службу спустя рукава и не очень-то торопились ловить расплодившихся сверх всякой меры разбойных людишек…
Народу нужен был шах. Опора и символ государства. Земной Бог, чей фарр олицетворяет сам Огнь Небесный, сошедший на грешную землю, дабы согреть и осветить заблудшие души детей своих.
Ждать выздоровления Лухраспа было смерти подобно. Особенно в свете новостей о набегах кочевников-хургов на рубежах с вечно голодной Харзой. Надо сказать, что Суришар ничего не имел против – и когда к нему заявились хирбеды с вопросом о дне Испытания, ответил коротко, как и подобает человеку решительному, будущему правителю великой державы: «Выезжаем завтра».
Ответ шах-заде явно понравился Гургину; хотя сам юноша предпочел бы нравиться упрямой хирбеди.
И вот теперь…
Очнувшись от раздумий, Суришар воздел очи к небу, налившемуся лиловой глубиной – и увидел, как диск светила тонет в пуховой млечности.
Пора.
Надо было идти.
Глава третья,
в которой повествуется об ангелах и праведных размышлениях, о ястребах и кровниках, пиве и сыре, но ни слова не говорится о мосте аль-Серат, перекинутом через пучину геенны и тонком, как лезвие дамасской сабли, по которому верные души пройдут в лучезарном свете, а грешники – на ощупь, во тьме
1
Светящийся провал возник впереди сразу, рывком, словно огненная кисть начертала его на скрижалях кромешной тьмы, и Абу-т-Тайиб со стоном зажмурился. Еще и ладонями прикрылся, для верности. Впору было кощунствовать: минуту (час? день? год?!) назад он богохульственно мечтал о способности рассеять темноту властным окриком: «Да будет свет!» Домечтался, еретик. Вот сейчас уберешь ладони, заставишь веки разойтись – и дождешься мрака, одного мрака и ничего, кроме мрака, где пахнет сырой землей и еще отчего-то мокрым войлоком.
На веки вечные.
Омин.
Поэт стоял, дожидаясь, пока сердце прекратит колотиться безумным узником о двери своей тюрьмы, и заставлял себя не думать о случившемся. Не ждать удачи, не надеяться на лучшее и не спешить к плодам бытия. Такому способу хладнокровно принимать беды и напасти его обучил один шакирит из страны Хинд, которую предки поэта еще триста лет тому назад растоптали копытами своих коней. Вместе со всей воинской силой шакиритов – сами они звали себя труднопроизносимым словом «кшатрии», и очень плохо соглашались принимать ислам. Настолько плохо, что, даже согласившись, частенько обзывали пророка Мухаммада (да сохранит его Аллах и приветствует!) девятым воплощением какого-то четырехрукого идола.
Но предки предками, вера верой, а потомки давнишних врагов мирно встречались в благословенном Дар-ас-Саламе, и чубатый шакирит делился с бритоголовым поэтом многими тайнами. В частности, умением отрешиться от земного перед пучиной битвы и океаном волнений. Это умение передавалось в шакиритском роду еще со времен их легендарного родича, колесничного витязя ар-Джунана ибн-Панду умм Притха. Тот, говорят, был мастером самоуспокоения: прадеда застрелил, двоюродных братьев топтал, как саранчу, учителей с наставниками к ногтю прибирал чище вшей, а сердцем до конца дней своих был кроток и незлобив.