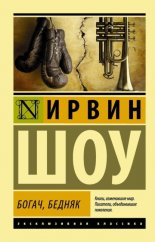Анна Каренина Толстой Лев
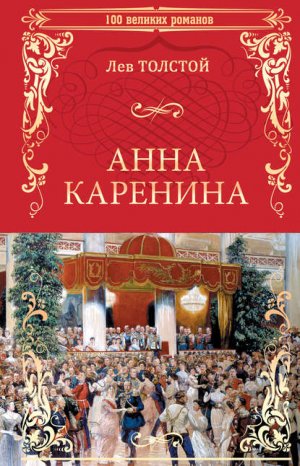
Сергей Иванович поднял голову и с любопытством посмотрел на брата.
— То есть как? Наравне с мужиками, целый день?
— Да, это очень приятно, — сказал Левин.
— Это прекрасно, как физическое упражнение, только едва ли можешь это выдержать, — без всякой насмешки сказал Сергей Иванович.
— Я пробовал. Сначала тяжело, потом втягиваешься. Я думаю, что не отстану…
— Вот как! Но скажи, как мужики смотрят на это? Должно быть, посмеиваются, что чудит барин.
— Нет, не думаю; но это такая вместе и веселая и трудная работа, что некогда думать.
— Ну, а как же ты обедать с ними будешь? Туда лафиту тебе прислать и индюшку жареную уж неловко.
— Нет, я только в одно время с их отдыхом приеду домой.
На другое утро Константин Левин встал раньше обыкновенного, но хозяйственные распоряжения задержали его, и когда он приехал на покос, косцы шли уже по второму ряду.
Еще с горы открылась ему под горою тенистая, уже скошенная часть луга, с сереющими рядами и черными кучками кафтанов, снятых косцами на том месте, откуда они зашли первый ряд.
По мере того как он подъезжал, ему открывались шедшие друг за другом растянутою вереницей и различно махавшие косами мужики, кто в кафтанах, кто в одних рубахах. Он насчитал их сорок два человека.
Они медленно двигались по неровному низу луга, где была старая запруда. Некоторых своих Левин узнал. Тут был старик Ермил в очень длинной белой рубахе, согнувшись махавший косой; тут был молодой малый Васька, бывший у Левина в кучерах, с размаха бравший каждый ряд. Тут был и Тит, по косьбе дядька Левина, маленький, худенький мужичок. Он, не сгибаясь, шел передом, как бы играя косой, срезывая свой широкий ряд.
Левин слез с лошади и, привязав ее у дороги, сошелся с Титом, который, достав из куста вторую косу, подал ее.
— Готова, барин; бреет, сама косит, — сказал Тит, с улыбкой снимая шапку и подавая ему косу.
Левин взял косу и стал примериваться. Кончившие свои ряды, потные и веселые косцы выходили один за другим на дорогу и, посмеиваясь, здоровались с барином. Они все глядели на него, но никто ничего не говорил до тех пор, пока вышедший на дорогу высокий старик со сморщенным и безбородым лицом, в овчинной куртке, не обратился к нему.
— Смотри, барин, взялся за гуж, не отставать! — сказал он, и Левин услыхал сдержанный смех между косцами.
— Постараюсь не отстать, — сказал он, становясь за Титом и выжидая времени начинать.
— Мотри, — повторил старик.
Тит освободил место, и Левин пошел за ним. Трава была низкая, придорожная, и Левин, давно не косивший и смущенный обращенными на себя взглядами, в первые минуты косил дурно, хотя и махал сильно. Сзади его послышались голоса:
— Насажена неладно, рукоятка высока, вишь, ему сгибаться как, — сказал один.
— Пяткой больше налягай, — сказал другой.
— Ничего, ладно, настрыкается, — продолжал старик. — Вишь, пошел… Широк ряд берешь, умаешься… Хозяин, нельзя, для себя старается! А вишь, подрядье-то! За это нашего брата по горбу, бывало.
Трава пошла мягче, и Левин, слушая, но не отвечая и стараясь косить как можно лучше, шел за Титом. Они прошли шагов сто. Тит все шел, не останавливаясь, не выказывая ни малейшей усталости; но Левину уже страшно становилось, что он не выдержит: так он устал.
Он чувствовал, что махает из последних сил, и решился просить Тита остановиться. Но в это самое время Тит сам остановился и, нагнувшись, взял травы, отер косу и стал точить. Левин расправился и, вздохнув, оглянулся. Сзади его шел мужик и, очевидно, также устал, потому что сейчас же, не доходя Левина, остановился и принялся точить. Тит наточил свою косу и косу Левина, и они пошли дальше.
На втором приеме было то же. Тит шел мах за махом, не останавливаясь и не уставая. Левин шел за ним, стараясь не отставать, и ему становилось все труднее и труднее: наступала минута, когда, он чувствовал, у него не остается более сил, но в это самое время Тит останавливался и точил.
Так они прошли первый ряд. И длинный ряд этот показался особенно труден Левину; но зато, когда ряд был дойден и Тит, вскинув на плечо косу, медленными шагами пошел заходить по следам, оставленным его каблуками по прокосу, и Левин точно так же пошел по своему прокосу, — несмотря на то, что пот катил градом по его лицу и капал с носа и вся спина его была мокра, как вымоченная в воде, — ему было очень хорошо. В особенности радовало его то, что он знал теперь, что выдержит.
Его удовольствие отравилось только тем, что ряд его был нехорош. «Буду меньше махать рукой, больше всем туловищем», — думал он, сравнивая как по нитке обрезанный ряд Тита со своим раскиданным и неровно лежащим рядом.
Первый ряд, как заметил Левин, Тит шел особенно быстро, вероятно желая попытать барина, и ряд попался длинен. Следующие ряды были уже легче, но Левин все-таки должен был напрягать все свои силы, чтобы не отставать от мужиков.
Он ничего не думал, ничего не желал, кроме того, чтобы не отстать от мужиков и как можно лучше сработать. Он слышал только лязг кос и видел пред собой удалявшуюся прямую фигуру Тита, выгнутый полукруг прокоса, медленно и волнисто склоняющиеся травы и головки цветов около лезвия своей косы и впереди себя конец ряда, у которого наступит отдых.
Не понимая, что это и откуда, в середине работы он вдруг испытал приятное ощущение холода по жарким вспотевшим плечам. Он взглянул на небо во время натачиванья косы. Набежала низкая, тяжелая туча, и шел крупный дождь. Одни мужики пошли к кафтанам и надели их; другие, точно так же как Левин, только радостно пожимали плечами под приятным освежением.
Прошли еще и еще ряд. Проходили длинные, короткие, с хорошею, с дурною травой ряды. Левин потерял всякое сознание времени и решительно не знал, поздно или рано теперь. В его работе стала происходить теперь перемена, доставлявшая ему огромное наслаждение. В середине его работы на него находили минуты, во время которых он забывал то, что делал, ему становилось легко, и в эти же самые минуты ряд его выходил почти так же ровен и хорош, как и у Тита. Но только что он вспоминал о том, что он делает, и начинал стараться сделать лучше, тотчас же он испытывал всю тяжесть труда и ряд выходил дурен.
Пройдя еще один ряд, он хотел опять заходить, но Тит остановился и, подойдя к старику, что-то тихо сказал ему. Они оба поглядели на солнце. «О чем это они говорят и отчего он не заходит ряд?» — подумал Левин, не догадываясь, что мужики не переставая косили уже не менее четырех часов и им пора завтракать.
— Завтракать, барин, — сказал старик.
— Разве пора? Ну, завтракать.
Левин отдал косу Титу и с мужиками, пошедшими к кафтанам за хлебом, чрез слегка побрызганные дождем ряды длинного скошенного пространства пошел к лошади. Тут только он понял, что не угадал погоду и дождь мочил его сено.
— Испортит сено, — сказал он.
— Ничего, барин, в дождь коси, в погоду греби! — сказал старик.
Левин отвязал лошадь и поехал домой пить кофе.
Сергей Иванович только что встал. Напившись кофею, Левин уехал опять на покос, прежде чем Сергей Иванович успел одеться и выйти в столовую.
Глава 74
После завтрака Левин попал в ряд уже не на прежнее место, а между шутником-стариком, который пригласил его в соседи, и молодым мужиком, с осени только женатым и пошедшим косить первое лето.
Старик, прямо держась, шел впереди, ровно и широко передвигая вывернутые ноги, и точным и ровным движеньем, не стоившим ему, по-видимому, более труда, чем маханье руками на ходьбе, как бы играя, откладывал одинаковый, высокий ряд. Точно не он, а одна острая коса сама вжикала по сочной траве.
Сзади Левина шел молодой Мишка. Миловидное молодое лицо его, обвязанное по волосам жгутом свежей травы, все работало от усилий; но как только взглядывали на него, он улыбался. Он, видимо, готов был умереть скорее, чем признаться, что ему трудно.
Левин шел между ними. В самый жар косьба показалась ему не так трудна. Обливавший его пот прохлаждал его, а солнце, жегшее спину, голову и засученную по локоть руку, придавало крепость и упорство в работе; и чаще и чаще приходили те минуты бессознательного состояния, когда можно было не думать о том, что делаешь. Коса резала сама собой. Это были счастливые минуты. Еще радостнее были минуты, когда, подходя к реке, в которую утыкались ряды, старик обтирал мокрою густою травой косу, полоскал ее сталь в свежей воде реки, зачерпывал брусницу и угощал Левина.
— Ну-ка, кваску моего! А, хорош! — говорил он, подмигивая.
И действительно, Левин никогда не пивал такого напитка, как эта теплая вода с плавающею зеленью и ржавым от жестяной брусницы вкусом. И тотчас после этого наступала блаженная медленная прогулка с рукой на косе, во время которой можно было отереть ливший пот, вздохнуть полною грудью и оглядеть всю тянущуюся вереницу косцов и то, что делалось вокруг, в лесу и в поле.
Чем долее Левин косил, тем чаще и чаще он чувствовал минуты забытья, при котором уже не руки махали косой, а сама коса двигала за собой все сознающее себя, полное жизни тело, и, как бы по волшебству, без мысли о ней, работа правильная и отчетливая делалась сама собой. Это были самые блаженные минуты.
Трудно было только тогда, когда надо было прекращать это сделавшееся бессознательным движенье и думать, когда надо было окашивать кочку или невыполонный щавельник. Старик делал это легко. Приходила кочка, он изменял движенье и где пяткой, где концом косы подбивал кочку с обеих сторон коротенькими ударами. И, делая это, он все рассматривал и наблюдал, что открывалось пред ним, то он срывал кочеток, съедал его или угощал Левина, то отбрасывал носком косы ветку, то оглядывал гнездышко перепелиное, с которого из-под самой косы вылетала самка, то ловил козюлю, попавшуюся на пути, и, как вилкой подняв ее косой, показывал Левину и отбрасывал.
И Левину и молодому малому сзади его эти перемены движений были трудны. Они оба, наладив одно напряженное движение, находились в азарте работы и не в силах были изменять движение и в то же время наблюдать, что было пред ними.
Левин не замечал, как проходило время. Если бы спросили его, сколько времени он косил, он сказал бы, что полчаса, — а уж время подошло к обеду. Заходя ряд, старик обратил внимание Левина на девочек и мальчиков, которые с разных сторон, чуть видные, по высокой траве и по дороге шли к косцам, неся оттягивавшие им ручонки узелки с хлебом и заткнутые тряпками кувшинчики с квасом.
— Вишь, козявки ползут! — сказал он, указывая на них, и из-под руки поглядел на солнце.
Прошли еще два ряда, старик остановился.
— Ну, барин, обедать! — сказал он решительно. И, дойдя до реки, косцы направились через ряды к кафтанам, у которых, дожидаясь их, сидели дети, принесшие обеды. Мужики собрались — дальние под телеги, ближние — под ракитовый куст, на который накидали травы.
Левин подсел к ним; ему не хотелось уезжать.
Всякое стеснение пред барином уже давно исчезло. Мужики приготавливались обедать. Одни мылись, молодые ребята купались в реке, другие прилаживали место для отдыха, развязывали мешочки с хлебом и оттыкали кувшинчики с квасом. Старик накрошил в чашку хлеба, размял его стеблем ложки, налил воды из брусницы, еще разрезал хлеба и, посыпав солью, стал на восток молиться.
— Ну-ка, барин, моей тюрьки, — сказал он, присаживаясь на колени перед чашкой.
Тюрька была так вкусна, что Левин раздумал ехать домой обедать. Он пообедал со стариком и разговорился с ним о его домашних делах, принимая в них живейшее участие, и сообщил ему все свои дела и все обстоятельства, которые могли интересовать старика. Он чувствовал себя более близким к нему, чем к брату, и невольно улыбался от нежности, которую он испытывал к этому человеку. Когда старик опять встал, помолился и лег тут же под кустом, положив себе под изголовье травы, Левин сделал то же и, несмотря на липких, упорных на солнце мух и козявок, щекотавших его потное лицо и тело, заснул тотчас же и проснулся, только когда солнце зашло на другую сторону куста и стало доставать его. Старик давно не спал и сидел, отбивая косы молодых ребят.
Левин оглянулся вокруг себя и не узнал места: так все переменилось. Огромное пространство луга было скошено и блестело особенным, новым блеском, со своими уже пахнущими рядами, на вечерних косых лучах солнца. И окошенные кусты у реки, и сама река, прежде не видная, а теперь блестящая сталью в своих извивах, и движущийся и поднимающийся народ, и крутая стена травы недокошенного места луга, и ястреба, вившиеся над оголенным лугом, — все это было совершенно новое. Очнувшись, Левин стал соображать, сколько скошено и сколько еще можно сделать нынче.
Сработано было чрезвычайно много на сорок два человека. Весь большой луг, который кашивали два дня при барщине в тридцать кос, был уже скошен. Нескошенными оставались углы с короткими рядами. Но Левину хотелось как можно больше скосить в этот день, и досадно было на солнце, которое так скоро спускалось. Он не чувствовал никакой усталости; ему только хотелось еще и еще поскорее и как можно больше сработать.
— А что, еще скосим, как думаешь, Машкин Верх? — сказал он старику.
— Как Бог даст, солнце не высоко. Нечто водочки ребятам?
Во время полдника, когда опять сели и курящие закурили, старик объявил ребятам, что «Машкин Верх скосить — водка будет».
— Эка, не скосить! Заходи, Тит! Живо смахнем! Наешься ночью. Заходи! — послышались голоса, и, доедая хлеб, косцы пошли заходить.
— Ну, ребята, держись! — сказал Тит и почти рысью пошел передом.
— Иди, иди! — говорил старик, спея за ним и легко догоняя его, — срежу! Берегись!
И молодые и старые как бы наперегонку косили. Но, как они ни торопились, они не портили травы, и ряды откладывались так же чисто и отчетливо. Остававшийся в углу уголок был смахнут в пять минут. Еще последние косцы доходили ряды, как передние захватили кафтаны на плечи и пошли через дорогу к Машкину Верху.
Солнце уже спускалось к деревьям, когда они, побрякивая брусницами, вошли в лесной овражек Машкина Верха. Трава была по пояс в середине лощины, и нежная и мягкая, лопушистая, кое-где по лесу пестреющая иваном-да-марьей.
После короткого совещания — вдоль ли ходить или поперек — Прохор Ермилин, тоже известный косец, огромный черноватый мужик, пошел передом. Он прошел ряд вперед, повернулся назад и отвалил, и все стали выравниваться за ним, ходя под гору по лощине и на гору под самую опушку леса. Солнце зашло за лес. Роса уже пала, и косцы только на горке были на солнце, а в низу, по которому поднимался пар, и на той стороне шли в свежей, росистой тени. Работа кипела.
Подрезаемая с сочным звуком и пряно пахнущая трава ложилась высокими рядами. Теснившиеся по коротким рядам косцы со всех сторон, побрякивая брусницами и звуча то столкнувшимися косами, то свистом бруска по оттачиваемой косе, то веселыми криками, подгоняли друг друга.
Левин шел все так же между молодым малым и стариком. Старик, надевший свою овчинную куртку, был так же весел, шутлив и свободен в движениях. В лесу беспрестанно попадались березовые, разбухшие в сочной траве грибы, которые резались косами. Но старик, встречая гриб, каждый раз сгибался, подбирал и клал за пазуху. «Еще старухе гостинцу», — приговаривал он.
Как ни было легко косить мокрую и слабую траву, но трудно было спускаться и подниматься по крутым косогорам оврага. Но старика это не стесняло. Махая все так же косой, он маленьким, твердым шажком своих обутых в большие лапти ног влезал медленно на кручь и, хоть и трясся всем телом и отвисшими ниже рубахи портками, не пропускал на пути ни одной травинки, ни одного гриба и так же шутил с мужиками и Левиным. Левин шел за ним и часто думал, что он непременно упадет, поднимаясь с косою на такой крутой бугор, куда и без косы трудно влезть; но он взлезал и делал что надо. Он чувствовал, что какая-то внешняя сила двигала им.
Глава 75
Машкин Верх скосили, доделали последние ряды, надели кафтаны и весело пошли к дому. Левин сел на лошадь и, с сожалением простившись с мужиками, поехал домой. С горы он оглянулся; их не видно было в поднимавшемся из низу тумане; были слышны только веселые грубые голоса, хохот и звук сталкивающихся кос.
Сергей Иванович давно уже отобедал и пил воду с лимоном и льдом в своей комнате, просматривая только что полученные с почты газеты и журналы, когда Левин, с прилипшими от пота ко лбу спутанными волосами и почерневшею, мокрою спиной и грудью, с веселым говором ворвался к нему в комнату.
— А мы сработали весь луг! Ах, как хорошо, удивительно! А ты как поживал? — говорил Левин, совершенно забыв вчерашний неприятный разговор.
— Батюшки! на что ты похож! — сказал Сергей Иванович, в первую минуту недовольно оглядываясь на брата. — Да дверь-то, дверь-то затворяй! — вскрикнул он. — Непременно впустил десяток целый.
Сергей Иванович терпеть не мог мух и в своей комнате отворял окна только ночью и старательно затворял двери.
— Ей-богу, ни одной. А если впустил, я поймаю. Ты не поверишь, какое наслаждение! Ты как провел день?
— Я хорошо. Но неужели ты целый день косил? Ты, я думаю, голоден, как волк. Кузьма тебе все приготовил.
— Нет, мне и есть не хочется. Я там поел. А вот пойду умоюсь.
— Ну, иди, иди, и я сейчас приду к тебе, — сказал Сергей Иванович, покачивая головой, глядя на брата. — Иди же, иди скорей, — прибавил он, улыбаясь, и, собрав свои книги, приготовился идти. Ему самому вдруг стало весело и не хотелось расставаться с братом. — Ну, а во время дождя где ты был?
— Какой же дождь? Чуть покрапал. Так я сейчас приду. Так ты хорошо провел день? Ну, и отлично. — И Левин ушел одеваться.
Через пять минут братья сошлись в столовой. Хотя Левину и казалось, что не хочется есть, и он сел за обед, только чтобы не обидеть Кузьму, но когда начал есть, то обед показался ему чрезвычайно вкусен. Сергей Иванович, улыбаясь, глядел на него.
— Ах да, тебе письмо, — сказал он. — Кузьма, принеси, пожалуйста, снизу. Да смотри, дверь затворяй.
Письмо было от Облонского. Левин вслух прочел его. Облонский писал из Петербурга: «Я получил письмо от Долли, она в Ергушове, и у ней что-то все не ладится. Съезди, пожалуйста, к ней, помоги советом, ты все знаешь. Она так рада будет тебя видеть. Она совсем одна, бедная. Теща со всеми еще за границей».
— Вот отлично! Непременно съезжу к ним, — сказал Левин. — А то поедем вместе. Она такая славная. Не правда ли?
— А они недалеко тут?
— Верст тридцать. Пожалуй, и сорок будет. Но отличная дорога. Отлично съездим.
— Очень рад, — все улыбаясь, сказал Сергей Иванович.
Вид меньшого брата непосредственно располагал его к веселости.
— Ну, аппетит у тебя! — сказал он, глядя на его склоненное над тарелкой буро-красно-загорелое лицо и шею.
— Отлично! Ты не поверишь, какой это режим полезный против всякой дури. Я хочу обогатить медицину новым термином: Arbeitscur.[110]
— Ну, тебе-то это не нужно, кажется.
— Да, но разным нервным больным.
— Да, это надо испытать. А я ведь хотел было прийти на покос посмотреть на тебя, но жара была такая невыносимая, что я не пошел дальше леса. Я посидел и лесом прошел на слободу, встретил твою кормилицу и сондировал ее насчет взгляда мужиков на тебя. Как я понял, они не одобряют этого. Она сказала: «Не господское дело». Вообще мне кажется, что в понятии народном очень твердо определены требования на известную, как они называют, «господскую» деятельность. И они не допускают, чтобы господа выходили из определившейся в их понятии рамки.
— Может быть; но ведь это такое удовольствие, какого я в жизнь свою не испытывал. И дурного ведь ничего нет. Не правда ли? — отвечал Левин. — Что же делать, если им не нравится. А впрочем, я думаю, что ничего. А?
— Вообще, — продолжал Сергей Иванович, — ты, как я вижу, доволен своим днем.
— Очень доволен. Мы скосили весь луг. И с каким стариком я там подружился! Это ты не можешь себе представить, что за прелесть!
— Ну, так доволен своим днем. И я тоже. Во-первых, я решил две шахматные задачи, и одна очень мила, — открывается пешкой. Я тебе покажу. А потом думал о нашем вчерашнем разговоре.
— Что? о вчерашнем разговоре? — сказал Левин, блаженно щурясь и отдуваясь после оконченного обеда и решительно не в силах вспомнить, какой это был вчерашний разговор.
— Я нахожу, что ты прав отчасти. Разногласие наше заключается в том, что ты ставишь двигателем личный интерес, а я полагаю, что интерес общего блага должен быть у всякого человека, стоящего на известной степени образования. Может быть, ты и прав, что желательнее была бы заинтересованная материально деятельность. Вообще ты натура слишком prime-sautire,[111] как говорят французы; ты хочешь страстной, энергической деятельности или ничего.
Левин слушал брата и решительно ничего не понимал и не хотел понимать. Он только боялся, как бы брат не спросил его такой вопрос, по которому будет видно, что он ничего не слышал.
— Так-то, дружок, — сказал Сергей Иванович, трогая его по плечу.
— Да, разумеется. Да что же! Я не стою за свое, — отвечал Левин с детскою, виноватою улыбкой. «О чем бишь я спорил? — думал он. — Разумеется, и я прав, и он прав, и все прекрасно. Надо только пойти в контору распорядиться». Он встал, потягиваясь и улыбаясь.
Сергей Иванович тоже улыбнулся.
— Хочешь пройтись, пойдем вместе, — сказал он, не желая расставаться с братом, от которого так и веяло свежестью и бодростью. — Пойдем, зайдем и в контору, если тебе нужно.
— Ах, батюшки! — вскрикнул Левин так громко, что Сергей Иванович испугался.
— Что, что ты?
— Что рука Агафьи Михайловны? — сказал Левин, ударяя себя по голове. — Я и забыл про нее.
— Лучше гораздо.
— Ну, все-таки я сбегаю к ней. Ты не успеешь шляпы надеть, я вернусь.
И он, как трещотка, загремел каблуками, сбегая с лестницы.
Глава 76
В то время как Степан Аркадьич приехал в Петербург для исполнения самой естественной, известной всем служащим, хотя и непонятной для неслужащих, нужнейшей обязанности, без которой нет возможности служить, — напомнить о себе в министерстве, — и при исполнении этой обязанности, взяв почти все деньги из дому, весело и приятно проводил время и на скачках и на дачах, Долли с детьми переехала в деревню, чтоб уменьшить сколько возможно расходы. Она переехала в свою приданую деревню Ергушово, ту самую, где весной был продан лес и которая была в пятидесяти верстах от Покровского Левина.
В Ергушове большой старый дом был давно сломан, и еще князем был отделан и увеличен флигель. Флигель лет двадцать тому назад, когда Долли была ребенком, был поместителен и удобен, хоть и стоял, как все флигеля, боком к выездной аллее и к югу. Но теперь флигель этот был стар и гнил. Когда еще Степан Аркадьич ездил весной продавать лес, Долли просила его осмотреть дом и велеть поправить что нужно. Степан Аркадьич, как и все виноватые мужья, очень заботившийся об удобствах жены, сам осмотрел дом и сделал распоряжения обо всем, по его понятию, нужном. По его понятию, надо было перебить кретоном всю мебель, повесить гардины, расчистить сад, сделать мостик у пруда и посадить цветы; но он забыл много других необходимых вещей, недостаток которых потом измучал Дарью Александровну.
Как ни старался Степан Аркадьич быть заботливым отцом и мужем, он никак не мог помнить, что у него есть жена и дети. У него были холостые вкусы, и только с ними он соображался. Вернувшись в Москву, он с гордостью объявил жене, что все приготовлено, что дом будет игрушечка и что он ей очень советует ехать. Степану Аркадьичу отъезд жены в деревню был очень приятен во всех отношениях: и детям здорово, и расходов меньше, и ему свободнее. Дарья же Александровна считала переезд в деревню на лето необходимым для детей, в особенности для девочки, которая не могла поправиться после скарлатины, и, наконец, чтоб избавиться от мелких унижений, мелких долгов дровянику, рыбнику, башмачнику, которые измучали ее. Сверх того, отъезд был ей приятен еще и потому, что она мечтала залучить к себе в деревню сестру Кити, которая должна была возвратиться из-за границы в середине лета, и ей предписано было купанье. Кити писала с вод, что ничто ей так не улыбается, как провести лето с Долли в Ергушове, полном детских воспоминаний для них обеих.
Первое время деревенской жизни было для Долли очень трудное. Она живала в деревне в детстве, и у ней осталось впечатление, что деревня есть спасение от всех городских неприятностей, что жизнь там хотя и не красива (с этим Долли легко мирилась), зато дешева и удобна: все есть, все дешево, все можно достать, и детям хорошо. Но теперь, хозяйкой приехав в деревню, она увидела, что это все совсем не так, как она думала.
На другой день по их приезде пошел проливной дождь, и ночью потекло в коридоре и в детской, так что кроватки перенесли в гостиную. Кухарки людской не было; из девяти коров оказались, по словам скотницы, одни тельные, другие первым теленком, третьи стары, четвертые тугосиси; ни масла, ни молока даже детям недоставало. Яиц не было. Курицу нельзя было достать; жарили и варили старых, лиловых, жилистых петухов. Нельзя было достать баб, чтобы вымыть полы, — все были на картошках. Кататься нельзя было, потому что одна лошадь заминалась и рвала в дышле. Купаться было негде, — весь берег реки был истоптан скотиной и открыт с дороги; даже гулять нельзя было ходить, потому что скотина входила в сад через сломанный забор, и был один страшный бык, который ревел и потому, должно быть, бодался. Шкафов для платья не было. Какие были, те не закрывались и сами открывались, когда проходили мимо их. Чугунов и корчаг не было; котла для прачечной и даже гладильной доски для девичьей не было.
Первое время, вместо спокойствия и отдыха попав на эти страшные, с ее точки зрения, бедствия, Дарья Александровна была в отчаянии: хлопотала изо всех сил, чувствовала безвыходность положения и каждую минуту удерживала слезы, навертывавшиеся ей на глаза. Управляющий, бывший вахмистр, которого Степан Аркадьич полюбил и определил из швейцаров за его красивую и почтительную наружность, не принимал никакого участия в бедствиях Дарьи Александровны, говорил почтительно: «Никак невозможно, такой народ скверный», и ни в чем не помогал.
Положение казалось безвыходным. Но в доме Облонских, как и во всех семейных домах, было одно незаметное, но важнейшее и полезнейшее лицо — Матрена Филимоновна. Она успокоивала барыню, уверяла ее, что все образуется (это было ее слово, и от нее перенял его Матвей), и сама, не торопясь и не волнуясь, действовала.
Она тотчас же сошлась с приказчицей и в первый же день пила с нею и с приказчиком чай под акациями и обсуждала все дела. Скоро под акациями учредился клуб Матрены Филимоновны, и тут, через этот клуб, состоявший из приказчицы, старосты и конторщика, стали понемногу уравниваться трудности жизни, и через неделю действительно все образовалось. Крышу починили, кухарку, куму старостину, достали, кур купили, молока стало доставать, и загородили жердями сад, каток сделал плотник, к шкафам приделали крючки, и они стали отворяться не произвольно, и гладильная доска, обернутая солдатским сукном, легла с ручки кресла на комод, и в девичьей запахло утюгом.
— Ну вот! а всё отчаивались, — сказала Матрена Филимоновна, указывая на доску.
Даже построили из соломенных щитов купальню. Лили стала купаться, и для Дарьи Александровны сбылись хотя отчасти ее ожидания хотя не спокойной, но удобной деревенской жизни. Спокойною с шестью детьми Дарья Александровна не могла быть. Один заболевал, другой мог заболеть, третьему недоставало чего-нибудь, четвертый выказывал признаки дурного характера, и т. д. и т. д. Редко, редко выдавались короткие спокойные периоды. Но хлопоты и беспокойства эти были для Дарьи Александровны единственно возможным счастьем. Если бы не было этого, она бы оставалась одна со своими мыслями о муже, который не любит ее. Но кроме того, как ни тяжелы были для матери страх болезней, самые болезни и горе в виду признаков дурных наклонностей в детях, — сами дети выплачивали ей уж теперь мелкими радостями за ее горести. Радости эти были так мелки, что они незаметны были, как золото в песке, и в дурные минуты она видела одни горести, один песок; но были и хорошие минуты, когда она видела одни радости, одно золото.
Теперь, в уединении деревни, она чаще и чаще стала сознавать эти радости. Часто, глядя на них, она делаа всевозможные усилия, чтоб убедить себя, что она заблуждается, что она, как мать, пристрастна к своим детям; все-таки она не могла не говорить себе, что у нее прелестные дети, все шестеро, все в разных родах, но такие, какие редко бывают, — и была счастлива ими и гордилась ими.
Глава 77
В конце мая, когда уже все более или менее устроилось, она получила от мужа ответ на свои жалобы о деревенских неустройствах. Он писал ей, прося прощения в том, что не обдумал всего, и обещал приехать при первой возможности. Возможность эта не представилась, и до начала июня Дарья Александровна жила одна в деревне.
Петровками, в воскресенье, Дарья Александровна ездила к обедне причащать всех своих детей. Дарья Александровна в своих задушевных, философских разговорах с сестрой, матерью, друзьями очень часто удивляла их своим вольнодумством относительно религии. У ней была своя странная религия метемпсихозы[112], в которую она твердо верила, мало заботясь о догматах церкви. Но в семье она — и не для того только, чтобы показывать пример, а от всей души — строго исполняла все церковные требования, и то, что дети около года не были у причастия, очень беспокоило ее, и, с полным одобрением и сочувствием Матрены Филимоновны, она решила совершить это теперь летом.
Дарья Александровна за несколько дней вперед обдумала, как одеть всех детей. Были сшиты, переделаны и вымыты платья, выпущены рубцы и оборки, пришиты пуговки и приготовлены ленты. Одно платье на Таню, которое взялась шить англичанка, испортило много крови Дарье Александровне. Англичанка, перешивая, сделала вытачки не на месте, слишком вынула рукава и совсем было испортила платье. Тане подхватило плечи так, что видеть было больно. Но Матрена Филимоновна догадалась вставить клинья и сделать пелеринку. Дело поправилось, но с англичанкой произошла было почти ссора. Наутро, однако, все устроилось, и к девяти часам — срок, до которого просили батюшку подождать с обедней, — сияющие радостью, разодетые дети стояли у крыльца пред коляской, дожидаясь матери.
В коляску, вместо заминающегося Ворона, запрягли, по протекции Матрены Филимоновны, приказчикова Бурого, и Дарья Александровна, задержанная заботами о своем туалете, одетая в белое кисейное платье, вышла садиться.
Дарья Александровна причесывалась и одевалась с заботой и волнением. Прежде она одевалась для себя, чтобы быть красивой и нравиться; потом, чем больше она старелась, тем неприятнее ей становилось одеваться; она видела, как она подурнела. Но теперь она опять одевалась с удовольствием и волнением. Теперь она одевалась не для себя, не для своей красоты, а для того, чтоб она, как мать этих прелестей, не испортила общего впечатления. И, посмотревшись в последний раз в зеркало, она осталась собой довольна. Она была хороша. Не так хороша, как она, бывало, хотела быть хороша на бале, но хороша для той цели, которую она теперь имела в виду.
В церкви никого, кроме мужиков и дворников и их баб, не было. Но Дарья Александровна видела, или ей казалось, что видела, восхищение, возбуждаемое ее детьми и ею. Дети не только были прекрасны собой в своих нарядных платьицах, но они были милы тем, как хорошо они себя держали. Алеша, правда, стоял не совсем хорошо: он все поворачивался и хотел видеть сзади свою курточку; но все-таки он был необыкновенно мил. Таня стояла как большая и смотрела за маленькими. Но меньшая, Лили, была прелестна своим наивным удивлением пред всем, и трудно было не улыбнуться, когда, причастившись, она сказала: «Please, some more».[113]
Возвращаясь домой, дети чувствовали, что что-то торжественное совершилось, и были очень смирны.
Все шло хорошо и дома; но за завтраком Гриша стал свистать и, что было хуже всего, не послушался англичанки и был оставлен без сладкого пирога. Дарья Александровна не допустила бы в такой день до наказания, если б она была тут; но надо было поддержать распоряжение англичанки, и она подтвердила ее решение, что Грише не будет сладкого пирога. Это испортило немного общую радость.
Гриша плакал, говоря, что и Николенька свистал, но что вот его не наказали, и что он не от пирога плачет, — ему все равно, — но о том, что несправедливы. Это было слишком уже грустно, и Дарья Александровна решилась, переговорив с англичанкой, простить Гришу и пошла к ней. Но тут, проходя чрез залу, она увидала сцену, наполнившую такою радостью ее сердце, что слезы выступили ей на глаза, и она сама простила преступника.
Наказанный сидел в зале на угловом окне; подле него стояла Таня с тарелкой. Под видом желания обеда для кукол, она попросила у англичанки позволения снести свою порцию пирога в детскую и вместо этого принесла ее брату. Продолжая плакать о несправедливости претерпенного им наказания, он ел принесенный пирог и сквозь рыдания говорил: «Ешь сама, вместе будем есть… вместе».
На Таню сначала подействовала жалость за Гришу, потом сознание своего добродетельного поступка, и слезы у ней тоже стояли в глазах; но она, не отказываясь, ела свою долю.
Увидав мать, они испугались, но, вглядевшись в ее лицо, поняли, что они делают хорошо, засмеялись и с полными пирогом ртами стали обтирать улыбающиеся губы руками и измазали все свои сияющие лица слезами и вареньем.
— Матушки!! Новое белое платье! Таня! Гриша! — говорила мать, стараясь спасти платье, но со слезами на глазах улыбаясь блаженною, восторженною улыбкой.
Новые платья сняли, велели надеть девочкам блузки, а мальчикам старые курточки и велели закладывать линейку — опять, к огорчению приказчика, — Бурого в дышло, чтоб ехать за грибами и на купальню. Стон восторженного визга поднялся в детской и не умолкал до самого отъезда на купальню.
Грибов набрали целую корзинку, даже Лили нашла березовый гриб. Прежде бывало так, что мисс Гуль найдет и покажет ей; но теперь она сама нашла большой березовый шлюпик, и был общий восторженный крик: «Лили нашла шлюпик!»
Потом подъехали к реке, поставили лошадей под березками и пошли в купальню. Кучер Терентий, привязав к дереву отмахивающихся от оводов лошадей, лег, приминая траву, в тени березы и курил тютюн, а из купальни доносился до него неумолкавший детский веселый визг.
Хотя и хлопотливо было смотреть за всеми детьми и останавливать их шалости, хотя и трудно было вспомнить и не перепутать все эти чулочки, панталончики, башмачки с разных ног и развязывать, расстегивать и завязывать тесемочки и пуговки, Дарья Александровна, сама для себя любившая всегда купанье, считавшая его полезным для детей, ничем так не наслаждалась, как этим купаньем со всеми детьми. Перебирать все эти пухленькие ножки, натягивая на них чулочки, брать в руки и окунать эти голенькие тельца и слышать то радостные, то испуганные визги; видеть эти задыхающиеся, с открытыми, испуганными и веселыми глазами лица, этих брызгающихся своих херувимчиков было для нее большое наслаждение.
Когда уже половина детей были одеты, к купальне подошли и робко остановились нарядные бабы, ходившие за сныткой и молочником. Матрена Филимоновна кликнула одну, чтобы дать ей высушить уроненную в воду простыню и рубашку, и Дарья Александровна разговорилась с бабами. Бабы, сначала смеявшиеся в руку и не понимавшие вопроса, скоро осмелились и разговорились, тотчас же подкупив Дарью Александровну искренним любованием детьми, которое они выказывали.
— Ишь ты красавица, беленькая, как сахар, — говорила одна, любуясь на Танечку и покачивая головой. — А худая….
— Да, больна была.
— Вишь ты, знать, тоже купали, — говорила другая на грудного.
— Нет, ему только три месяца, — отвечала с гордостью Дарья Александровна.
— Ишь ты!
— А у тебя есть дети?
— Было четверо, двое осталось: мальчик и девочка. Вот в прошлый мясоед отняла.
— А сколько ей?
— Да другой годок.
— Что же ты так долго кормила?
— Наше обыкновение: три поста…
И разговор стал самый интересный для Дарьи Александровны: как рожала? чем был болен? где муж? часто ли бывает?
Дарье Александровне не хотелось уходить от баб, так интересен ей был разговор с ними, так совершенно одни и те же были их интересы. Приятнее же всего Дарье Александровне было то, что она ясно видела, как все эти женщины любовались более всего тем, как много было у нее детей и как они хороши. Бабы и насмешили Дарью Александровну и обидели англичанку тем, что она была причиной этого непонятного для нее смеха. Одна из молодых баб приглядывалась к англичанке, одевавшейся после всех, и когда она надела на себя третью юбку, то не могла удержаться от замечания: «Ишь ты, крутила, крутила, все не накрутит!» — сказала она, и все разразились хохотом.
Глава 78
Окруженная всеми выкупанными, с мокрыми головами, детьми, Дарья Александровна, с платком на голове, уже подъезжала к дому, когда кучер сказал:
— Барин какой-то идет, кажется, покровский.
Дарья Александровна выглянула вперед и обрадовалась, увидав в серой шляпе и сером пальто знакомую фигуру Левина, шедшего им навстречу. Она и всегда рада ему была, но теперь особенно рада была, что он видит ее во всей ее славе. Никто лучше Левина не мог понять ее величия и в чем оно состояло.
Увидав ее, он очутился пред одною из картин своего когда-то воображаемого семейного быта.
— Вы точно наседка, Дарья Александровна.
— Ах, как я рада! — сказала она, протягивая ему руку.
— Рады, а не дали знать. У меня брат живет. Уж я от Стивы получил записочку, что вы тут.
— От Стивы? — с удивлением спросила Дарья Александровна.
— Да, он пишет, что вы переехали, и думает, что вы позволите мне помочь вам чем-нибудь, — сказал Левин и, сказав это, вдруг смутился и, прервав речь, молча продолжал идти подле линейки, срывая липовые побеги и перекусывая их. Он смутился вследствие предположения, что Дарье Александровне будет неприятна помощь постороннего человека в том деле, которое должно было быть сделано ее мужем. Дарье Александровне действительно не нравилась эта манера Степана Аркадьича навязывать свои семейные дела чужим. И она тотчас же поняла, что Левин понимает это. За эту-то тонкость понимания, за эту деликатность и любила Левина Дарья Александровна.
— Я понял, разумеется, — сказал Левин, — что это только значит то, что вы хотите меня видеть, и очень рад. Разумеется, я воображаю, что вам, городской хозяйке, здесь дико, и, если что нужно, я весь к вашим услугам.
— О нет! — сказала Долли. — Первое время было неудобно, а теперь все прекрасно устроилось благодаря моей старой няне, — сказала она, указывая на Матрену Филимоновну, понимавшую, что говорят о ней, и весело и дружелюбно улыбавшуюся Левину. Она знала его и знала, что это хороший жених барышне, и желала, чтобы дело сладилось.
— Извольте садиться, мы сюда потеснимся, — сказала она ему.
— Нет, я пройдусь. Дети, кто со мной наперегонки с лошадьми?
Дети знали Левина очень мало, не помнили, когда видали его, но не высказывали в отношении к нему того странного чувства застенчивости и отвращения, которое испытывают дети так часто к взрослым притворяющимся людям и за которое им так часто и больно достается. Притворство в чем бы то ни было может обмануть самого умного, проницательного человека; но самый ограниченный ребенок, как бы оно ни было искусно скрываемо, узнет его и отвращается. Какие бы ни были недостатки в Левине, притворства не было в нем и признака, и потому дети высказали ему дружелюбие такое же, какое они нашли на лице матери. На приглашение его два старшие тотчас же соскочили к нему и побежали с ним так же просто, как бы они побежали с няней, с мисс Гуль или с матерью. Лили тоже стала проситься к нему, и мать передала ее ему, он посадил ее на плечо и побежал с ней.
— Не бойтесь, не бойтесь, Дарья Александровна! — говорил он, весело улыбаясь матери, — невозможно, чтоб я ушиб или уронил.
И, глядя на его ловкие, сильные, осторожно заботливые и слишком напряженные движения, мать успокоилась и весело и одобрительно улыбалась, глядя на него.
Здесь, в деревне, с детьми и с симпатичною ему Дарьей Александровной, Левин пришел в то, часто находившее на него детски-веселое расположение духа, которое Дарья Александровна особенно любила в нем. Бегая с детьми, он учил их гимнастике, смешил мисс Гуль своим дурным английским языком и рассказывал Дарье Александровне свои занятия в деревне.
После обеда Дарья Александровна, сидя с ним одна на балконе, заговорила о Кити.
— Вы знаете? Кити приедет сюда и проведет со мною лето.
— Право? — сказал он, вспыхнув, и тотчас же, чтобы переменить разговор, сказал: — Так прислать вам двух коров? Если вы хотите считаться, то извольте заплатить мне по пяти рублей в месяц, если вам не совестно.
— Нет, благодарствуйте. У нас устроилось.
— Ну, так я ваших коров посмотрю, и, если позволите, я распоряжусь, как их кормить. Все дело в корме.
И Левин, чтобы только отвлечь разговор, изложил Дарье Александровне теорию молочного хозяйства, состоявшую в том, что корова есть только машина для переработки корма в молоко, и т. д.
Он говорил это и страстно желал услыхать подробности о Кити и вместе боялся этого. Ему страшно было, что расстроится приобретенное им с таким трудом спокойствие.
— Да, но, впрочем, за всем этим надо следить, а кто же будет? — неохотно отвечала Дарья Александровна.
Она так теперь наладила свое хозяйство через Матрену Филимоновну, что ей не хотелось ничего менять в нем; да она и не верила знанию Левина в сельском хозяйстве. Рассуждения о том, что корова есть машина для деланья молока, были ей подозрительны. Ей казалось, что такого рода рассуждения могут только мешать хозяйству. Ей казалось все это гораздо проще: что надо только, как объясняла Матрена Филимоновна, давать Пеструхе и Белопахой больше корму и пойла и чтобы повар не уносил помои из кухни для прачкиной коровы. Это было ясно. А рассуждения о мучном и травяном корме были сомнительны и неясны. Главное же, ей хотелось говорить о Кити.
Глава 79
— Кити пишет мне, что ничего так не желает, как уединения и спокойствия, — сказала Долли после наступившего молчания.
— А что, здоровье ее лучше? — с волнением спросил Левин.
— Слава Богу, она совсем поправилась. Я никогда не верила, чтоб у нее была грудная болезнь.
— Ах, я очень рад! — сказал Левин, и что-то трогательное, беспомощное показалось Долли в его лице в то время, как он сказал это и молча смотрел на нее.
— Послушайте, Константин Дмитрич, — сказала Дарья Александровна, улыбаясь своею доброю и несколько насмешливою улыбкой, — за что вы сердитесь на Кити?
— Я? Я не сержусь, — сказал Левин.
— Нет, вы сердитесь. Отчего вы не заехали ни к нам, ни к ним, когда были в Москве?
— Дарья Александровна, — сказал он, краснея до корней волос, — я удивляюсь даже, что вы, с вашею добротой, не чувствуете этого. Как вам просто не жалко меня, когда вы знаете…
— Что я знаю?
— Знаете, что я делал предложение и что мне отказано, — проговорил Левин, и вся та нежность, которую минуту тому назад он чувствовал к Кити, заменилась в душе его чувством злобы за оскорбление.
— Почему же вы думаете, что я знаю?
— Потому что все это знают.
— Вот уж в этом вы ошибаетесь; я не знала этого, хотя и догадывалась.
— А! ну так вы теперь знаете.
— Я знала только то, что что-то было, но что, я никогда не могла узнать от Кити. Я видела только, что было что-то, что ее ужасно мучало, и что она просила меня никогда не говорить об этом. А если она не сказала мне, то она никому не говорила. Но что же у вас было? Скажите мне.