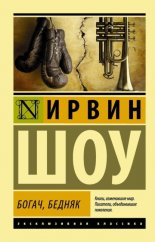Анна Каренина Толстой Лев
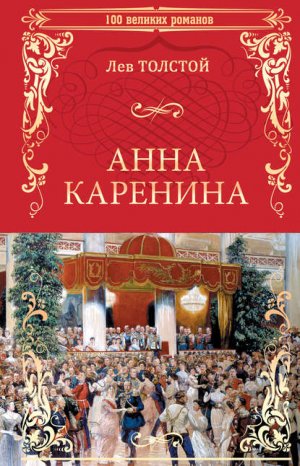
— Кто это входил? — спросил он у сторожа.
— Какой-то, ваше превосходительство, без упроса влез, только я отвернулся. Вас спрашивали. Я говорю: когда выйдут члены, тогда…
— Где он?
— Нешто вышел в сени, а то все тут ходил. Этот самый, — сказал сторож, указывая на сильно сложенного широкоплечего человека с курчавою бородой, который, не снимая бараньей шапки, быстро и легко взбегал наверх по стертым ступенькам каменной лестницы. Один из сходивших вниз с портфелем худощавый чиновник, приостановившись, неодобрительно посмотрел на ноги бегущего и потом вопросительно взглянул на Облонского.
Степан Аркадьич стоял над лестницей. Добродушно сияющее лицо его из-за шитого воротника мундира просияло еще более, когда он узнал вбегавшего.
— Так и есть! Левин, наконец! — проговорил он с дружескою, насмешливою улыбкой, оглядывая подходившего к нему Левина. — Как это ты не побрезгал найти меня в этом вертепе? — сказал Степан Аркадьич, не довольствуясь пожатием руки и целуя своего приятеля. — Давно ли?
— Я сейчас приехал, и очень хотелось тебя видеть, — отвечал Левин, застенчиво и вместе с тем сердито и беспокойно оглядываясь вокруг.
— Ну, пойдем в кабинет, — сказал Степан Аркадьич, знавший самолюбивую и озлобленную застенчивость своего приятеля; и, схватив его за руку, он повлек его за собой, как будто проводя между опасностями.
Степан Аркадьич был на «ты» со всеми почти своими знакомыми: со стариками шестидесяти лет, с мальчиками двадцати лет, с актерами, с министрами, с купцами и с генерал-адъютантами, так что очень многие из бывших с ним на «ты» находились на двух крайних пунктах общественной лестницы и очень бы удивились, узнав, что имеют через Облонского что-нибудь общее. Он был на «ты» со всеми, с кем пил шампанское, а пил он шампанское со всеми, и поэтому, в присутствии своих подчиненных встречаясь с своими постыдными «ты», как он называл шутя многих из своих приятелей, он, со свойственным ему тактом, умел уменьшать неприятность этого впечатления для подчиненных. Левин не был постыдный «ты», но Облонский с своим тактом почувствовал, что Левин думает, что он пред подчиненными может не желать выказать свою близость с ним, и потому поторопился увести его в кабинет.
Левин был почти одних лет с Облонским и с ним на «ты» не по одному шампанскому. Левин был его товарищем и другом первой молодости. Они любили друг друга, несмотря на различие характеров и вкусов, как любят друг друга приятели, сошедшиеся в первой молодости. Но, несмотря на это, как часто бывает между людьми, избравшими различные роды деятельности, каждый из них, хотя, рассуждая, и оправдывал деятельность другого, в душе презирал ее. Каждому казалось, что та жизнь, которую он сам ведет, есть одна настоящая жизнь, а которую ведет приятель — есть только призрак. Облонский не мог удержать легкой насмешливой улыбки при виде Левина. Уж который раз он видел его приезжавшим в Москву из деревни, где он что-то делал, но что именно, того Степан Аркадьич никогда не мог понять хорошенько, да и не интересовался. Левин приезжал в Москву всегда взволнованный, торопливый, немножко стесненный и раздраженный этою стесненностью и большею частью с совершенно новым, неожиданным взглядом на вещи. Степан Аркадьич смеялся над этим и любил это. Точно так же и Левин в душе презирал и городской образ жизни своего приятеля, и его службу, которую считал пустяками, и смеялся над этим. Но разница была в том, что Облонский, делая, что все делают, смеялся самоуверенно и добродушно, а Левин не самоуверенно и иногда сердито.
— Мы тебя давно ждали, — сказал Степан Аркадьич, войдя в кабинет и выпустив руку Левина, как бы этим показывая, что тут опасности кончились. — Очень, очень рад тебя видеть, — продолжал он. — Ну, что ты? Как? Когда приехал?
Левин молчал, поглядывая на незнакомые ему лица двух товарищей Облонского и в особенности на руку элегантного Гриневича, с такими белыми тонкими пальцами, с такими длинными желтыми, загибавшимися в конце ногтями и такими огромными блестящими запонками на рубашке, что эти руки, видимо, поглощали все его внимание и не давали ему свободы мысли. Облонский тотчас заметил это и улыбнулся.
— Ах да, позвольте вас познакомить, — сказал он. — Мои товарищи: Филипп Иваныч Никитин, Михаил Станиславич Гриневич, — и обратившись к Левину: — Земский деятель, новый земский человек, гимнаст, поднимающий одною рукой пять пудов, скотовод и охотник и мой друг, Константин Дмитрич Левин, брат Сергея Иваныча Кознышева.
— Очень приятно, — сказал старичок.
— Имею честь знать вашего брата, Сергея Иваныча, — сказал Гриневич, подавая свою тонкую руку с длинными ногтями.
Левин нахмурился, холодно пожал руку и тотчас же обратился к Облонскому. Хотя он имел большое уважение к своему, известному всей России, одноутробному брату писателю, однако он терпеть не мог, когда к нему обращались не как к Константину Левину, а как к брату знаменитого Кознышева.
— Нет, я уже не земский деятель. Я со всеми разбранился и не езжу больше на собрания, — сказал он, обращаясь к Облонскому.
— Скоро же! — с улыбкой сказал Облонский. — Но как? отчего?
— Длинная история. Я расскажу когда-нибудь, — сказал Левин, но сейчас же стал рассказывать. — Ну, коротко сказать, я убедился, что никакой земской деятельности нет и быть не может, — заговорил он, как будто кто-то сейчас обидел его, — с одной стороны, игрушка, играют в парламент, а я ни достаточно молод, ни достаточно стар, чтобы забавляться игрушками; а с другой (он заикнулся) стороны, это — средство для уездной coterie[36] наживать деньжонки[37]. Прежде опеки, суды, а теперь земство… не в виде взяток, а в виде незаслуженного жалованья, — говорил он так горячо, как будто кто-нибудь из присутствовавших оспаривал его мнение.
— Эге-ге! Да ты, я вижу, опять в новой фазе, в консервативной, — сказал Степан Аркадьич. — Но, впрочем, после об этом.
— Да, после. Но мне нужно было тебя видеть, — сказал Левин, с ненавистью вглядываясь в руку Гриневича.
Степан Аркадьич чуть заметно улыбнулся.
— Как же ты говорил, что никогда больше не наденешь европейского платья? — сказал он, оглядывая его новое, очевидно от французского портного, платье. — Так! я вижу: новая фаза.
Левин вдруг покраснел, но не так, как краснеют взрослые люди, — слегка, сами того не замечая, но так, как краснеют мальчики, — чувствуя, что они смешны своей застенчивостью, и вследствие того стыдясь и краснея еще больше, почти до слез. И так странно было видеть это умное, мужественное лицо в таком детском состоянии, что Облонский перестал смотреть на него.
— Да, где ж увидимся? Ведь мне очень, очень нужно поговорить с тобою, — сказал Левин.
Облонский как будто задумался.
— Вот что: поедем к Гурину завтракать и там поговорим. До трех я свободен.
— Нет, — подумав, ответил Левин, — мне еще надо съездить.
— Ну, хорошо, так обедать вместе.
— Обедать? Да мне ведь ничего особенного, только два слова сказать, спросить, а после потолкуем.
— Так сейчас и скажи два слова, а беседовать за обедом.
— Два слова вот какие, — сказал Левин, — впрочем, ничего особенного.
Лицо его вдруг приняло злое выражение, происходившее от усилия преодолеть свою застенчивость.
— Что Щербацкие делают? Все по-старому? — сказал он.
Степан Аркадьич, знавший уже давно, что Левин был влюблен в его свояченицу Кити, чуть заметно улыбнулся, и глаза его весело заблестели.
— Ты сказал два слова, а я в двух словах ответить не могу, потому что… Извини на минутку…
Вошел секретарь с фамильярною почтительностью и некоторым, общим всем секретарям, скромным сознанием своего превосходства пред начальником в знании дел, подошел с бумагами к Облонскому и стал, под видом вопроса, объяснять какое-то затруднение. Степан Аркадьич, не дослушав, положил ласково свою руку на рукав секретаря.
— Нет, вы уж так сделайте, как я говорил, — сказал он, улыбкой смягчая замечание, и, кратко объяснив ему, как он понимает дело, отодвинул бумаги и сказал: — Так и сделайте, пожалуйста. Пожалуйста, так, Захар Никитич.
Сконфуженный секретарь удалился. Левин, во время совещания с секретарем совершенно оправившись от своего смущения, стоял, облокотившись обеими руками на стул, и на лице его было насмешливое внимание.
— Не понимаю, не понимаю, — сказал он.
— Чего ты не понимаешь? — так же весело улыбаясь и доставая папироску, сказал Облонский. Он ждал от Левина какой-нибудь странной выходки.
— Не понимаю, что вы делаете, — сказал Левин, пожимая плечами. — Как ты можешь это серьезно делать?
— Отчего?
— Да оттого, что нечего делать.
— Ты так думаешь, но мы завалены делом.
— Бумажным. Ну да, у тебя дар к этому, — прибавил Левин.
— То есть ты думаешь, что у меня есть недостаток чего-то?
— Может быть, и да, — сказал Левин. — Но все-таки я любуюсь на твое величие и горжусь, что у меня друг такой великий человек. Однако ты мне не ответил на мой вопрос, — прибавил он, с отчаянным усилием прямо глядя в глаза Облонскому.
— Ну, хорошо, хорошо. Погоди еще, и ты придешь к этому. Хорошо, как у тебя три тысячи десятин в Каразинском уезде, да такие мускулы, да свежесть, как у двенадцатилетней девочки, — а придешь и ты к нам. Да, так о том, что ты спрашивал: перемены нет, но жаль, что ты так давно не был.
— А что? — испуганно спросил Левин.
— Да ничего, — отвечал Облонский. — Мы поговорим. Да ты зачем, собственно, приехал?
— Ах, об этом тоже поговорим после, — опять до ушей покраснев, сказал Левин.
— Ну хорошо. Понятно, — сказал Степан Аркадьич. — Ты видишь ли: я бы позвал к себе, но жена не совсем здорова. А вот что: если ты хочешь их видеть, они, наверное, нынче в Зоологическом саду от четырех до пяти. Кити на коньках катается. Ты поезжай туда, а я заеду, и вместе куда-нибудь обедать.
— Прекрасно. Ну, до свидания.
— Смотри же, ты ведь, я тебя знаю, забудешь или вдруг уедешь в деревню! — смеясь, прокричал Степан Аркадьич.
— Нет, верно.
И, вспомнив о том, что он забыл поклониться товарищам Облонского, только когда он был уже в дверях, Левин вышел из кабинета.
— Должно быть, очень энергический господин, — сказал Гриневич, когда Левин вышел.
— Да, батюшка, — сказал Степан Аркадьич, покачивая головой, — вот счастливец! Три тысячи десятин в Каразинском уезде, все впереди, и свежести сколько! Не то что наш брат.
— Что ж вы-то жалуетесь, Степан Аркадьич?
— Да скверно, плохо, — сказал Степан Аркадьич, тяжело вздохнув.
Глава 6
Когда Облонский спросил у Левина, зачем он, собственно, приехал, Левин покраснел и рассердился на себя за то, что покраснел, потому что он не мог ответить ему: «Я приехал сделать предложение твоей свояченице», хотя он приехал только за этим.
Дом Левиных и Щербацких были старые дворянские московские дом и всегда были между собою в близких и дружеских отношениях. Связь эта утвердилась еще больше во время студенчества Левина. Он вместе готовился и вместе поступил в университет с молодым князем Шербацким, братом Долли и Кити. В это время Левин часто бывал в доме Щербацких и влюбился в дом Щербацких. Как это ни странно может показаться, но Константин Левин был влюблен именно в дом, в семью, в особенности в женскую половину семьи Щербацких. Сам Левин не помнил своей матери, и единственная сестра его была старше его, так что в доме Щербацких он в первый раз увидал ту самую среду старого дворянского, образованного и честного семейства, которой он был лишен смертью отца и матери. Все члены этой семьи, в особенности женская половина, представлялись ему покрытыми какою-то таинственною, поэтическою завесой, и он не только не видел в них никаких недостатков, но под этой поэтическою, покрывавшею их завесой предполагал самые возвышенные чувства и всевозможные совершенства. Для чего этим трем барышням и нужно было говорить через день по-французски и по-английски; для чего они в известные часы играли попеременкам на фортепиано, звуки которого всегда слышались у брата наверху, где занимались студенты; для чего ездили эти учителя французской литературы, музыки, рисованья, танцев; для чего в известные часы все три барышни с m-lle Linon подъезжали в коляске к Тверскому бульвару в своих атласных шубках — Долли в длинной, Натали в полудлинной, а Кити совершенно в короткой, так что статные ножки ее в туго натянутых красных чулках были на всем виду; для чего им, в сопровождении лакея с золотою кокардой на шляпе, нужно было ходить по Тверскому бульвару, — всего этого и многого другого, что делалось в их таинственном мире, он не понимал, но знал, что все, что там делалось, было прекрасно, и был влюблен именно в эту таинственность совершавшегося.
Во время своего студенчества он чуть было не влюбился в старшую, Долли, но ее вскоре выдали замуж за Облонского. Потом он начал было влюбляться во вторую. Он как будто чувствовал, что ему надо влюбиться в одну из сестер, только не мог разобрать, в какую именно. Но и Натали, только что показалась в свет, вышла замуж за дипломата Львова. Кити еще была ребенок, когда Левин вышел из университета. Молодой Щербацкий, поступив в моряки, утонул в Балтийском море, и сношения Левина с Щербацкими, несмотря на дружбу его с Облонским, стали более редки. Но когда в нынешнем году, в начале зимы, Левин приехал в Москву после года в деревне и увидал Щербацких, он понял, в кого из трех ему действительно суждено было влюбиться.
Казалось бы, ничего не могло быть проще того, чтобы ему, хорошей породы, скорее богатому, чем бедному человеку, тридцати двух лет сделать предложение княжне Щербацкой; по всем вероятиям, его тотчас признали бы хорошею партией. Но Левин был влюблен, и поэтому ему казалось, что Кити была такое совершенство во всех отношениях, такое существо превыше всего земного, а он такое земное низменное существо, что не могло быть и мысли о том, чтобы другие и она сама признали его достойным ее.
Пробыв в Москве, как в чаду, два месяца, почти каждый день видаясь с Кити в свете, куда он стал ездить, чтобы встречаться с нею, Левин внезапно решил, что этого не может быть, и уехал в деревню.
Убеждение Левина в том, что этого не может быть, основывалось на том, что в глазах родных он невыгодная, недостойная партия для прелестной Кити, а сама Кити не может любить его. В глазах родных он не имел никакой привычной, определенной деятельности и положения в свете, тогда как его товарищи теперь, когда ему было тридцать два года, были уже — который полковник и флигель-адъютант, который профессор, который почтенный предводитель — директор банка и железных дорог или председатель присутствия, как Облонский; он же (он знал очень хорошо, каким он должен был казаться для других) был помещик, занимающийся разведением коров, стрелянием дупелей и постройками, то есть бездарный малый, из которого ничего не вышло, и делающий, по понятиям общества, то самое, что делают никуда не годившиеся люди.
Сама же таинственная прелестная Кити не могла любить такого некрасивого, каким он считал себя, человека, и, главное, такого простого, ничем не выдающегося человека. Кроме того, его прежние отношения к Кити — отношения взрослого к ребенку, вследствие дружбы с ее братом, — казались ему еще новою преградой для любви. Некрасивого, доброго человека, каким он себя считал, можно, полагал он, любить как приятеля, но, чтобы быть любимым тою любовью, какою он любил Кити, нужно было быть красавцем, а главное — особенным человеком.
Слыхал он, что женщины любят часто некрасивых, простых людей, но не верил этому, потому что судил по себе, так как сам он мог любить только красивых, таинственных и особенных женщин.
Но, пробыв два месяца один в деревне, он убедился, что это не было одно из тех влюблений, которые он испытывал в первой молодости; что чувство это не давало ему минуты покоя; что он не мог жить, не решив вопроса: будет или не будет она его женой; и что его отчаяние происходило только от его воображения, что он не имеет никаких доказательств в том, что ему будет отказано. И он приехал теперь в Москву с твердым решением сделать предложение и жениться, если его примут. Или… он не мог думать о том, что с ним будет, если ему откажут.
Глава 7
Приехав с утренним поездом в Москву, Левин остановился у своего старшего брата по матери Кознышева и, переодевшись, вошел к нему в кабинет, намереваясь тотчас же рассказать ему, для чего он приехал, и просить его совета; но брат был не один. У него сидел известный профессор философии, приехавший из Харькова, собственно, затем, чтобы разъяснить недоразумение, возникшее между ними по весьма важному философскому вопросу. Профессор вел жаркую полемику против материалистов, а Сергей Кознышев с интересом следил за этою полемикой и, прочтя последнюю статью профессора, написал ему в письме свои возражения; он упрекал профессора за слишком большие уступки материалистам. И профессор тотчас же приехал, чтобы столковаться. Речь шла о модном вопросе: есть ли граница между психическими и физиологическими явлениями в деятельности человека и где она?[38]
Сергей Иванович встретил брата своего обычною для всех ласково-холодною улыбкой и, познакомив его с профессором, продолжал разговор.
Маленький желтый человечек в очках, с узким лбом, на мгновение отвлекся от разговора, чтобы поздороваться, и продолжал речь, не обращая внимания на Левина. Левин сел в ожидании, когда уедет профессор, но скоро заинтересовался предметом разговора.
Левин встречал в журналах статьи, о которых шла речь, и читал их, интересуясь ими, как развитием знакомых ему, как естественнику, по университету основ естествознания, но никогда не сближал этих научных выводов о происхождении человека как животного[39], о рефлексах, о биологии и социологии с теми вопросами о значении жизни и смерти для себя самого, которые в последнее время чаще и чаще приходили ему на ум.
Слушая разговор брата с профессором, он замечал, что они связывали научные вопросы с задушевными, несколько раз почти подходили к этим вопросам, но каждый раз, как только они подходили близко к самому главному, как ему казалось, они тотчас же поспешно отдалялись и опять углублялись в область тонких подразделений, оговорок, цитат, намеков, ссылок на авторитеты, и он с трудом понимал, о чем речь.
— Я не могу допустить, — сказал Сергей Иванович с обычною ему ясностью и отчетливостью выражения и изяществом дикции, — я не могу ни в каком случае согласиться с Кейсом, чтобы все мое представление о внешнем мире вытекало из впечатлений. Самое основное понятие бытия получено мною не чрез ощущение, ибо нет и специального органа для передачи этого понятия.
— Да, но они, Вурст, и Кнауст, и Припасов[40], ответят вам, что ваше сознание бытия вытекает из совокупнсти всех ощущений, что это сознание бытия есть результат ощущений. Вурст даже прямо говорит, что, коль скоро нет ощущения, нет и понятия бытия.
— Я скажу наоборот, — начал Сергей Иванович…
Но тут Левину опять показалось, что они, подойдя к самому главному, опять отходят, и решился предложить профессору вопрос.
— Стало быть, если чувства мои уничтожены, если тело мое умрет, существования никакого уж не может быть? — спросил он.
Профессор с досадой и как будто умственною болью от перерыва оглянулся на странного вопрошателя, похожего более на бурлака, чем на философа, и перенес глаза на Сергея Ивановича, как бы спрашивая: что ж тут говорить? Но Сергей Иванович, который далеко не с тем усилием и односторонностью говорил, как профессор, и у которого в голове оставался простор для того, чтоб и отвечать профессору, и вместе понимать ту простую и естественную точку зрения, с которой был сделан вопрос, улыбнулся и сказал:
— Этот вопрос мы не имеем еще права решать…
— Не имеем данных, — подтвердил профессор и продолжал свои доводы. — Нет, — говорил он, — я указываю на то, что если, как прямо говорит Припасов, ощущение и имеет своим основанием впечатление, то мы должны строго различать эти два понятия.
Левин не слушал больше и ждал, когда уедет профессор.
Глава 8
Когда профессор уехал, Сергей Иванович обратился к брату:
— Очень рад, что ты приехал. Надолго? Что хозяйство?
Левин знал, что хозяйство мало интересует старшего брата и что он, только делая ему уступку, спросил его об этом, и потому ответил только о продаже пшеницы и деньгах.
Левин хотел сказать брату о своем намерении жениться и спросить его совета, он даже твердо решился на это; но когда он увидел брата, послушал его разговор с профессором, когда услыхал потом этот невольно покровительственный тон, с которым брат расспрашивал его о хозяйственных делах (материнское имение их было неделенное, и Левин заведовал обеими частями), Левин почувствовал, что не может почему-то начать говорить с братом о своем решении жениться. Он чувствовал, что брат его не так, как ему бы хотелось, посмотрит на это.
— Ну, что у вас земство, как? — спросил Сергей Иванович, который очень интересовался земством и приписывал ему большое значение.
— А, право, не знаю…
— Как? Ведь ты член управы?
— Нет, уже не член; я вышел, — отвечал Константин Левин, — и не езжу больше на собрания.
— Жалко! — промолвил Сергей Иванович, нахмурившись.
Левин в оправдание стал рассказывать, что делалось на собраниях в его уезде.
— Вот это всегда так! — перебил его Сергей Иванович. — Мы, русские, всегда так. Может быть, это и хорошая наша черта — способность видеть свои недостатки, но мы пересаливаем, мы утешаемся иронией, которая у нас всегда готова на языке. Я скажу тебе только, что дай эти же права, как наши земские учреждения, другому европейскому народу, — немцы и англичане выработали бы из них свободу, а мы вот только смеемся.
— Но что же делать? — виновато сказал Левин. — Это был мой последний опыт. И я от всей души пытался. Не могу. Неспособен.
— Не неспособен, — сказал Сергей Иванович, — ты не так смотришь на дело.
— Может быть, — уныло отвечал Левин.
— А ты знаешь, брат Николай опять тут.
Брат Николай был родной и старший брат Константина Левина и одноутробный брат Сергея Ивановича, погибший человек, промотавший бльшую долю своего состояния, вращавшийся в самом странном и дурном обществе и поссорившийся с братьями.
— Что ты говоришь? — с ужасом вскрикнул Левин. — Почем ты знаешь?
— Прокофий видел его на улице.
— Здесь, в Москве? Где он? Ты знаешь? — Левин встал со стула, как бы собираясь тотчас же идти.
— Я жалею, что сказал тебе это, — сказал Сергей Иваныч, покачивая головой на волнение меньшого брата. — Я посылал узнать, где он живет, и послал ему вексель его Трубину, по которому я заплатил. Вот что он мне ответил.
И Сергей Иванович подал брату записку из-под пресс-папье.
Левин прочел написанное странным, родным ему почерком: «Прошу покорно оставить меня в покое. Это одно, чего я требую от своих любезных братцев. Николай Левин».
Левин прочел это и, не поднимая головы, с запиской в руках стоял пред Сергеем Ивановичем.
В душе его боролись желание забыть теперь о несчастном брате и сознание того, что это будет дурно.
— Он, очевидно, хочет оскорбить меня, — продолжал Сергей Иванович, — но оскорбить меня он не может, и я всей душой желал бы помочь ему, но знаю, что этого нельзя сделать.
— Да, да, — повторял Левин. — Я понимаю и ценю твое отношение к нему; но я поеду к нему.
— Если тебе хочется, съезди, но я не советую, — сказал Сергей Иванович. — То есть в отношении ко мне, я этого не боюсь, он тебя не поссорит со мной, но для тебя, я советую тебе лучше не ездить. Помочь нельзя. Впрочем, делай как хочешь.
— Может быть, и нельзя помочь, но я чувствую, особенно в эту минуту — ну да это другое, — я чувствую, что я не могу быть спокоен.
— Ну, этого я не понимаю, — сказал Сергей Иванович. — Одно я понимаю, — прибавил он, — это урок смирения. Я иначе и снисходительнее стал смотреть на то, что называется подлостью, после того как брат Николай стал тем, что он есть… Ты знаешь, что он сделал…
— Ах, это ужасно, ужасно! — повторял Левин.
Получив от лакея Сергея Ивановича адрес брата, Левин тотчас же собрался ехать к нему, но, обдумав, решил отложить свою поездку до вечера. Прежде всего, для того чтобы иметь душевное спокойствие, надо было решить то дело, для которого он приехал в Москву. От брата Левин поехал в присутствие Облонского и, узнав о Щербацких, поехал туда, где ему сказали, что он может застать Кити.
Глава 9
В 4 часа, чувствуя свое бьющееся сердце, Левин слез с извозчика у Зоологического сада и пошел дорожкой к горам и катку, наверное зная, что найдет ее там, потому что видел карету Щербацких у подъезда.
Был ясный морозный день. У подъезда рядами стояли кареты, сани, ваньки, жандармы. Чистый народ, блестя на ярком солнце шляпами, кишел у входа и по расчищенным дорожкам, между русскими домиками с резными князьками; старые кудрявые березы сада, обвисшие всеми ветвями от снега, казалось, были разубраны в новые торжественные ризы.
Он шел по дорожке к катку и говорил себе: «Надо не волноваться, надо успокоиться. О чем ты? Чего ты? Молчи, глупое», — обращался он к своему сердцу. И чем больше он старался себя успокоить, тем все хуже захватывало ему дыхание. Знакомый встретился и окликнул его, но Левин даже не узнал, кто это был. Он подошел к горам, на которых гремели цепи спускаемых и поднимаемых салазок, грохотали катившиеся салазки и звучали веселые голоса. Он прошел еще несколько шагов, и пред ним открылся каток, и тотчас же среди всех катавшихся он узнал ее.
Он узнал, что она тут, по радости и страху, охватившим его сердце. Она стояла, разговаривая с дамой, на противоположном конце катка. Ничего, казалось, не было особенного ни в ее одежде, ни в ее позе; но для Левина так же легко было узнать ее в этой толпе, как розан в крапиве. Все освещалось ею. Она была улыбка, озарявшая все вокруг. «Неужели я могу сойти туда, на лед, подойти к ней?» — подумал он. Место, где она была, показалось ему недоступною святыней, и была минута, что он чуть не ушел: так страшно ему стало. Ему нужно было сделать усилие над собой и рассудить, что около нее ходят всякого рода люди, что и сам он мог прийти туда кататься на коньках. Он сошел вниз, избегая подолгу смотреть на нее, как на солнце, но он видел ее, как солнце, и не глядя.
На льду собирались в этот день недели и в эту пору дня люди одного кружка, все знакомые между собою. Были тут и мастера кататься, щеголявшие искусством, и учившиеся за креслами, с робкими неловкими движениями, и мальчики, и старые люди, катавшиеся для гигиенических целей; все казались Левину избранными счастливцами, потому что они были тут, вблизи от нее. Все катавшиеся, казалось, совершенно равнодушно обгоняли, догоняли ее, даже говорили ней и совершенно независимо от нее веселились, пользуясь отличным льдом и хорошею погодой.
Николай Щербацкий, двоюродный брат Кити, в коротенькой жакетке и узких панталонах, сидел с коньками на ногах на скамейке и, увидав Левина, закричал ему:
— А, первый русский конькобежец! Давно ли? Отличный лед, надевайте же коньки.
— У меня и коньков нет, — отвечал Левин, удивляясь этой смелости и развязности в ее присутствии и ни на секунду не теряя ее из вида, хотя и не глядел на нее. Он чувствовал, что солнце приближалось к нему. Она была на угле и, тупо поставив узкие ножки в высоких ботинках, видимо робея, катилась к нему. Отчаянно махавший руками и пригибавшийся к земле мальчик в русском платье обгонял ее. Она катилась не совсем твердо; вынув руки из маленькой муфты, висевшей на снурке, она держала их наготове и, глядя на Левина, которого она узнала, улыбалась ему и своему страху. Когда поворот кончился, она дала себе толчок упругою ножкой и подкатилась прямо к Щербацкому; и, ухватившись за него рукой, улыбаясь, кивнула Левину. Она была прекраснее, чем он воображал ее.
Когда он думал о ней, он мог себе живо представить ее всю, в особенности прелесть этой, с выражением детской ясности и доброты, небольшой белокурой головки, так свободно поставленной на статных девичьих плечах. Детскость выражения ее лица в соединении с тонкой красотою стана составляли ее особенную прелесть, которую он хорошо помнил; но что всегда, как неожиданность, поражало в ней, это было выражение ее глаз, кротких, спокойных и правдивых, и в особенности ее улыбка, всегда переносившая Левина в волшебный мир, где он чувствовал себя умиленным и смягченным, каким он мог запомнить себя в редкие дни своего раннего детства.
— Давно ли вы здесь? — сказала она, подавая ему руку. — Благодарствуйте, — прибавила она, когда он поднял платок, выпавший из ее муфты.
— Я? я недавно, я вчера… нынче то есть… приехал, — отвечал Левин, не вдруг от волнения поняв ее вопрос. — Я хотел к вам ехать, — сказал он и тотчас же, вспомнив, с каким намерением он искал ее, смутился и покраснел. — Я не знал, что вы катаетесь на коньках, и прекрасно катаетесь.
Она внимательно посмотрела на него, как бы желая понять причину его смущения.
— Вашу похвалу надо ценить. Здесь сохранились предания, что вы лучший конькобежец, — сказала она, стряхивая маленькою ручкой в черной перчатке иглы инея, упавшие на муфту.
— Да, я когда-то со страстью катался; мне хотелось дойти до совершенства.
— Вы все, кажется, делаете со страстью, — сказала она, улыбаясь. — Мне так хочется посмотреть, как вы катаетесь. Надевайте же коньки, и давайте кататься вместе.
«Кататься вместе! Неужели это возможно?» — думал Левин, глядя на нее.
— Сейчас надену, — сказал он.
И он пошел надевать коньки.
— Давно не бывали у нас, сударь, — говорил катальщик, поддерживая ногу и навинчивая каблук. — После вас никого из господ мастеров нету. Хорошо ли так будет? — говорил он, натягивая ремень.
— Хорошо, хорошо, поскорей, пожалуйста, — отвечал Левин, с трудом удерживая улыбку счастья, выступавшую невольно на его лице. «Да, — думал он, — вот это жизнь, вот это счастье! Вместе, сказала она, давайте кататься вместе. Сказать ей теперь? Но ведь я оттого и боюсь сказать, что теперь я счастлив, счастлив хоть надеждой… А тогда?.. Но надо же! надо, надо! Прочь слабость!»
Левин стал на ноги, снял пальто и, разбежавшись по шершавому у домика льду, выбежал на гладкий лед и покатился без усилия, как будто одною своею волей убыстряя, укорачивая и направляя бег. Он приблизился к ней с робостью, но опять ее улыбка успокоила его.
Она подала ему руку, и они пошли рядом, прибавляя хода, и чем быстрее, тем крепче она сжимала его руку.
— С вами я бы скорее выучилась, я почему-то уверена в вас, — сказала она ему.
— И я уверен в себе, когда вы опираетесь на меня, — сказал он, но тотчас же испугался того, что сказал, и покраснел. И действительно, как только он произнес эти слова, вдруг, как солнце зашло за тучи, лицо ее утратило всю свою ласковость, и Левин узнал знакомую игру ее лица, означавшую усилие мысли: на гладком лбу ее вспухла морщинка.
— У вас нет ничего неприятного? Впрочем, я не имею права спрашивать, — быстро проговорил он.
— Отчего же?.. Нет, у меня ничего нет неприятного, — отвечала она холодно и тотчас же прибавила: — Вы не видели mademoiselle Linon?
— Нет еще.
— Подите к ней, она так вас любит.
«Что это? Я огорчил ее. Господи, помоги мне!» — подумал Левин и побежал к старой француженке с седыми букольками, сидевшей на скамейке. Улыбаясь и выставляя свои фальшивые зубы, она встретила его, как старого друга.
— Да, вот растем, — сказала она ему, указывая глазами на Кити, — и стареем. Tiny bear[41] уже стал большой! — продолжала француженка, смеясь, и напомнила ему его шутку о трех барышнях, которых он называл тремя медведями из английской сказки. — Помните, вы, бывало, так говорили?
Он решительно не помнил этого, но она уже лет десять смеялась этой шутке и любила ее.
— Ну, идите, идите кататься. А хорошо стала кататься наша Кити, не правда ли?
Когда Левин опять подбежал к Кити, лицо ее уже было не строго, глаза смотрели так же правдиво и ласково, но Левину показалось, что в ласковости ее был особенный, умышленно спокойный тон. И ему стало грустно. Поговорив о своей старой гувернантке, о ее странностях, она спросила его о его жизни.
— Неужели вам не скучно зимою в деревне? — сказала она.
— Нет, не скучно, я очень занят, — сказал он, чувствуя, что она подчиняет его своему спокойному тону, из которого он не в силах будет выйти, так же как это было в начале зимы.
— Вы надолго приехали? — спросила его Кити.
— Я не знаю, — отвечал он, не думая о том, что говорит. Мысль о том, что если он поддастся этому ее тону спокойной дружбы, то он опять уедет, ничего не решив, пришла ему, и он решился возмутиться.
— Как не знаете?
— Не знаю. Это от вас зависит, — сказал он и тотчас же ужаснулся своим словам.
Не слыхала ли она его слов или не хотела слышать, но она как бы спотыкнулась, два раза стукнув ножкой, и поспешно покатилась прочь от него. Она подкатилась к m-lle Linon, что-то сказала ей и направилась к домику, где дамы снимали коньки.
«Боже мой, что я сделал! Господи Боже мой! помоги мне, научи меня», — говорил Левин, молясь и вместе с тем чувствуя потребность сильного движения, разбегаясь и выписывая внешние и внутренние круги.
В это время один из молодых людей, лучший из новых конькобежцев, с папироской во рту, в коньках, вышел из кофейной и, разбежавшись, пустился на коньках вниз по ступеням, громыхая и подпрыгивая. Он влетел вниз и, не изменив даже свободного положения рук, покатился по льду.
— Ах, это новая штука! — сказал Левин и тотчас же побежал наверх, чтобы сделать эту новую штуку.
— Не убейтесь, надо привычку! — крикнул ему Николай Щербацкий.
Левин вошел на приступки, разбежался сверху сколько мог и пустился вниз, удерживая в непривычном движении равновесие руками. На последней ступени он зацепился, но, чуть дотронувшись до льда рукой, сделал сильное движение, справился и, смеясь, покатился дальше.
«Славный, милый», — подумала Кити в это время, выходя из домика с m-lle Linon и глядя на него с улыбкою тихой ласки, как на любимого брата. «И неужели я виновата, неужели я сделала что-нибудь дурное? Они говорят: кокетство. Я знаю, что я люблю не его; но мне все-таки весело с ним, и он такой славный. Только зачем он это сказал?..» — думала она.
Увидав уходившую Кити и мать, встречавшую ее на ступеньках, Левин, раскрасневшийся после быстрого движения, остановился и задумался. Он снял коньки и догнал у выхода сада мать с дочерью.
— Очень рада вас видеть, — сказала княгиня. — Четверги, как всегда, мы принимаем.
— Стало быть, нынче?
— Очень рады будем видеть вас, — сухо сказала княгиня.
Сухость эта огорчила Кити, и она не могла удержаться от желания загладить холодность матери. Она повернула голову и с улыбкой проговорила:
— До свидания.
В это время Степан Аркадьич, со шляпой на боку, блестя лицом и глазами, веселым победителем входил в сад. Но, подойдя к теще, он с грустным, виноватым лицом отвечал на ее вопросы о здоровье Долли. Поговорив тихо и уныло с тещей, он выпрямил грудь и взял под руку Левина.
— Ну что ж, едем? — спросил он. — Я все о тебе думал, и я очень, очень рад, что ты приехал, — сказал он, с значительным видом глядя ему в глаза.
— Едем, едем, — отвечал счастливый Левин, не перестававший слышать звук голоса, сказавший: «До свидания», и видеть улыбку, с которою это было сказано.
— В «Англию»[42] или в «Эрмитаж»?
— Мне все равно.
— Ну, в «Англию», — сказал Степан Аркадьич, выбрав «Англию» потому, что там он, в «Англии», был более должен, чем в «Эрмитаже». Он потому считал нехорошим избегать эту гостиницу. — У тебя есть извозчик? Ну и прекрасно, а то я отпустил карету.
Всю дорогу приятели молчали. Левин думал о том, что означала эта перемена выражения на лице Кити, и то уверял себя, что есть надежда, то приходил в отчаяние и ясно видел, что его надежда безумна, а между тем чувствовал себя совсем другим человеком, непохожим на того, каким он был до ее улыбки и слова до свидания.
Степан Аркадьич дорогой сочинял меню.
— Ты ведь любишь тюрбо[43]? — сказал он Левину, подъезжая.
— Что? — переспросил Левин. — Тюрбо? Да, я ужасно люблю тюрбо.
Глава 10
Когда Левин вошел с Облонским в гостиницу, он не мог не заметить некоторой особенности выражения, как бы сдержанного сияния, на лице и во всей фигуре Степана Аркадьича. Облонский снял пальто и в шляпе набекрень прошел в столовую, отдавая приказания липнувшим к нему татарам во фраках и с салфетками. Кланяясь направо и налево нашедшимся и тут, как везде, радостно встречавшим его знакомым, он подошел к буфету, закусил водку рыбкой и что-то такое сказал раскрашенной, в ленточках, кружевах и завитушках француженке, сидевшей за конторкой, что даже эта француженка искренно засмеялась. Левин же только оттого не выпил водки, что ему оскорбительна была эта француженка, вся составленная, казалось, из чужих волос, poudre de riz и vinaigre de toilette.[44] Он, как от грязного места, поспешно отошел от нее. Вся душа его была переполнена воспоминанием о Кити, и в глазах его светилась улыбка торжества и счастия.
— Сюда, ваше сиятельство, пожалуйте, здесь не обеспокоят, ваше сиятельство, — говорил особенно липнувший старый белесый татарин с широким тазом и расходившимися над ним фалдами фрака. — Пожалуйте шляпу, ваше сиятельство, — говорил он Левину, в знак почтения к Степану Аркадьичу, ухаживая и за его гостем.
Мгновенно расстелив свежую скатерть на покрытый уже скатертью круглый стол под бронзовым бра, он пододвинул бархатные стулья и остановился пред Степаном Аркадьичем с салфеткой и карточкой в руках, ожидая приказаний.
— Если прикажете, ваше сиятельство, отдельный кабинет сейчас опростается: князь Голицын с дамой. Устрицы свежие получены.
— А! устрицы.
Степан Аркадьич задумался.
— Не изменить ли план, Левин? — сказал он, остановив палец на карте. И лицо его выражало серьезное недоумение. — Хороши ли устрицы? Ты смотри!
— Фленсбургские, ваше сиятельство, остендских нет.
— Фленсбургские-то фленсбургские, да свежи ли?
— Вчера получены-с.
— Так что ж, не начать ли с устриц, а потом уж и весь план изменить? А?
— Мне все равно. Мне лучше всего щи и каша; но ведь здесь этого нет.
— Каша а ла рюсс, прикажете? — сказал татарин, как няня над ребенком, нагибаясь над Левиным.
— Нет, без шуток; что ты выберешь, то и хорошо. Я побегал на коньках, и есть хочется. И не думай, — прибавил он, заметив на лице Облонского недовольное выражение, — чтоб я не оценил твоего выбора. Я с удовольствием поем хорошо.
— Еще бы! Что ни говори, это одно из удовольствий жизни, — сказал Степан Аркадьич. — Ну, так дай ты нам, братец ты мой, устриц два, или мало — три десятка, суп с кореньями…
— Прентаньер, — подхватил татарин. Но Степан Аркадьич, видно, не хотел ему доставлять удовольствие называть по-французски кушанья.
— С кореньями, знаешь? Потом тюрбо под густым соусом, потом… ростбифу; да смотри, чтобы хорош был. Да каплунов, что ли, ну и консервов.
Татарин, вспомнив манеру Степана Аркадьича не называть кушанья по французской карте, не повторял за ним, но доставил себе удовольствие повторить весь заказ по карте: «Суп прентаньер, тюрбо сос Бомарше, пулард а лестрагон, маседуан де фрюи…» — и тотчас, как на пружинах, положив одну переплетенную карту и подхватив другую, карту вин, поднес ее Степану Аркадьичу.