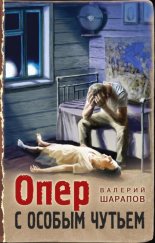Дивергент Рот Вероника

Veronica Roth
DIVERGENT
Copyright © 2011 by Veronica Roth
Published by arrangement with HarperCollins Children’s Books, a division of HarperCollins Publishers Faction symbol art
© 2011 by Rhythm & Hues Design Jacket art and design by Joel Tippie
© Киланова А., перевод на русский язык, 2014
© Издание на русском языке, оформление. «Издательство «Эксмо», 2014
Глава 1
В моем доме всего одно зеркало. Оно спрятано за подвижной панелью в коридоре наверху. Наша фракция разрешает мне смотреться в него во второй день каждого третьего месяца, – день, когда мама подстригает мне волосы.
Я сижу на стуле, а она стоит за спиной и щелкает ножницами. Пряди падают на пол тусклым светлым кольцом.
Закончив, мама убирает мои волосы назад и стягивает в узел. Я замечаю, какой спокойной она выглядит, насколько она сосредоточенна. Она достигла мастерства в искусстве отрешения. О себе я не могу сказать того же.
Пока она не смотрит, я украдкой бросаю взгляд на свое отражение – не из тщеславия, а из любопытства. За три месяца внешний вид человека может очень сильно измениться. В стекле отражается узкое лицо, большие круглые глаза и длинный тонкий нос – я по-прежнему похожа на ребенка, хотя несколько месяцев назад мне исполнилось шестнадцать. Другие фракции отмечают дни рождения, но не мы. Это было бы потаканием нашим прихотям.
– Готово, – говорит мама, закрепив узел шпильками.
Наши взгляды встречаются в зеркале. Слишком поздно отводить глаза, но, вместо того чтобы отругать меня, мама улыбается нашему отражению. Я чуть хмурюсь. Почему она не выговаривает мне за то, что я смотрю в зеркало?
– Итак, день настал, – произносит она.
– Да, – отвечаю я.
– Ты волнуешься?
Я мгновение смотрю себе в глаза. Сегодня день проверки склонностей, которая покажет, какая из пяти фракций мне подходит. А завтра, на Церемонии выбора, я решу, в какую фракцию вступить; я определю всю свою будущую жизнь; я решу, остаться с семьей или покинуть ее.
– Нет, – говорю я. – Тесты не должны повлиять на наш выбор.
– Правильно, – улыбается мама. – Идем завтракать.
– Спасибо. За то, что подстригла мне волосы.
Она целует меня в щеку и закрывает зеркало панелью.
Мне кажется, мать была бы красивой в другом мире. Под ее серым балахоном – худощавое тело. У нее высокие скулы и длинные ресницы, и, когда она распускает волосы на ночь, они волнами ниспадают на плечи. Но в Альтруизме она должна скрывать свою красоту.
Мы вместе идем на кухню. В такие утра, когда мой брат готовит завтрак, когда рука отца ерошит мне волосы, пока он читает газету, а мать напевает себе под нос, убирая со стола, – в такие утра мне особенно стыдно, что я хочу их покинуть.
В автобусе воняет выхлопными газами. Каждый раз, как он налетает на неровный участок мостовой, меня швыряет из стороны в сторону, хотя я держусь за сиденье обеими руками.
Мой старший брат Калеб стоит в проходе и держится за поручень над головой. Мы с ним не похожи. У него темные волосы и горбатый нос, как у отца, и зеленые глаза и ямочки на щеках, как у матери. Когда он был младше, подобное сочетание черт казалось странным, но теперь оно ему идет. Если бы он не был альтруистом, уверена, в школе на него бы заглядывались.
Он также унаследовал мамин дар к самопожертвованию. Он уступил свое место угрюмому правдолюбу, ни секунды не размышляя.
На правдолюбе черный костюм с белым галстуком – стандартная униформа Правдолюбия. Их фракция ценит честность и видит истину в черно-белом свете, вот почему они так одеваются.
По мере того как мы приближаемся к центру города, промежутки между домами становятся все более узкими, а дороги – ровными. Здание, которое когда-то носило название Сирс-тауэр – мы называем его «Втулкой», – выплывает из тумана, черный столб на горизонте. Автобус проезжает под эстакадой. Я ни разу не ездила на поезде, хотя они не переставали ходить и рельсы проложены повсюду. На поездах ездят только лихачи.
Пять лет назад добровольцы-рабочие из Альтруизма заменили покрытие на некоторых дорогах. Они начали с центра города и шли к окраинам, пока не кончились материалы. Дороги рядом с моим домом по-прежнему потрескавшиеся и неровные, и ездить по ним небезопасно. Впрочем, у нас все равно нет машины.
Пока автобус раскачивается и подпрыгивает на дороге, лицо Калеба остается безмятежным. Он хватается за поручень в поисках равновесия, и рукав серого балахона спадает с его плеча. По непрестанному движению его глаз понятно, что он наблюдает за окружающими – старается видеть только их и забыть о себе. Правдолюбы ценят честность, но наша фракция, Альтруизм, ценит самоотверженность.
Автобус останавливается перед школой, и я встаю и протискиваюсь мимо правдолюба. Перешагивая через ботинки мужчины, я хватаюсь за руку Калеба. У меня слишком длинные брюки, и я никогда не была особенно грациозной.
Здание Верхних ступеней – самое старое из трех городских школ: Нижних ступеней, Средних ступеней и Верхних ступеней. Как и окружающие дома, оно построено из стекла и стали. Перед ним стоит большая металлическая скульптура, на которую лихачи залезают после уроков, подстрекая друг друга забираться все выше и выше. В прошлом году я видела, как одна лихачка упала и сломала ногу. Это я сбегала за медсестрой.
– Сегодня проверка склонностей, – говорю я.
Калеб старше меня меньше чем на год, поэтому мы учимся в одном классе.
Он кивает, когда мы входим в парадную дверь. В тот же миг все мои мышцы напрягаются. Атмосфера пронизана голодом, как будто каждый шестнадцатилетка пытается выжать все возможное из своего последнего дня. Вероятно, после Церемонии выбора нам больше не придется ходить по этим коридорам: как только мы примем решение, нашим образованием займутся наши новые фракции.
Уроки сегодня урезаны вдвое, чтобы мы успели посетить их до проверки склонностей, которая начнется после обеда. Мое сердце уже бьется в ускоренном темпе.
– Тебя ничуть не волнует, что покажет проверка? – спрашиваю я Калеба.
Мы останавливаемся на развилке, откуда он пойдет в одну сторону, на углубленный курс математики, а я – в другую, на историю фракций.
Он вздергивает бровь.
– А тебя?
Я могла бы сказать ему, что много недель переживаю из-за того, что покажет проверка – Альтруизм, Правдолюбие, Эрудицию, Товарищество или Лихость.
Вместо этого я улыбаюсь и говорю:
– Не очень.
Он улыбается в ответ.
– Что ж… приятного дня.
Я иду на историю фракций, покусывая нижнюю губу. Он так и не ответил на мой вопрос.
В коридорах тесно, хотя свет из окон создает иллюзию простора; в нашем возрасте это единственное место, где фракции смешиваются. Сегодня толпа пропитана новой энергией, ажиотажем последнего дня.
Девочка с длинными кудрявыми волосами кричит «Эй!» у меня над ухом, махая подружке вдалеке. Рукав пиджака задевает мою щеку. Затем меня толкает эрудит в голубом свитере. Я теряю равновесие и падаю на пол.
– C дороги, Сухарь! – рявкает он и идет дальше по коридору.
У меня вспыхивают щеки. Я встаю и отряхиваюсь. Несколько человек остановились, когда я упала, но никто не предложил мне помощь. Их взгляды провожают меня до конца коридора. Подобные случаи происходят с членами моей фракции уже несколько месяцев: Эрудиция издает враждебные отчеты об Альтруизме, и это начало влиять на отношения в школе. Серая одежда, простая прическа и скромные манеры моей фракции должны помочь мне забыть о себе, а также помочь всем остальным забыть обо мне. Но сейчас они делают меня мишенью.
Я останавливаюсь у окна в крыле «Е» и жду, когда прибудут лихачи. Я каждое утро так делаю. Ровно в 7.25 лихачи подтверждают свою отвагу, спрыгивая с движущегося поезда.
Отец называет лихачей бузотерами. Они покрыты пирсингом и татуировками и носят черную одежду. Их главная задача – охранять ограду вокруг нашего города. От чего – я не знаю.
Они должны приводить меня в замешательство. Я должна недоумевать, какая связь между смелостью – добродетелью, которую они ценят превыше всего, – и металлическим кольцом в носу. Вместо этого я не могу отвести от них глаз.
Поезд пронзительно гудит, звук эхом отдается у меня в груди. Фонарь, приделанный спереди к паровозу, включается и выключается, когда поезд проносится мимо, визжа на железных рельсах. Остается всего несколько вагонов, и тут куча молодых парней и девчонок в темной одежде высыпается из мчащихся вагонов, кто-то падает и катится, остальные пробегают пару шагов и обретают равновесие. Один из мальчиков, смеясь, обнимает девочку за плечи.
Наблюдать за ними – глупая привычка. Я отворачиваюсь от окна и пробираюсь сквозь толпу в класс истории фракций.
Глава 2
Проверка начинается после обеда. Мы сидим за длинными столами в столовой, и распорядители называют по десять имен за раз, по одному для каждой проверочной комнаты. Я сижу рядом с Калебом и напротив нашей соседки Сьюзен.
Отец Сьюзен ездит на работу через весь город, поэтому у него есть машина и он подвозит дочь в школу и домой каждый день. Он предлагал подвозить и нас, но, как говорит Калеб, мы предпочитаем выходить из дома попозже и не хотим доставлять ему неудобств.
Ну конечно, не хотим.
Распорядители – в основном добровольцы-альтруисты, хотя в одной из проверочных комнат сидит эрудит, а в другой – лихач, чтобы проверять альтруистов, потому что правила запрещают проверку членами собственной фракции. В правилах также говорится, что мы не можем подготовиться к тесту, поэтому я не знаю, чего ожидать.
Я перевожу взгляд со Сьюзен на столы лихачей на другой стороне комнаты. Лихачи смеются, кричат и играют в карты. За третьей группой столов эрудиты щебечут над книгами и газетами в вечном поиске знаний.
Стайка товарок в желтом и красном сидят кружком на полу и играют в ладушки, читая стишок. Каждые несколько минут раздается взрыв смеха, когда одна из них выбывает и садится в середине круга. За столом рядом с ними размахивают руками правдолюбы. Кажется, они спорят о чем-то, но вряд ли всерьез, ведь некоторые из них продолжают улыбаться.
Мы за столом Альтруизма сидим тихо и ждем. Традиции фракций регулируют даже праздное поведение и подавляют личные предпочтения. Сомневаюсь, что все эрудиты хотят учиться дни напролет или что всем правдолюбам по душе жаркий спор, но они могут пренебречь обычаями своих фракций не больше меня.
Имя Калеба называют в следующей группе. Он уверенно идет к выходу. Мне незачем желать ему удачи или заверять, что беспокоиться не о чем. Он знает, где его место, и, насколько мне известно, всегда знал. Мое самое раннее воспоминание о брате – когда нам было по четыре года. Он выбранил меня за то, что я не отдала свою скакалку маленькой девочке на детской площадке, которой было не с чем играть. Сейчас он редко читает мне нотации, но я навсегда запомнила неодобрение на его лице.
Я пытаюсь объяснить ему, что у меня другие инстинкты – мне даже не пришло в голову уступить место правдолюбу в автобусе, – но он не понимает.
«Просто делай, что должно», – всегда говорит он. Для него все так просто. Но не для меня.
У меня сжимается желудок. Я закрываю глаза и открываю только через десять минут, когда Калеб садится на место.
Он весь белый как мел. Он прижимает ладони к коленям – я так делаю, если хочу стереть с них пот, – затем отрывает их, и его пальцы дрожат. Я открываю рот, чтобы о чем-то спросить, но слова не вылетают. Я не вправе спрашивать его о результатах, а он не вправе отвечать мне.
Доброволец-альтруист называет имена следующего круга. Двое из Лихости, двое из Эрудиции, двое из Товарищества, двое из Правдолюбия, и наконец: «Из Альтруизма: Сьюзен Блэк и Беатрис Прайор».
Я встаю, потому что должна, но, будь моя воля, я оставалась бы на месте до конца проверки. В груди словно надувается пузырь, который с каждой секундой становится все больше и больше, угрожая разорвать меня изнутри. Я иду за Сьюзен к выходу. Люди, мимо которых я прохожу, наверное, не различают нас. Мы носим одинаковую одежду и одинаково причесываем свои светлые волосы. Единственная разница – то, что Сьюзен, вероятно, не тошнит и, насколько я могу судить, ее руки не дрожат так сильно, что приходится держаться за подол рубашки.
Рядом со столовой выстроились в ряд десять комнат. Они используются только для проверки склонностей, так что я ни разу не бывала в них прежде. В отличие от остальных комнат в школе они отделены не стеклами, а зеркалами. Я наблюдаю за собой, бледной и испуганной, идущей к одной из дверей. Сьюзен нервно улыбается мне и заходит в комнату 5, а я захожу в комнату 6, где меня ждет лихачка.
Она не кажется такой суровой, как молодые лихачи, которых я встречала. У нее маленькие темные глаза с заостренными уголками; на ней черный пиджак – как от мужского костюма – и джинсы. Лишь когда она поворачивается, чтобы закрыть дверь, я вижу татуировку на ее шее: черно-белого ястреба с красным глазом. Если бы у меня в горле не стоял ком, я спросила бы, что это значит. Это наверняка что-то значит.
Внутренние стены комнаты покрыты зеркалами. Я вижу свое отражение со всех ракурсов: серая ткань, скрывающая очертания спины, длинная шея, узловатые пальцы, красные от прилива крови. Потолок светится белым. Посередине комнаты стоит откидывающееся кресло, как у стоматолога, а рядом с ним – машина. В подобном месте должны происходить ужасные вещи.
– Не бойся, – говорит женщина, – это не больно.
У нее черные прямые волосы, но на свету я вижу в них прожилки седины.
– Садись и устраивайся поудобнее, – продолжает она. – Меня зовут Тори.
Я неуклюже опускаюсь в кресло и откидываюсь, положив голову на подголовник. Свет режет глаза. Тори возится с машиной справа от меня. Я пытаюсь сосредоточиться на ней, а не на проводах в ее руках.
– Почему ястреб? – выпаливаю я, когда она прикрепляет электрод к моему лбу.
– Впервые вижу любопытного альтруиста. – Она вздергивает брови.
Я ежусь, и мои руки покрываются гусиной кожей. Мое любопытство – ошибка, предательство ценностей Альтруизма.
Тихонько напевая, Тори прижимает еще один электрод к моему лбу и поясняет:
– В некоторых частях древнего мира ястреб символизировал солнце. В свое время я решила, что, если на мне всегда будет солнце, я перестану бояться темноты.
Я пытаюсь удержаться от очередного вопроса, но тщетно.
– Вы боитесь темноты?
– Ябоялась темноты, – поправляет Тори.
Она прижимает следующий электрод к своему собственному лбу, прикрепляет к нему провод и пожимает плечами.
– Теперь он напоминает мне о страхе, который я преодолела.
Она встает сзади. Я сжимаю подлокотники кресла так крепко, что костяшки моих пальцев белеют. Тори тянет на себя провода, прикрепляет их к себе, ко мне, к машине у себя за спиной. Затем передает мне пробирку с прозрачной жидкостью.
– Выпей, – говорит она.
– Что это?
Мое горло как будто распухло. Я с трудом сглатываю.
– Что случится?
– Я не могу тебе сказать. Просто доверься мне.
Я шумно выдыхаю и опрокидываю содержимое пробирки в рот. Мои глаза закрываются.
Они открываются всего лишь через мгновение, но я оказываюсь в другом месте. Я снова стою в школьной столовой, но все длинные столы пусты, и за стеклянными стенами идет снег. На столе передо мной стоят две корзины. В одной лежит кусок сыра, в другой – нож длиной с мое предплечье.
Женский голос за спиной произносит:
– Выбирай.
– Зачем? – спрашиваю я.
– Выбирай, – повторяет женщина.
Я оборачиваюсь, но за спиной никого нет. Я возвращаюсь к корзинам.
– Что мне с ними делать?
– Выбирай! – кричит она.
Когда она кричит на меня, страх исчезает, сменяясь упрямством. Я хмурюсь и скрещиваю руки на груди.
– Как знаешь, – произносит она.
Корзины исчезают. Я оборачиваюсь на скрип двери и вижу в нескольких ярдах от себя пса с острым носом. Он припадает к земле и крадется ко мне, скаля белые зубы. Глубоко в его горле клокочет рык, и я понимаю, почему пригодился бы сыр. Или нож. Но уже слишком поздно.
Убежать? Но пес быстрее меня. Я не могу прижать его к земле. В голове пульсирует кровь. Я должна принять решение. Если перепрыгнуть через какой-нибудь стол и загородиться им… нет, я слишком маленькая, чтобы прыгать через столы, и слишком слабая, чтобы опрокинуть один из них.
Пес рычит, и я почти чувствую, как звук вибрирует в моем черепе.
В учебнике по биологии написано, что собаки чуют запах страха из-за химического вещества, которое человеческие железы выделяют при угрозе насилия. Такое же вещество выделяют звери, на которых собаки охотятся. Запах страха побуждает их нападать. Пес приближается ко мне, царапая когтями по полу.
Я не могу убежать. Не могу драться. Вместо этого я слышу зловонное дыхание пса и стараюсь не думать о том, что он только что съел. В его глазах нет белков, только черное мерцание.
Что еще я знаю о собаках? Я не должна смотреть ему в глаза. Это знак агрессии. В детстве я просила у отца щенка и теперь, стоя перед когтистыми лапами пса, не могу припомнить почему. Пес подходит ближе, не переставая рычать. Если взгляд в глаза – знак агрессии, то каков знак покорности?
Я дышу громко, но ровно. Опускаюсь на колени. Меньше всего мне хочется лежать на полу перед псом – лицом на уровне его зубов, – но это лучшее, что я могу придумать. Я вытягиваю ноги и опираюсь на локти. Пес крадется все ближе, пока не обжигает мне лицо своим жарким дыханием. Мои руки дрожат.
Он лает мне в ухо, и я сжимаю зубы, чтобы не закричать.
Что-то шершавое и влажное касается моей щеки. Пес перестает рычать и, когда я снова поднимаю на него глаза, шумно дышит. Он лижет мое лицо. Я хмурюсь и сажусь на пятки. Пес кладет лапы мне на колени и лижет мой подбородок. Я отшатываюсь, вытирая слюни с кожи, и смеюсь.
– А ты совсем не страшное чудовище, верно?
Я встаю медленно, чтобы не напугать пса, но он совсем не похож на дикого зверя, который стоял передо мной несколько секунд назад. Я протягиваю руку, осторожно, готовая отдернуть ее, если понадобится. Пес тычется мне в руку головой. Внезапно я радуюсь, что не выбрала нож.
Я моргаю, а когда открываю глаза, на другой стороне комнаты стоит девочка в белом платье. Она протягивает руки и визжит:
– Щеночек!
Она бежит к собаке, стоящей рядом со мной, и я открываю рот, чтобы предупредить ее, но слишком поздно. Пес оборачивается. Он не рычит, а лает, огрызается и щелкает пастью, и мышцы бугрятся под его шкурой, как витки проволоки. Он вот-вот прыгнет. Не размышляя, я бросаюсь на пса; наваливаюсь на него всем телом, обхватив руками толстую шею.
Я ударяюсь головой об пол. Пес исчез, как и маленькая девочка. Я осталась одна – в проверочной комнате, на этот раз пустой. Я медленно поворачиваюсь вокруг и не вижу себя ни в одном зеркале. Толкаю дверь и выхожу в коридор, но это не коридор; это автобус, и все сиденья заняты.
Я стою в проходе и держусь за поручень. Рядом со мной сидит мужчина с газетой. Его лицо заслоняет газета, но я вижу его руки. Они испещрены шрамами, как будто он обгорел, и сжимают бумагу, как будто хотят ее смять.
– Знаешь этого парня? – спрашивает он и постукивает по фотографии на первой странице газеты.
Заголовок гласит: «Жестокий убийца наконец задержан!» Я разглядываю слово «убийца». Немало воды утекло с тех пор, как я в последний раз читала это слово, но все равно его очертания наполняют меня страхом.
На фотографии под заголовком – молодой парень с простым лицом и бородой. По-моему, я его где-то видела, только не помню где. И в то же время мне кажется, что не стоит говорить мужчине об этом.
– Ну так что? – В его голосе звенит злоба. – Знаешь его?
Не стоит… нет, ни в коем случае нельзя! Мое сердце колотится, и я сжимаю поручень, чтобы руки не дрожали, чтобы не выдали меня. Если я скажу ему, что знаю парня из статьи, со мной случится что-то ужасное. Но я могу убедить его, что ничего не знаю. Я могу прочистить горло и пожать плечами… но это будет ложью.
Я прочищаю горло.
– Знаешь? – повторяет он.
Я пожимаю плечами.
– Ну?
Я содрогаюсь. Мой страх иррационален; это всего лишь тест, а не реальность.
– Не-а, – небрежно отвечаю я. – Понятия не имею, кто это.
Он встает, и я наконец вижу его лицо. На нем темные солнечные очки, и рот его искривлен злобой. Его щеки испещрены шрамами, как и руки. Он наклоняется к моему лицу. Его дыхание пахнет сигаретами. «Не реальность, – напоминаю я себе. – Не реальность».
– Ты лжешь, – говорит он. – Ты лжешь!
– Я не лгу.
– Я вижу это по твоим глазам.
Я выпрямляю спину.
– Ничего вы не видите.
– Если ты его знаешь, – тихо говорит он, – то можешь меня спасти. Можешь меня спасти!
Я щурюсь.
– Увы, – говорю я и выпячиваю челюсть, – я его не знаю.
Глава 3
Я просыпаюсь с потными ладонями и ощущением вины. Я лежу в кресле в зеркальной комнате. Откинув голову назад, я вижу за спиной Тори. Поджав губы, она снимает электроды с наших голов. Я жду каких-то слов о проверке – что все закончилось или что я неплохо справилась, хотя разве можно плохо справиться с подобной проверкой? – но она молча снимает провода с моего лба.
Я сажусь и вытираю ладони о брюки. Наверное, я сделала что-то неправильно, пусть все и происходило всего лишь у меня в голове. У Тори такое странное лицо, потому что она не знает, как сказать мне, какой я ужасный человек? Лучше бы она не тянула с ответом.
– Очень неожиданно, – говорит она. – Извини, я на секундочку.
Неожиданно?
Я прижимаю колени к груди и зарываюсь в них лицом. Жаль, мне не хочется плакать, ведь слезы могли бы принести облегчение. Как можно провалить тест, к которому не дают подготовиться?
Время течет, и я нервничаю все больше. Мне приходится вытирать ладони каждые несколько секунд, потому что на них собирается пот… а может, просто потому, что это слегка успокаивает. А вдруг мне скажут, что я не гожусь ни в одну фракцию? Мне придется жить на улицах, с бесфракционниками. Но это невозможно. Жить без фракции – значит не просто жить в нищете и убожестве, это значит быть отвергнутым обществом, лишенным самого главного в жизни: коллектива.
Мать сказала однажды, что мы не можем выжить одни, но даже если бы могли, то не захотели бы. Без фракции у нас нет цели и смысла жизни.
Я качаю головой. Нельзя об этом думать. Необходимо сохранять спокойствие.
Наконец дверь открывается, и входит Тори. Я хватаюсь за подлокотники кресла.
– Извини, что заставила волноваться, – говорит Тори.
Она стоит у моих ног, засунув руки в карманы, и выглядит бледной и напряженной.
– Беатрис, твои результаты неокончательны, – произносит она. – Как правило, каждый этап симуляции исключает одну или более фракций, но в твоем случае были вычеркнуты всего две.
Я гляжу на нее.
– Две? – повторяю я.
Горло перехватывает так, что трудно говорить.
– Если бы ты выказала рефлекторное отвращение к ножу и выбрала сыр, симуляция пошла бы по другому сценарию, который подтвердил бы твою склонность к Товариществу. Этого не случилось, а значит, Товарищество исключено. – Тори скребет в затылке. – Обычно симуляция развивается линейно и выделяет одну фракцию, исключая остальные. Принятые тобой решения не позволили отвергнуть следующий вариант, Правдолюбие, и мне пришлось изменить симуляцию и поместить тебя в автобус. Где твое упорство во лжи исключило Правдолюбие.
Она криво улыбается.
– Не переживай. Только правдолюбы говорят правду в этом случае.
Один из узлов в моей груди ослабевает. Может, я не ужасный человек.
– Я полагаю, что это не совсем так. Правду говорят правдолюбы… и альтруисты, – продолжает она. – А значит, у нас проблема.
У меня отвисает челюсть.
– С другой стороны, ты бросилась на пса, чтобы защитить от него маленькую девочку, а это альтруистическая реакция… Но когда мужчина сказал тебе, что правда спасет его, ты продолжала упорствовать во лжи. Это не альтруистическая реакция. – Она вздыхает. – Ты не убежала от пса – так поступают лихачи, но лихачи берут нож, а ты не взяла.
Она прочищает горло и продолжает:
– Твоя здравая реакция на пса означает сильную тягу к Эрудиции. Понятия не имею, как толковать твою нерешительность на первом этапе, но…
– Погодите, – перебиваю я. – Выходит, вы не представляете, к чему я склонна?
– И да и нет. Мой вывод, – поясняет она, – что ты выказала равную склонность к Альтруизму, Лихости и Эрудиции. Люди, которые получают подобный результат… – она оглядывается через плечо, как будто ожидает кого-то увидеть, – называются… дивергентами.
Последнее слово она произносит так тихо, что его почти не слышно, и снова становится напряженной и беспокойной. Она огибает кресло и наклоняется ко мне.
– Беатрис, – произносит она, – ты ни в коем случае не должна об этом рассказывать. Это очень важно.
– Мы не должны делиться результатами, – киваю я. – Я знаю.
– Нет.
Тори опускается на колени рядом с креслом и кладет руки на подлокотник. Между нашими лицами всего несколько дюймов.
– Это другое. Я не о том, что ты не должна ими делиться сейчас; я о том, что ты не должны ими делиться ни с кем, никогда, что бы ни случилось. Дивергенция крайне опасна. Ты понимаешь?
Я не понимаю, как могут неокончательные результаты проверки быть опасны, но киваю. Мне все равно не хочется ни с кем делиться результатами.
– Ладно.
Я отлепляю руки от подлокотников и встаю. Меня пошатывает.
– Советую пойти домой, – говорит Тори. – Тебе нужно хорошенько поразмыслить, а ожидание вместе с остальными может пойти во вред.
– Я должна предупредить брата.
– Я сама ему скажу.
Выходя из комнаты, я держусь за лоб и гляжу в пол. Я не в силах смотреть Тори в глаза. Я не в силах думать о завтрашней Церемонии выбора.
Теперь это мой выбор, что бы ни показал тест.
Альтруизм. Лихость. Эрудиция.
Дивергенция.
Я решаю не садиться на автобус. Если я вернусь домой рано, отец заметит это, проверяя домашний журнал в конце дня, и мне придется объяснять, что случилось. Вместо этого я иду пешком. Мне нужно перехватить Калеба, прежде чем он обмолвится о чем-нибудь при родителях, но Калеб умеет хранить секреты.
Я иду посередине дороги. Автобусы стараются прижиматься к обочине, так что здесь безопаснее. Там и сям на улицах рядом с домами я вижу следы желтых линий. Они больше не нужны, ведь у нас так мало машин. Светофоры тоже больше не нужны, но кое-где они еще висят над дорогой, угрожая свалиться в любой момент.
Реновация медленно продвигается по городу, лоскутному одеялу новых, чистых зданий и старых, крошащихся. Большинство новых зданий стоит рядом с болотом, которое в прежние времена было озером. Добровольная организация Альтруизма, в которой работает мать, отвечает за большинство этих реноваций.
Когда я смотрю на образ жизни альтруистов глазами чужака, он кажется мне прекрасным. Когда я наблюдаю за совершенным согласием нашей семьи, когда мы ходим на званые ужины, где все убирают за собой без просьб и понуканий, когда я вижу, как Калеб помогает незнакомцам носить сумки с продуктами, я заново влюбляюсь в подобную жизнь. И лишь когда пытаюсь жить ею, возникают проблемы. Я чувствую фальшь.
Но выбрать другую фракцию означает отречься от своей семьи. Навсегда.
Сразу за сектором Альтруизма начинается полоса остовов зданий и разбитых тротуаров, по которой я сейчас и иду. Местами дорога совершенно развалилась, обнажив канализационные системы и пустые тоннели, которые надо старательно обходить; местами так сильно воняет нечистотами и мусором, что приходится зажимать нос.
Здесь живут бесфракционники. Они не сумели завершить инициацию и вступить в фракцию, которую выбрали, и потому живут в нищете, выполняя работу, на которую никто другой не согласен. Они работают дворниками, строителями и сборщиками мусора, ткут материю, водят поезда и автобусы. В обмен на свой труд они получают пищу и одежду, но, как говорит моя мать, ни того ни другого им не хватает.
Я вижу бесфракционника на углу впереди. На нем поношенный коричневый костюм, и кожа складками свисает с его челюсти. Он смотрит на меня, а я смотрю на него, не в силах отвести глаз.
– Извини, – говорит он дребезжащим голосом. – Нет ли у тебя чего-нибудь съедобного?
У меня комок встает в горле. Строгий голос в голове требует: «Опусти голову и иди своей дорогой».
Нет. Я качаю головой. Я не должна бояться этого мужчины. Ему нужна помощь, и я должна ему помочь.
– Мм… да.
Я лезу в сумку. Отец велит всегда носить еду в сумке, как раз на такой случай. Я протягиваю мужчине пакетик сушеных яблочных долек.
Он тянется к ним, но его пальцы смыкаются не на пакетике, а у меня на запястье. Он улыбается мне. У него трещина между передними зубами.
– Какие красивые глазки, – произносит он. – Жаль, остальное подкачало.
Мое сердце колотится. Я отдергиваю руку, но его хватка становится крепче. Я слышу что-то едкое и неприятное в его дыхании.