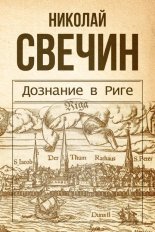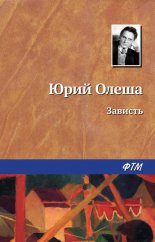Самые знаменитые произведения писателя в одном томе Брэдбери Рэй

Монтэг резко выпрямился и прислушался к дыханию той, что лежала на постели в кромешном мраке комнаты: дыхание было слабым, чуть заметным, в нём едва угадывалась жизнь — от него мог бы затрепетать лишь крохотный листок, пушинка, один-единственный волосок.
Он всё ещё не хотел впустить в комнату свет с улицы. Вынув зажигалку, он нащупал саламандру, выгравированную на серебряном диске, нажал…
Два лунных камня глядели на него при слабом свете прикрытого рукой огонька, два лунных камня, лежащих на дне прозрачного ручья, — над ними, не задевая их, мерно текли воды жизни. — Милдред!
Её лицо было, как остров, покрытый снегом, если дождь прольётся над ним, оно не ощутит дождя, если тучи бросят на него свою вечно движущуюся тень, оно не почувствует тени. Недвижность, немота… Только жужжание ос-втулок, плотно закрывающих уши Милдред, только остекленевший взор и слабое дыхание, чуть колеблющее крылья ноздрей — вдох и выдох, вдох и выдох, — и полная безучастность к тому, что в любую минуту даже и это может прекратиться навсегда.
Предмет, который Монтэг задел ногой, тускло светился на полу возле кровати — маленький хрустальный флакончик, в котором ещё утром было тридцать снотворных таблеток. Теперь он лежал открытый и пустой, слабо поблёскивая при свете крошечного огонька зажигалки.
Вдруг небо над домом заскрежетало. Раздался оглушительный треск, как будто две гигантские руки разорвали вдоль кромки десять тысяч миль чёрного холста. Монтэга словно раскололо надвое, словно ему рассекли грудь и разворотили зияющую рану. Над домом пронеслись ракетные бомбардировщики — первый, второй, первый, второй, первый, второй. Шесть, девять, двенадцать — один за другим, один за другим, сотрясая воздух оглушительным рёвом. Монтэг открыл рот, и звук ворвался в него сквозь его оскаленные зубы. Дом сотрясался. Огонёк зажигалки погас. Лунные камни растаяли в темноте. Рука рванулась к телефону.
Бомбардировщики пролетели. Его губы, дрогнув, коснулись телефонной трубки:
— Больницу неотложной помощи.
Шёпот, полный ужаса…
Ему казалось, что от рёва чёрных бомбардировщиков звёзды превратились в пыль и завтра утром земля будет вся осыпана этой пылью, словно диковинным снегом.
Эта нелепая мысль не покидала его, пока он стоял в темноте возле телефона, дрожа всем телом, беззвучно шевеля губами.
Они привезли с собой машину. Вернее, машин было две. Одна пробиралась в желудок, как чёрная кобра на дно заброшенного колодца в поисках застоявшейся воды и загнившего прошлого. Она пила зелёную жижу, всасывала её и выбрасывала вон. Могла ли она выпить всю темноту? Или весь яд, скопившийся там за долгие годы? Она пила молча, по временам захлёбываясь, издавая странные чмокающие звуки, как будто шарила там на дне, что-то выискивая. У машины был глаз. Обслуживающий её человек с бесстрастным лицом мог, надев оптический шлем, заглянуть в душу пациента и рассказать о том, что видит глаз машины. Но человек молчал. Он смотрел, но не видел того, что видит глаз. Вся эта процедура напоминала рытьё канавы в саду. Женщина, лежащая на постели, была всего лишь твёрдой мраморной породой, на которую наткнулась лопата. Ройте же дальше, запускайте бур поглубже, высасывайте пустоту, если только может её высосать эта подрагивающая, причмокивающая змея!
Санитар стоял и курил, наблюдая за работой машины.
Вторая машина тоже работала. Обслуживаемая вторым, таким же бесстрастным человеком в красновато-коричневом комбинезоне, она выкачивала кровь из тела и заменяла её свежей кровью и свежей плазмой.
— Приходится очищать их сразу двумя способами, — заметил санитар, стоя над неподвижной женщиной. — Желудок — это ещё не всё, надо очистить кровь. Оставьте эту дрянь в крови, кровь, как молотком, ударит в мозг — этак тысячи две ударов, и готово! Мозг сдаётся, просто перестаёт работать.
— Замолчите! — вдруг крикнул Монтэг.
— Я только хотел объяснить, — ответил санитар.
— Вы что, уже кончили? — спросил Монтэг.
Они бережно укладывали в ящики свои машины.
— Да, кончили. — Их нисколько не тронул его гнев. Они стояли и курили, дым вился, лез им в нос и глаза, но ни один из санитаров ни разу не моргнул и не поморщился. — Это стоит пятьдесят долларов.
— Почему вы мне не скажете, будет ли она здорова?
— Конечно, будет. Вся дрянь теперь вот здесь, в ящиках. Она больше ей не опасна. Я же говорил вам — выкачивается старая кровь, вливается новая, и всё в порядке.
— Но ведь вы — не врачи! Почему не прислали врача?
— Врача-а! — сигарета подпрыгнула в губах у санитара. — У нас бывает по девять-десять таких вызовов в ночь. За последние годы они так участились, пришлось сконструировать специальную машину. Нового в ней, правда, только оптическая линза, остальное давно известно. Врач тут не нужен. Двое техников, и через полчаса всё кончено. Однако надо идти, — они направились к выходу. — Только что получили по радио новый вызов. В десяти кварталах отсюда ещё кто-то проглотил всю коробочку со снотворным. Если опять понадобимся, звоните. А ей теперь нужен только покой. Мы ввели ей тонизирующее средство. Проснётся очень голодная. Пока!
И люди с сигаретами в тонких, плотно сжатых губах, люди с холодным, как у гадюки, взглядом, захватив с собой машины и шланг, захватив ящик с жидкой меланхолией и тёмной густой массой, не имеющей названия, покинули комнату.
Монтэг тяжело опустился на стул и вгляделся в лежащую перед ним женщину. Теперь её лицо было спокойно, глаза закрыты, протянув руку, он ощутил на ладони теплоту её дыхания.
— Милдред, — выговорил он наконец.
«Нас слишком много, — думал он. — Нас миллиарды, и это слишком много. Никто не знает друг друга. Приходят чужие и насильничают над тобой. Чужие вырывают у тебя сердце, высасывают кровь. Боже мой, кто были эти люди? Я их в жизни никогда не видел».
Прошло полчаса.
Чужая кровь текла теперь в жилах этой женщины, и эта чужая кровь обновила её. Как порозовели её щёки, какими свежими и алыми стали губы! Теперь выражение их было нежным и спокойным. Чужая кровь взамен собственной…
Да, если бы можно было заменить также и плоть её, и мозг, и память! Если бы можно было самую душу её отдать в чистку, чтобы её там разобрали на части, вывернули карманы, отпарили, разгладили, а утром принесли обратно… Если бы можно!..
Он встал, поднял шторы и, широко распахнув окна, впустил в комнату свежий ночной воздух. Было два часа ночи. Неужели прошёл всего час с тех пор, как он встретил на улице Клариссу Маклеллан, всего час с тех пор, как он вошёл в эту тёмную комнату и задел ногой маленький хрустальный флакончик? Один только час, но как всё изменилось — исчез, растаял тот, прежний мир и вместо него возник новый, холодный и бесцветный.
Через залитую лунным светом лужайку до Монтэга долетел смех. Смех доносился из дома, где жили Кларисса, её отец и мать и её дядя, умевший улыбаться так просто и спокойно. Это был искренний и радостный смех, смех без принуждения, и доносился он в этот поздний час из ярко освещённого дома, в то время как все дома вокруг были погружены в молчание и мрак.
Монтэг слышал голоса беседующих людей, они что-то говорили, спрашивали, отвечали, снова и снова сплетая магическую ткань слов.
Монтэг вышел через стеклянную дверь и, не отдавая себе отчёта в том, что делает, пересёк лужайку. Он остановился в тени возле дома, в котором звучали голоса, и ему вдруг подумалось, что если он захочет, то может даже подняться на крыльцо, постучать в дверь и прошептать: «Впустите меня. Я не скажу ни слова. Я буду молчать. Я только хочу послушать, о чём вы говорите».
Но он не двинулся с места. Он всё стоял, продрогший, окоченелый, с лицом, похожим на ледяную маску, слушая, как мужской голос (это, наверно, дядя) говорит спокойно и неторопливо:
— В конце концов, мы живём в век, когда люди уже не представляют ценности. Человек в наше время — как бумажная салфетка: в неё сморкаются, комкают, выбрасывают, берут новую, сморкаются, комкают, бросают… Люди не имеют своего лица. Как можно болеть за футбольную команду своего города, когда не знаешь ни программы матчей, ни имён игроков? Ну-ка, скажи, например, в какого цвета фуфайках они выйдут на поле?
Монтэг побрёл назад к своему дому. Он оставил окна открытыми, подошёл к Милдред, заботливо укутал её одеялом и лёг в свою постель. Лунный свет коснулся его скул, глубоких морщинок нахмуренного лба, отразился в глазах, образуя в каждом крошечное серебряное бельмо.
Упала первая капля дождя. Кларисса. Ещё капля. Милдред. Ещё одна. Дядя. Ещё одна. Сегодняшний пожар. Одна. Кларисса. Другая, Милдред. Третья. Дядя. Четвёртая. Пожар. Одна, другая, третья, четвёртая, Милдред, Кларисса, дядя, пожар, таблетки снотворного, люди — бумажные, салфетки, используй, брось, возьми новую! Одна, другая, третья, четвёртая. Дождь. Гроза. Смех дяди. Раскаты грома. Мир обрушивается потоками ливня. Пламя вырывается из вулкана. И всё кружится, несётся, бурной, клокочущей рекой устремляется сквозь ночь навстречу утру…
— Ничего больше не знаю, ничего не понимаю, — сказал Монтэг и положил в рот снотворную таблетку. Она медленно растаяла на языке.
Утром в девять часов постель Милдред была уже пуста. Монтэг торопливо встал, с бьющимся сердцем побежал по коридору. В дверях кухни он остановился.
Ломтики поджаренного хлеба выскакивали из серебряного тостера. Тонкая металлическая рука тут же подхватывала их и окунала в растопленное масло.
Милдред смотрела, как подрумяненные ломтики ложатся на тарелку. Уши её были плотно заткнуты гудящими электронными пчёлами. Подняв голову и увидев Монтэга, она кивнула ему.
— Как ты себя чувствуешь? — спросил он. За десять лет знакомства с радиовтулками «Ракушка» Милдред научилась читать по губам. Она снова кивнула головой и вложила в тостер свежий ломтик хлеба.
Монтэг сел.
— Не понимаю, почему мне так хочется есть, — сказала его жена.
— Ты… — начал он.
— Ужас, как проголодалась!
— Вчера вечером…
— Я плохо спала. Отвратительно себя чувствую, — продолжала она. — Господи, до чего хочется есть! Не могу понять почему…
— Вчера вечером… — опять начал он. Она рассеянно следила за его губами.
— Что было вчера вечером?
— Ты разве ничего не помнишь?
— А что такое? У нас были гости? Мы кутили? Я сегодня словно с похмелья. Боже, до чего хочется есть! А кто у нас был?
— Несколько человек.
— Я так и думала. — Она откусила кусочек поджаренного хлеба. — Боли в желудке, но голодна ужасно. Надеюсь, я не натворила вчера каких-нибудь глупостей?
— Нет, — сказал он тихо.
Тостер выбросил ему ломтик пропитанного маслом хлеба. Он взял его со странным смущением, как будто ему оказали любезность.
— Ты тоже неважно выглядишь, — заметила его жена.
Во второй половине дня шёл дождь, всё кругом потемнело, мир словно затянуло серой пеленой. Он стоял в передней своего дома и прикреплял к куртке значок, на котором пылала оранжевая саламандра. Задумавшись, он долго глядел на вентиляционную решётку. Его жена, читавшая сценарий в телевизорной комнате, подняла голову и посмотрела на него.
— Смотрите-ка! Он думает!
— Да, — ответил он. — Мне надо поговорить с тобой. — Он помедлил. — Вчера ты проглотила все таблетки снотворного, все, сколько их было в флаконе.
— Ну да? — удивлённо воскликнула она. — Не может быть!
— Флакон лежал на полу пустой.
— Да не могла я этого сделать. Зачем бы мне? — ответила она.
— Может быть, ты приняла две таблетки, а потом забыла и приняла ещё две, и опять забыла и приняла ещё, а после, уже одурманенная, стала глотать одну за другой, пока не проглотила все тридцать или сорок — всё, что было в флаконе.
— Чепуха! Зачем бы я стала делать такие глупости?
— Не знаю, — ответил он.
Ей, видимо, хотелось, чтобы он скорее ушёл, — она этого даже не скрывала.
— Не стала бы я это делать, — повторила она. — Ни за что на свете.
— Хорошо, пусть будет по-твоему, — ответил он.
— Как сказала леди, — добавила она и снова углубилась в чтение сценария.
— Что сегодня в дневной программе? — спросил он устало.
Она ответила, не поднимая головы:
— Пьеса. Начинается через десять минут с переходом на все четыре стены. Мне прислали роль сегодня утром. Я им предложила кое-что, это должно иметь успех у зрителя. Пьесу пишут, опуская одну роль. Совершенно новая идея! Эту недостающую роль хозяйки дома исполняю я. Когда наступает момент произнести недостающую реплику, все смотрят на меня. И я произношу эту реплику. Например, мужчина говорит: «Что ты скажешь на это, Элен?» — и смотрит на меня. А я сижу вот здесь, как бы в центре сцены, видишь? Я отвечаю… я отвечаю… — она стала водить пальцем по строчкам рукописи. — Ага, вот: «По-моему, это просто великолепно!» Затем они продолжают без меня, пока мужчина не скажет: «Ты согласна с этим, Элен?» Тогда я отвечаю: «Ну, конечно, согласна». Правда, как интересно, Гай?
Он стоял в передней и молча смотрел на неё.
— Право же, очень интересно, — снова сказала она.
— А о чём говорится в пьесе?
— Я же тебе сказала. Там три действующих лица — Боб, Рут и Элен.
— А!
— Это очень интересно. И будет ещё интереснее, когда у нас будет четвёртая телевизорная стена. Как ты думаешь, долго нам ещё надо копить, чтобы вместо простой стены сделать телевизорную? Это стоит всего две тысячи долларов.
— Треть моего годового заработка.
— Всего две тысячи долларов, — упрямо повторила она. — Не мешало бы хоть изредка и обо мне подумать. Если бы мы поставили четвёртую стену, эта комната была уже не только наша. В ней жили бы разные необыкновенные, занятые люди. Можно на чём-нибудь другом сэкономить.
— Мы и так уж на многом экономим, с тех пор как уплатили за третью стену. Если помнишь, её поставили всего два месяца назад.
— Только два месяца? — Она остановила на нём задумчивый взгляд.
— Ну, до свидания, милый.
— До свидания, — ответил он, направляясь к выходу, но вдруг остановился и обернулся. — А какой конец в этой пьесе? Счастливый?
— Я ещё не дочитала до конца.
Он подошёл, взглянул на последнюю страницу, кивнул головой, сложил сценарий, вернул его жене и вышел на мокрую от дождя улицу.
Дождь уже почти перестал. Девушка шла посередине тротуара, подняв голову, и редкие капли дождя падали на её лицо. Увидев Монтэга, она улыбнулась.
— Здравствуйте.
Монтэг ответил на приветствие, затем спросил:
— Что это вы делаете? Ещё что-то придумали?
— Ну да, я же сумасшедшая. Как приятно, когда дождь падает тебе на лицо! Я люблю гулять под дождём.
— Мне бы не понравилось — ответил он.
— А может, и понравилось бы, если бы попробовали.
— Я никогда не пробовал.
Она облизнула губы.
— Дождик даже на вкус приятен.
— Всегда вам хочется что-то пробовать. — сказал он. — Хоть раз, да попробовать.
— А бывает, что и не раз, — ответила она и взглянула на то, что прятала в руке.
— Что там у вас? — спросил он.
— Одуванчик. Последний, наверно. Вот уж не думала, что найду одуванчик так поздно осенью. Теперь нужно его взять и потереть под подбородком. Слышали когда-нибудь об этом? Смотрите! — Смеясь, она провела цветком у себя под подбородком.
— Зачем?
— Если останется след — значит, я влюблена. Ну как?
Что было делать? Он взглянул на её подбородок.
— Ну? — спросила она.
— Жёлтый стал.
— Чудесно! А теперь проверим на вас.
— У меня ничего не выйдет.
— Посмотрим. — И, не дав ему опомниться, она сунула одуванчик ему под подбородок. Он невольно отшатнулся, а она рассмеялась. — Стойте смирно!
Оглядев его подбородок, она нахмурилась.
— Ну как? — спросил он.
— Какая жалость! — воскликнула она. — Вы ни в кого не влюблены!
— Нет, влюблён.
— Но этого не видно.
— Я влюблён, очень влюблён. — Он попытался вызвать в памяти чей-нибудь образ, но безуспешно. — Я влюблён, — упрямо повторил он.
— Не смотрите так! Пожалуйста, не надо!
— Это ваш одуванчик виноват, — сказал он. — Вся пыльца сошла вам на подбородок. А мне ничего не осталось.
— Ну вот, я вас расстроила? Я вижу, что расстроила. Простите, я, право, не хотела… — она легонько тронула его за локоть…
— Нет-нет, — поспешно ответил он. — Я ничего.
— Мне нужно идти. Скажите, что вы меня прощаете. Я не хочу, чтобы вы на меня сердились.
— Я не сержусь. Так, чуточку огорчился.
— Я иду к своему психиатру. Меня заставляют ходить к нему. Ну я и придумываю для него всякую всячину. Не знаю, что он обо мне думает, но он говорит, что я настоящая луковица. Приходится облупливать слой за слоем.
— Я тоже склонён думать, что вам нужен психиатр, — сказал Монтэг.
— Неправда. Вы этого не думаете.
Он глубоко вздохнул, потом сказал:
— Верно. Я этого не думаю.
— Психиатр хочет знать, почему я люблю бродить по лесу, смотреть на птиц, ловить бабочек. Я когда-нибудь покажу вам свою коллекцию.
— Хорошо. Покажите.
— Они то и дело спрашивают, чем это я всё время занята. Я им говорю, что иногда просто сижу и думаю. Но не говорю, о чём. Пусть поломают голову. А иногда я им говорю, что люблю, откинув назад голову, вот так, ловить на язык капли дождя. Они на вкус, как вино. Вы когда-нибудь пробовали?
— Нет, я…
— Вы меня простили? Да?
— Да. — Он на минуту задумался. — Да, простил. Сам не знаю почему. Вы какая-то особенная, на вас обижаешься и вместе с тем вас легко простить. Вы говорите, вам семнадцать лет?
— Да, будет через месяц.
— Странно. Очень странно. Моей жене — тридцать, но иногда мне кажется, что вы гораздо старше её. Не понимаю, отчего у меня такое чувство.
— Вы тоже какой-то особенный, мистер Монтэг. Временами я даже забываю, что вы пожарник. Можно опять рассердить вас?
— Ладно, давайте.
— Как это началось? Как вы попали туда? Как выбрали эту работу и почему именно эту? Вы не похожи на других пожарных. Я видала некоторых — я знаю. Когда я говорю, вы смотрите на меня. Когда я вчера заговорила о луне, вы взглянули на небо. Те, другие, никогда бы этого не сделали. Те просто ушли бы и не стали меня слушать. А то и пригрозили бы мне. У людей теперь нет времени друг для друга. А вы так хорошо отнеслись ко мне. Это редкость. Поэтому мне странно, что вы пожарник. Как-то не подходит к вам.
Ему показалось, что он раздвоился, раскололся пополам и одна его половина была горячей как огонь, а другая холодной как лёд, одна была нежной, другая — жёсткой, одна — трепетной, другая — твёрдой как камень. И каждая половина его раздвоившегося «я» старалась уничтожить другую.
— Вам пора. Не опоздайте к своему психиатру, — сказал он.
Она убежала, оставив его на тротуаре под дождём. Он долго стоял неподвижно. Потом, сделав несколько медленных шагов, вдруг запрокинул голову и, подставив лицо дождю, на мгновение открыл рот…
Механический пёс спал и в то же время бодрствовал, жил и в то же время был мёртв в своей мягко гудящей, мягко вибрирующей, слабо освещённой конуре в конце тёмного коридора пожарной станции. Бледный свет ночного неба проникал через большое квадратное окно, и блики играли то тут, то там на медных, бронзовых и стальных частях механического зверя. Свет отражался в кусочках рубинового стекла, слабо переливался и мерцал на тончайших, как капилляры, чувствительных нейлоновых волосках в ноздрях этого странного чудовища, чуть заметно вздрагивающего на своих восьми паучьих, подбитых резиной лапах.
Монтэг соскользнул вниз по бронзовому шесту и вышел поглядеть на спящий город. Тучи рассеялись, небо было чисто. Он закурил и, вернувшись в коридор, нагнулся и заглянул в конуру. Механический пёс напоминал гигантскую пчелу, возвратившуюся в улей с поля, где нектар цветов напоён ядом, рождающим безумие и кошмары. Тело пса напиталось этим густым сладким дурманом, и теперь он спал, сном пытаясь побороть злую силу яда.
— Здравствуй, — прошептал Монтэг, как всегда зачарованно глядя на мёртвого и в то же время живого зверя.
По ночам, когда становилось скучно, — а это бывало каждую ночь, пожарники спускались вниз по медным шестам и, настроив тикающий механизм обонятельной системы пса на определённый запах, пускали в подвал крыс, цыплят, а иногда кошек, которых всё равно предстояло утопить. Держали пари, которую из жертв пёс схватит первой.
Через несколько секунд игра заканчивалась. Цыплёнок, кошка или крыса, не успев пробежать и несколько метров, оказывались в мягких лапах пса, и четырехдюймовая стальная игла, высунувшись, словно жало, из его морды, впрыскивала жертве изрядную дозу морфия, или прокаина. Затем убитого зверька бросали в печь для сжигания мусора, и игра начиналась снова.
Монтэг обычно оставался наверху и не принимал участия в этих забавах. Как-то раз, два года назад, он побился об заклад с одним из опытных игроков и проиграл недельный заработок. Расплатой был бешеный гнев Милдред — он до сих пор помнит её лицо всё в красных пятнах, со вздувшимися на лбу жилами. Теперь по ночам он лежал на койке, отвернувшись к стене, прислушиваясь к долетавшим снизу взрывам хохота, дробному цокоту крысиных когтей по полу — будто кто-то быстро-быстро дёргал струну рояля, — к скрипичному писку мышей, к внезапной тишине, когда пёс одним бесшумным прыжком выскакивал из будки, как тень, как гигантская ночная бабочка, вдруг вылетевшая на яркий свет. Он хватал свою жертву, вонзал в неё жало и возвращался в конуру, чтобы тут же затихнуть и умереть — как будто выключили рубильник.
Монтэг коснулся морды пса.
Пёс заворчал.
Монтэг отпрянул.
Пёс приподнялся в конуре и взглянул на Монтэга внезапно ожившими, полными зелёно-синих неоновых искр глазами. Снова он заворчал — странный, режущий ухо звук, смесь электрического жужжания, шипения масла на сковороде и металлического скрежета, словно пришёл в движение какой-то ветхий, давно заброшенный механизм, скрипучий от ржавчины и стариковской подозрительности.
— Но-но, старик, — прошептал Монтэг, сердце у него бешено заколотилось. Он увидел, как из морды собаки высунулась на дюйм игла, исчезла, снова высунулась, снова исчезла. Где-то в чреве пса нарастало рычание, сверкающий взгляд был устремлён на Монтэга.
Монтэг попятился. Пёс сделал шаг из конуры. Монтэг схватился рукой за шест. Ответив на прикосновение, шест взвился вверх и бесшумно пронёс Монтэга через люк в потолке. Он ступил на полутёмную площадку верхнего этажа.
Он весь дрожал, лицо его покрылось землистой бледностью. Внизу пёс затих и снова опустился на свои восемь неправдоподобных паучьих лап, продолжая мягко гудеть: его многогранные глаза-кристаллы снова погасли.
Монтэг не сразу отошёл от люка, он хотел сперва немного успокоиться. За его спиной, в дальнем углу, у стола, освещённого лампой под зелёным абажуром, четверо мужчин играли в карты. Они бегло взглянули на Монтэга, но никто из них не произнёс ни слова. Только человек в шлеме брандмейстера, украшенном изображением феникса, державший карты в сухощавой руке, заинтересовался наконец и спросил из своего угла:
— Что случилось, Монтэг?
— Он меня не любит, — сказал Монтэг.
— Кто, пёс? — Брандмейстер разглядывал карты в руке. — Бросьте. Он не может любить или не любить. Он просто «функционирует». Это как задача по баллистике. Для него рассчитана траектория, и он следует по ней. Сам находит цель, сам возвращается обратно, сам выключается. Медная проволока, аккумуляторы, электрическая энергия — вот и всё, что в нём есть.
Монтэг судорожно глотнул воздух.
— Его обонятельную систему можно настроить на любую комбинацию — столько-то аминокислот, столько-то фосфора, столько-то жиров и щелочей. Так?
— Ну, это всем известно.
— Химический состав крови каждого из нас и процентное соотношение зарегистрированы в общей картотеке там, внизу. Что стоит кому-нибудь взять и настроить «память» механического пса на тот или другой состав — не полностью, а частично, ну хотя бы на аминокислоты? Этого достаточно, чтобы он сделал то, что сделал сейчас, — он реагировал на меня.
— Чепуха! — сказал брандмейстер.
— Он раздражён, но не разъярён окончательно. Кто-то настроил его «память» ровно настолько, чтобы он рычал, когда я прикасаюсь к нему.
— Да кому пришло бы в голову это делать? — сказал брандмейстер. — У вас нет здесь врагов, Гай?
— Насколько мне известно, нет.
— Завтра механики проверят пса.
— Это уже не первый раз он рычит на меня, — продолжал Монтэг. — В прошлом месяце было дважды.
— Завтра всё проверим. Бросьте об этом думать.
Но Монтэг продолжал стоять у люка. Он вдруг вспомнил о вентиляционной решётке в передней своего дома и о том, что было спрятано за ней. А что, если кто-нибудь узнал об этом и «рассказал» псу?..
Брандмейстер подошёл к Монтэгу и вопросительно взглянул на него.
— Я пытаюсь представить себе, — сказал Монтэг, — о чём думает пёс по ночам в своей конуре? Что он, правда, оживает, когда бросается на человека? Это даже как-то страшно.
— Он ничего не думает, кроме того, что мы в него вложили.
— Очень жаль, — тихо сказал Монтэг. — Потому что мы вкладываем в него только одно — преследовать, хватать, убивать. Какой позор, что мы ничему другому не можем его научить!
Брандмейстер Битти презрительно фыркнул.
— Экой вздор! Наш пёс — это прекрасный образчик того что может создать человеческий гений. Усовершенствованное ружьё, которое само находит цель и бьёт без промаха.
— Вот именно. И мне, понимаете ли, не хочется стать его очередной жертвой, — сказал Монтэг.
— Да почему вас это так беспокоит? У вас совесть не чиста, Монтэг?
Монтэг быстро вскинул глаза на брандмейстера Битти. Тот стоял, не сводя с него пристального взгляда, вдруг губы брандмейстера дрогнули, раздвинулись в широкой улыбке, и он залился тихим, почти беззвучным смехом.
Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь дней. И каждый день, выходя из дому, он знал, что Кларисса где-то здесь, рядом. Один раз он видел, как она трясла ореховое дерево, в другой раз он видел её сидящей на лужайке — она вязала синий свитер, три или четыре раза он находил на крыльце своего дома букетик осенних цветов, горсть каштанов в маленьком кулёчке, пучок осенних листьев, аккуратно приколотый к листу белой бумаги и прикреплённый кнопкой к входной двери. И каждый вечер Кларисса провожала его до угла. Один день был дождливый, другой ясный, потом очень ветреный, а потом опять тихий и тёплый, а после был день жаркий и душный, как будто вернулось лето, и лицо Клариссы покрылось лёгким загаром.
— Почему мне кажется, — сказал он, когда они дошли до входа в метро, будто я уже очень давно вас знаю?
— Потому что вы мне нравитесь, — ответила она, — и мне ничего от вас не надо. А ещё потому, что мы понимаем друг друга.
— С вами я чувствую себя старым-престарым, как будто гожусь вам в отцы.
— Да? А скажите, почему у вас у самого нет дочки, такой вот, как я, раз вы так любите детей?
— Не знаю.
— Вы шутите!
— Я хотел сказать… — он запнулся и покачал головой. — Видите ли, моя жена… Ну, одним словом, она не хотела иметь детей.
Улыбка сошла с лица девушки.
— Простите. Я ведь, правда, подумала, что вы смеётесь надо мной. Я просто дурочка.
— Нет-нет! — воскликнул он. — Очень хорошо, что вы спросили. Меня так давно никто об этом не спрашивал. Никому до тебя нет дела… Очень хорошо, что вы спросили.
— Ну, давайте поговорим о чём-нибудь другом. Знаете, чем пахнут палые листья? Корицей! Вот понюхайте.
— А ведь верно… Очень напоминает корицу.
Она подняла на него свои лучистые тёмные глаза.
— Как вы всегда удивляетесь!
— Это потому, что раньше я никогда не замечал… Не хватало времени…
— А вы посмотрели на рекламные щиты? Помните, я вам говорила?
— Посмотрел. — И невольно рассмеялся.
— Вы теперь уже гораздо лучше смеётесь.
— Да?