De feminis Сорокин Владимир
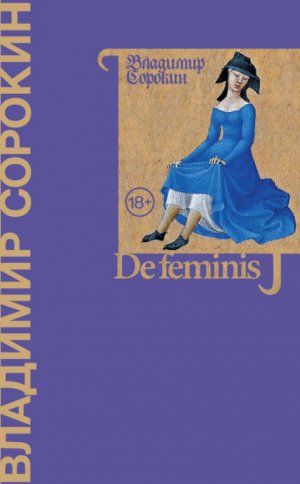
Виктория сделала глоток:
– От гниющих цветов, как от падали, тяжело становилось дышать.
Борис с ненавистью уставился на неё.
– Ну что вы яритесь, юноша. – Она спокойно выдержала его взор. – Я же не принуждала вас к договору.
– Скажите, Виктория, вы… человек?
– Сдаётся мне, что да.
– Может, вы репликант?
– Не играйте в голливудскую банальщину. Это не ваше. И не наше.
– Но я теряюсь! Просто теряюсь!
– О, ещё не всё потеряно, друг мой. – Она подняла бокал. – Хочу выпить за вашу настойчивость.
Он молча налил себе водки и тут же размашисто выпил, запрокидывая голову. Виктория отпила, покачала бокал, ловя вином уходящее золото солнца. Снова отпила.
Подошёл рослый официант.
– Я хочу рыбу из Средиземного моря, – сообщила ему Виктория.
– А я… не знаю… что-нибудь… – забормотал Борис. – Мясо… мясо какого-нибудь быка…
– Есть дорада и сибас, аргентинская говядина, свинина тамбовская, цыплята подмосковные, – забубнил официант.
– Дорада.
– Бык.
Официант исчез.
Борис снова выпил.
Виктория с полуулыбкой разглядывала его краснеющее от водки лицо:
– Вы сейчас напьётесь и начнёте читать Есенина.
– Я из него почти ничего не помню. Сыпь, гармоника, частую, частую…
– Пей, выдра, пей… – Она утопила смешок в бокале. – Пью.
Уперевшись взглядом в её бледное лицо, Борис почти запел:
– Зелёною кровью дубов и могильной травы когда-нибудь станет любовников томная кровь.
– И ветер, что им шелестел при разлуке: “Увы”, “Увы” прошуршит над другими влюблёнными вновь. Послушайте, Борис. Давайте не будем смешивать поэзию с едой. Смените слова на мясо. Временно.
Они замолчали.
Быстро прикончив двухсотграммовый графинчик водки, Борис угрюмо заказал трёхсотграммовый. Чем больше он пил, тем мрачнее становился. Виктория потягивала вино, глядя в свои миры сквозь Бориса.
Еда не заставила долго ждать: жаренная на гриле дорада и огромный стейк возникли на столе. Виктория перекрестилась и стала хладнокровно препарировать дораду. Опьяневший Борис ел громко и неряшливо. Его графин быстро пустел. Вдруг он замер, уставясь на недоеденный стейк, как на саламандру. Вскинул руку и поманил мизинцем официанта.
Тот подошёл.
– Любезный, что это? – Борис поддел ножом янтарную прослойку жира с края стейка.
– Это говяжий жир.
– Жир? – Борис поднял на официанта остекленевшие глаза.
– Жир. У рибая всегда имеется.
– Жир? Имеется?
– Да, жир.
– Говяжий?
– Да, говяжий жир.
Борис вырезал жир, положил на ладонь и отвернулся от официанта:
– Зови администратора.
Официант удалился. Борис сидел с жиром на ладони.
– Я слышала, что вы скандалите, когда выпиваете. Для стихов это хорошо?
– Совсем охамела ресторанная сволочь… – пробормотал Борис.
Лицо его налилось кровью. В остекленевших глазах вспыхнула ярость. Виктория отложила вилку и нож, дожёвывая, быстро промокнула губы.
Подошли официант и невзрачная молодая женщина на лабутенах.
– В чём проблема? – с кислой приветливостью улыбнулась администратор.
– Вот в чём! – Борис показал жир.
Но едва она открыла рот, чтобы что-то произнести, он с силой швырнул жир ей в лицо:
– Хамьё-ё-ё-ё!!
Жир попал администратору в левый глаз.
Были крики и взвизги. Был топот охраны. Был опрокинутый стул. Была неравная борьба. Была разорванная рубашка Бориса, связанного и уложенного в кабинете администратора на диван. Был угрожающий рёв Бориса в диван. Был наряд полиции. Был звонок Виктории старому поклоннику из администрации президента. Были отданные деньги. Был блюющий на набережной Борис. Был Борис, грозящий Кремлю кулаком. Был Борис, мочащийся в Москва-реку. Был Борис, читающий свои стихи Виктории и двум бомжам. Был Борис, воющий на луну. Был Борис, падающий на руки Виктории.
Он проснулся.
Солнце пробивало шторы.
Поднял голову, оглядываясь. Незнакомая комната. Книжные полки. Книги. Картина. Кабаков. Фото. Виктория. Виктория с отцом. Виктория с сыном. Юная Виктория с Бродским.
“Я у неё? O, my God…”
Он сел на узкой кровати. Рядом на спинке стула висел синий китайский халат, а на сиденье стояла бутылка воды. Он глянул на своё тело: голый.
– Так. Интересно…
Взял бутылку, открыл и жадно ополовинил.
Рыгнул. Вспомнил вчерашнее. Рассмеялся:
– Когда б вы знали…
Покачал головой: не болит. То есть совсем не болит. Фантастика.
“А! Я же блевал. Блевал? Да. Точно блевал”.
– …из какого сора растут стихи, не ведая стыда…
“Поэтому и похмелья нет…”
– Проблеваться полезно, Боря.
Встал, надел приятно прохладный халат. Завязал узкий пояс. Прошёлся босиком до двери. Открыл.
На небольшой, белой, залитой солнцем кухне пила кофе Виктория. Из белого радиоприёмника чуть слышно звучала музыка, песня, которую Борис хорошо знал: Procol Harum “Homburg”. Её любил покойный старший брат Бориса – вечный хиппи московских семидесятых.
– Доброе утро, рыцарь говяжьего жира.
Он молча вошёл на кухню.
Виктория сидела за белым столом. На ней был халат серого шёлка.
– Вашу разодранную варварами рубашку я выбросила. Остальное стирается. От моего последнего мужа остались две рубашки. К сожалению, он ещё жив, поэтому можете смело выбирать. Кофе будете? Или душ?
Он стоял. Смотрел на бледную кожу в проёме её халата. На голые колени. Она тоже была босой. Узкие ступни. Короткие, почти детские пальцы ног. Крохотные ногти. Винный лак.
Она не покачивала, а именно болтала ступнёй под столом. Совсем как девочка.
“Под халатом нет ничего”.
У него резко потеплело в солнечном сплетении.
И шевельнулся его маяковский.
– Мы… не закончили, – произнёс Борис севшим голосом.
– Да? Ну, тогда у вас последняя попытка.
Волна вольфрамовых иголок покатилась от его поясницы вверх, вверх. По спине, плечам, шее. К мочкам ушей. Знакомая колючая волна.
– Последняя строфа, рыцарь.
Он кивнул.
Развязал пояс.
Распахнул халат.
Восставший маяковский закачался над столом.
Смарагдовые глаза Виктории остановились на маяковском.
– Вот моя последняя строфа, – с трудом справляясь с дрожью в голосе, произнёс Борис. – Я жду вашу.
Она молча встала. Пальцы дёрнули кончик узла пояска. Халат упал беззвучно.
Бледное нежное тело. Острые плечи. Небольшая грудь с девичьими сосками. Стройные бёдра. Беспомощные бёдра. Завораживающие бёдра. Желанные бёдра.
– А вот моя. – Она развела их.
Её голый лобок. Розовая щель. Зашитая трижды крест-накрест. Толстой золотой нитью: ХХХ.
Борис замер.
– Простите, Борис, я не сказала вам. Уже пятый день как я прозаик, а не поэт. Я пишу великий роман. И чтобы его написать, нужно соответствовать.
Борис молча смотрел.
– Вы знаете хоть один великий роман, написанной женщиной? Хотя бы уровня “Улисса”?
– Нет… – прохрипел Борис, не в силах оторвать взгляда от золотого ХХХ.
– И я не знаю. Джойс! А что говорить о Достоевском, Сервантесе, Рабле?
Борис стоял парализованно.
– Я собираюсь нарушить эту безнадёжную, порочную традицию. Поэтому нужны радикальные решения. Я наступаю на горло своей женственности. Беспощадно!
– На… горло? За…чем?
– Метафизическая проза и женственность несовместны.
Маяковский вздрогнул.
– И… когда это…
– Я перережу? Когда закончу великий роман. А великие романы, дорогой мой рыцарь полной луны и волчьего воя, не пишутся быстро.
Легко наклонившись, она подняла халат, облачилась в шёлк, села, качнула ногой:
– Скажу откровенно, не самое уютное чувство. Но нужно терпеть. Per aspera ad astra. Так скажите, кофе или душ?
Борис стоял молча.
- You’d better take off your Homburg
- ‘Cause your overcoat is too long
- Your trouser cuffs are dirty…
Ожидаемые похмельные слёзы наполнили его глаза.
Одна из которых.
Сорвалась.
И упала.
На.
Голову маяковского.
II
Из Успенского собора вышли порознь, словно чужие. Анна обернулась, перекрестилась широко, с силой. Поклонилась, словно лбом невидимый лёд сомнений разбивая. Виктория вышла враскачку, как модель по подиуму, – руки в карманах короткой шубы соболиной, лицо бледно-узкое, секирой стрелецкой, глаза – антрацит, маслом горным сочащийся.
И тут же: тёмная толпа нищих калек по грязному снегу. Метнулась.
Анна швырнула в них приготовленными медяками. Виктория выхватила из кармана шубы большой чёрный кольт-1911. В сырой воздух пальнула.






