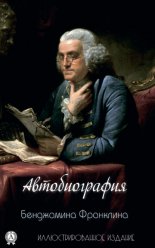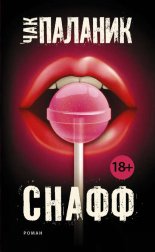Кто не спрятался. История одной компании Вагнер Яна

– Там мясо почти готово, – говорит она, радуясь поводу отвлечь их от следующего раунда. – Что у вас с углями?
И неожиданно происходит скандал.
Ваня – напирающий, яростный, в расстегнутом кожаном пальто на волчьей подкладке, перечеркнутый Оскаром, похожим на недлинный остро заточенный карандаш, – требует немедленно принести ему топор.
– Дров порубим, – говорит Ваня упрямо.
– Я принесу уголь, – отвечает Оскар. – Мы не пользуемся дровами. У нас угольное отопление, угля много. Полный подвал.
– Уголь-шмуголь, – заявляет Ваня, темнея лицом. – А топорами вы пользуетесь?
Оскар раздражает его с самого утра, но только сейчас Ваня может наконец это показать. Раньше было бы неловко, а сейчас, к концу второй бутылки, самое время. Он понимает выпитое как индульгенцию, и нужно торопиться, потому что спустя еще триста пятьдесят он вряд ли устоит перед искушением стукнуть этого надменного сморчка. Он не хочет его бить. Он хочет просто заставить его повиноваться, чтобы вернуть миру ускользающую симметрию.
– Неси топор, Оскар, – тяжело говорит Ваня и делает вдох через замерзшие, сжатые холодом ноздри. – Елку свалим.
– Мы не пользуемся дровами, – неприязненно повторяет Оскар. Невысокий, трезвый. Тонкая шея выглядывает из клетчатого отложного воротника. – И деревья рубить нельзя. Я принесу уголь.
– А в камине что у вас горит? – спрашивает Ваня зло, наклоняясь вперед, упираясь кулаками в стол.
– Для камина мы привозим, – отвечает Оскар. – Для камина у нас это…
И скрывается ненадолго за углом дома, и в звенящей тишине (никому не приходит в голову заговорить) слышно, как лязгает железом дверь и скрипят петли. Оскар возвращается; в руках у него – аккуратная серая связка, затянутая пластиковой сеткой. Он кладет ее на столешницу перед Ваней.
– Это же херня какая-то пластмассовая, – удивляется Ваня, разглядывая мумифицированные, гладкие, штучка к штучке деревяшки в упаковке со штрих-кодом.
– Они даже не пахнут ничем. Нормально, они топят вот этим говном, – говорит он, приглашая остальных возмутиться вместе с ним. – Когда у них тут елки до неба.
– Именно поэтому, – неожиданно жестко говорит Оскар, и его голос вспарывает сонный морозный воздух, – именно поэтому у нас тут еще есть елки.
– Значит, будет одной меньше, – отзывается Ваня, и глаза у него на мгновение становятся трезвые и презрительные. – Что ж вы за народ-то такой? Трясетесь над своими елочками, перрон с мылом моете. Отойди, без тебя разберемся.
Оскар делает шаг вперед. Лора видит его профиль, сделавшийся неожиданно острым как бритва. Ваня выше его на голову.
– Молчи, русский, – говорит Оскар, задирая подбородок. – Ты здесь больше не дома. Ты у меня в гостях, вот и веди себя как гость.
– Так, – быстро говорит Вадик и становится между ними. – Хватит. Устроили международный конфликт. Вы еще подеритесь тут, ну ей-богу. А что? Давай, Ваня, скидывай свой малахай. Капитан советской армии Иван Драго в красных трусах.
Вадик встревожен. Он ненавидит драки. В детстве неосторожного Вадика часто лупили, взрослым он не дрался ни разу. Он вообще не уверен, что способен в драке победить, и еще Вадик боится боли. Он поворачивается к Ване небритым красноглазым лицом и растопыривает руки, заслоняя собой Оскара, и, поскольку Вадик нетвердо стоит на ногах, части Оскара – колючий глаз, клетчатое плечико – то исчезают, то появляются вновь, так что Ваня, с облегчением давший волю копившемуся весь день раздражению и неясной тоске, некоторое время всерьез размышляет о том, что можно прямо через Вадика выцелить и все-таки свалить гаденыша. В гостях, твою мать, думает Ваня, слушая жаркое, освободительное гудение крови в ушах. Как же. Три с половиной тысячи евро за день. В гостях.
Будь Лора старше на десять лет, она сделала бы что-нибудь бессмысленно-женское, запричитала или, напротив, презрительно засмеялась. Но Лоре всего двадцать шесть, и там, где она родилась, дракой никого не удивишь. Единственное, о чем думает Лора: до тех пор, пока ее муж занят ссорой с Оскаром, он не пьет.
Оскар стоит не прячась; о чем он думает – неизвестно. С Ваниной точки зрения, насчет Оскара сейчас существует всего одна определенность: он вот-вот получит в морду.
Вадик продолжает что-то говорить и качаться, загораживая обзор, но Ваня не слушает. Он нежно берет расхристанного, протестующего Вадика за плечи и сдвигает его в сторону. С Вадиком можно все уладить и после.
Но Оскара вдруг снова кто-то загораживает. Фокусироваться Ване непросто, так что вначале он с удивлением разглядывает бледный зимний камуфляж и не способен связать его ни с одним человеком из тех, кто мог бы сейчас находиться на верхушке его, Ваниной, горы. Эта восточноевропейская гора высотой в две жалких тысячи метров над уровнем моря вся целиком, с елками, беседкой, метеными дорожками, с неприступным Отелем, чертовым старинным паркетом, дубовыми дверями и угольным подвалом, на семь ближайших дней принадлежит Ване. Он ее выкупил. Маскировочная раскраска (размытые бело-серые пятна) неожиданно заставляет Ваню вспомнить о партизанах. Разумеется, Ваня пьян. Однако дело не только в этом: в глубине души он всегда готов к тому, что посреди любого праздника с фейерверками и шампанским его, провинциального самозванца, найдут в толпе и выведут за ухо. Если копнуть поглубже, Ваня на самом деле немного чувствует себя оккупантом. Если твое детство прошло в двухкомнатной хрущобе на окраине уральского города-миллионника, задыхающегося от наркотиков и промышленных испарений, вся последующая красота, достаток и гармония до конца дней будут казаться немного незаслуженными.
Ваня делает вдох и поднимает глаза. Над чужим партизанским воротником оказывается знакомое лицо.
– Ты ведешь себя как говно, – говорит Петя.
Смирный, молчаливый Петюня, засыпающий с блаженной улыбкой после двух стаканов. Бесконфликтный, покладистый. Мягкие Петюнины черты излучают сейчас две неожиданных эмоции – отвращение и стыд, – которые Ваня, разумеется, принимает на свой счет. Ваня не знает, что он ни при чем; отвращение Петюня испытывает к самому себе. В восемьдесят четвертом году после торжественной пионерской линейки в чешском городе Либерец, на которой он, Петюня, вместе с четырьмя своими ровесниками из советского военного гарнизона, тремя мальчиками и одной девочкой, были почетными гостями, за которыми специально прислали машину, прямо во дворе аккуратной кирпичной школы чешские пионеры, симметрично помеченные красными галстуками, тщательно накормили снегом самого Петюню и трех его товарищей по несчастью. Пока Лена Коваленко (девочка, которую не тронули) беспомощно бегала вокруг и кричала: «Дураки, дураки, я все расскажу, расскажу про вас», – Петюня лежал на холодной земле лицом вниз, а на пояснице у него сидел рослый чешский пионер и держал его за волосы, намереваясь свободной рукой в очередной раз подгрести нечистого растоптанного снега и набить им беззащитный Петюнин рот. «Рус, рус!» – обидно кричали прочие пионеры, младшие братья, друзья и союзники. Петюня крепко закрыл глаза, чтобы острые снежные кристаллы не поцарапали роговицу, и мечтал о советской атомной бомбе. Отвращение и стыд, которые душат Петюню сегодня, спустя тридцать лет, вызваны тем, что, услышав отрывистое Оскарово «Молчи, русский», он вспоминает соленый вкус либерецкого снега во рту и с этой секунды сопротивляется острому желанию выбить Оскару передние зубы. Одновременно понимая, что, как обычно, даже на своей собственной земле Оскар щупл и одинок и потому, безусловно, прав. Оставшись один на один с Оскаром, некрупный Петюня поддался бы искушению. Но разрешить то же самое длиннорукому тяжелому Ване никак нельзя. Некрасиво. Неправильно.
Пока Петюня отрезвляет Ваню своим отвращением и стыдом, которые лично к Ване не имеют никакого отношения, позади возникает и Егор.
– Оскар, вы простите нас, пожалуйста, – говорит он и приобнимает окаменевшего, яростного Оскара за плечи. – Мы устали и надрались, ну нельзя столько пить натощак. Ваня – отличный мужик и ничего такого не имел в виду, конечно. Просто он становится чересчур, э-э-э… брутален, когда выпьет.
Егор тактичен и ничуть сейчас не фамильярен. Лицо у него встревоженное, голос расстроенный. Оттолкнуть руку, которую он протягивает, было бы не по-европейски. В конце концов, из четверых нетрезвых русских трое никакого конфликта не хотели.
– А давайте мировую, – предлагает Вадик с облегчением, и у Лоры падает сердце. Паузы не случилось. Они снова будут сейчас пить.
Гнев оседает медленно, как чаинки на дно взбаламученной чашки. Впереди при этом семь дней вынужденного общения, и по крайней мере этот факт ни Оскар, ни Ваня изменить не способны. Оскар – человек здравомыслящий, а на Ваню неожиданно сильно подействовало Петюнино лицо; оба готовы сделать над собой усилие. Мировую действительно нужно выпить.
Рюмок по-прежнему пять, по количеству мужчин, – они ведь не рассчитывали на Лору. В эту минуту Лоре кажется, что на нее здесь не рассчитывал никто – ни внутри Отеля, ни снаружи. Тянуть с примирением тем не менее неразумно, так что Егор просто выплескивает не допитый Лорой виски на снег (она отмечает и этот жест как дополнительное доказательство своей второстепенности) и наполняет рюмки заново. Оскар тоже видит, что ему придется пить из чужой посуды. Между прочим, он вообще не собирался с ними пить, а теперь каким-то непостижимым образом это стало единственной возможностью сохранить мир на его горе, если, конечно, Оскар так же считает гору своей. Что именно думает Оскар – по-прежнему загадка. Возможно, ему пришло в голову, что с этими русскими всегда так: как бы ни развивались события, рано или поздно все сводится к выпивке. Может быть, Оскар жалеет о том, что его гости на эту неделю – именно русские, а не, допустим, немцы. Или англичане. С другой стороны, и немцы, и англичане тоже изрядно пьют.
– Ладно, не сердись, – произносит Ваня с усилием и поднимает свою рюмку.
Он чувствует, что неправ, но фразу «Молчи, русский» забыть нелегко, и, чтобы как-то нейтрализовать это колючее воспоминание, он намеренно будет говорить Оскару «ты», это понимают они оба.
– Мир?
– Мир, – кивает Оскар.
Они пьют.
– Кстати, Оскар, – с любопытством спрашивает Егор, – откуда вы так хорошо знаете русский?
Егор – профессиональный собеседник. Адвокаты должны быть симпатичными, иначе у них не будет клиентов. Егора можно оставить в комнате, заполненной мерзавцами и занудами, и через час все они скажут, что он славный парень и свой в доску.
– Мы учили русский в школе, – звучит нейтральный ответ, и Петюня немедленно вспоминает «Рус, рус!» и вкус грязного либерецкого снега, и виски начинает горчить у него во рту.
– Я закончил в Москве педагогический институт, – признает Оскар спустя минуту. – Моя специальность – русский язык и литература.
– Девки, наверное, давали, – смеется Ваня, неожиданно теплея, – с таким-то акцентом.
– Это было давно, – неопределенно отвечает Оскар, но потом все-таки продолжает: – Ваши женщины действительно любят иностранцев.
Он маскирует вызов равнодушной интонацией, но ему тоже нужна компенсация за чужую рюмку, из которой пришлось пить, за Ванино барственное «ты», за унизительный недавний скандал.
Из-за угла Отеля раздается веселый снежный хруст и нежные голоса. Небыстро, со смехом, нагруженные вином, бокалами и салфетками, торжественно держа перед собой прямоугольную стеклянную емкость, на дне которой дремлет покорившаяся маринаду бледная свинина, приходят женщины; как раз вовремя для того, чтобы вернуть чуть было не ускользнувшую гармонию, придать смысл всему, что происходит под легкой крышей элегантной отельной беседки. Словом, сделать то, что оказалось не под силу Лоре. И все разом чувствуют облегчение, включая Лору, которая может оставить наконец бесплодные попытки нести ответственность за то, как ведут себя опасные непредсказуемые взрослые. С этой самой секунды, даже если Ваня напьется насмерть, даже если он сегодня кого-нибудь убьет, Лора будет не виновата. Она нащупывает на столе рюмку (опять недопитую), которую они теперь делят с Оскаром, и опрокидывает ее. Поражение нужно уметь принимать с достоинством. В конце концов, она тоже умеет напиваться.
Никто еще этого не понял, но брошенную Лорой эстафету сегодня некому подхватить. Лизино золотое тепло, Танина деятельная злость, Машина сентиментальная нежность и даже Сонина деспотичная, необоримая харизма, вопреки обыкновению, направлены в разные стороны и не имеют своего обычного магического эффекта. Напрасно неискушенной Лоре все они, в который раз собравшиеся вместе, по-прежнему кажутся цельным, непроницаемым снаружи куском янтаря; сегодня это неправда. Нехорошая трещина уже появилась, взрезала и раскрошила двадцатилетнюю понятную и привычную связь, которая их объединяла. Что-то сдвинулось. Может быть, пока они плыли в стеклянной коробке поперек лилового зимнего неба, а может, и после, когда один из них, по крайней мере кто-то один, вдруг понял, что гора, отрезанная от остального мира сложной системой стальных канатов и лебедок, – необитаемый остров. И осознал свое безнаказанное одиночество, пусть краткосрочное, семидневное, но от этого не менее бесповоротное. Безнаказанное одиночество обязательно толкает нас к поступкам, на которые в других обстоятельствах невозможно решиться.
Спустя каких-нибудь четыре с половиной часа после того, как женщины, смеясь и болтая, добрались до беседки и принесли с собой недоступную мужчинам нежную, зыбкую радость бытия, и симметрию, и порядок, и смысл; самое большее через четыре с половиной часа угли уже остыли, мясо съедено, а виски выпит. Тьма выполнила свое обещание и обступила Отель, сжала его в черном кулаке. В беседке темно, и окна больше не горят – ни на первом этаже, ни в спальнях. Забытый киловаттный фонарь над крыльцом в одиночку плохо справляется со своей задачей, ему не хватает сообщников; и неровный рыжий язык электрического света обнажает никому не нужный, испещренный следами треугольник снега перед входом, слепую стриженую изгородь из карликовых туй и раскатившиеся пластиковые лыжи.
Отель – тяжелый, значительный – лежит на боку, будто сонная рыба, поворотившись к небу своими спальнями. Если срезать крышу, в спальных ячейках второго этажа, как в сотах внутри пчелиного улья, можно увидеть всех, кто проводит здесь ночь.
Ваня, грузный, бессильный и голый, спит на спине поверх одеяла. Голова его запрокинута, рот открыт. Он делает подряд четыре глубоких вдоха и выдоха, а на пятом его безвольный, парализованный алкоголем язык западает, соскальзывает в горло, и на следующие тридцать секунд Ваня превращается в неодушевленный, подготовленный к смерти кусок мяса – до тех пор, пока воздух не начинает бурлить, вырываясь из опадающих легких, и не выталкивает язык обратно. Лора жмется длинной худой спиной к жаркому Ваниному боку и подгибает колени, как щенок на сквозняке. Она не спит. Слушает ритмичную, раз в пять вдохов и выдохов, краткосрочную Ванину смерть и не знает, чего бы ей хотелось сильнее: чтобы он повернулся наконец на бок или чтобы перестал дышать совсем.
Через стену Лиза погружает пальцы в узкое перламутровое нутро контейнера с кремом и втирает его в белые сияющие плечи, в розовые локти. С постели Егор жадно наблюдает ее ленивые сонные движения и завидует мягкому полотенцу, которое она подстелила, прежде чем сесть на установленный перед зеркалом гнутый табурет. Когда Лиза наконец ложится рядом, прохладная, душистая и еще влажная от крема, он кладет руку ей на бедро. Бедро мгновенно оборачивается чужим, возмущенным камнем; кожа становится ледяной и скользкой, как рыбья чешуя. Он убирает руку и закрывает глаза.
Маша сидит по-турецки на широком подоконнике. Окно распахнуто, в комнату плавно затекает сладкий морозный воздух. Просторная двуспальная кровать не разобрана, на полу – пепельница, полная окурков. В Машиной руке – телефон; она расплатилась теплом своей спальни, отдала свою правую руку ночи. Именно сейчас Маше невыносимо, до слез хочется поговорить с мамой, но Оскар был прав. Сотового сигнала нет.
Петюня лежит ничком, занимая во сне не больше места, чем во время бодрствования, держит руки вдоль тела. Таня тянется и проверяет, дышит ли он, хорошо ли укрыт. Она только что открыла форточку – не умеет спать в духоте, – но Петюня легко простужается, и надо убедиться, что его не продует. Тане ясно, что быстро она не заснет. Она подтягивает одеяло повыше и открывает ноутбук. В правом углу пустого экрана укоризненно мигает курсор.
Голый Вадик – на дне элегантной душевой кабины: неглубокий белоснежный поддон, матовые раздвижные двери, два латунных крана с четырьмя лепестками (Hot и Cold). Он сидит, подставив макушку и плечи постепенно остывающей струе воды, и вспоминает Лорины длинные тонкие ноги, которые никогда будто бы даже и не распрямляются до конца. Прекрасная паучиха, думает Вадик, сжимая себя правой рукой, и немного стыдится этой своей мысли.
На первом этаже, в аскетичной смотрительской каморке, зажатой между парадными гостиной и кухней, на узкой кровати застыл Оскар, трезвый, бодрый, несонный. Он думает о том, что четверть часа назад увидел через широкие окна общей гостиной. Оскара сложно чем-нибудь испугать, но сейчас он сидит, плотно обхватив руками плечи, и ему на самом деле очень не по себе.
Сонина спальня пуста. Соня лежит на дне неглубокой скалистой террасы в двухстах метрах от Отеля, мертвая, с двумя дырками от лыжной палки: в левом легком и в низу живота.
Спустя еще полчаса начинается ледяной дождь. Холодный сухой воздух, пришедший с Запада, со стороны чопорного благовоспитанного Евросоюза, прямо над Ваниной горой, на высоте нескольких километров яростно сталкивается с мокрым и теплым ветром, принесенным с Востока. Влага не успевает охладиться до нужной температуры и выпасть в виде снега. Ошалевшие молекулы воды, минуя хрупкую снежную стадию, рушатся вниз на канатную дорогу и обволакивают толстой стеклянной коркой стальные канаты и могучие лебедки, приводящие их в движение. Запечатывают двери спящего у платформы вагона. Засахаривают окружившие Отель столетние ели и сосны. Вода, льющаяся с небес, замерзающая по пути, терпеливо превращает Сонино обращенное к небу лицо в посмертную маску, заклеивает отельные окна мутной холодной пленкой. И даже надежные ступеньки каменного крыльца покрывает жирным, как сало, слоем льда.
Глава шестая
Поздний зимний рассвет вползает на гору, осторожно растворяя сумерки, и накрывает Отель, пытаясь разглядеть за оконными стеклами его теплую начинку: там, внутри, пахнут лавандой белоснежные постели, дуются туго обтянутые телячьей кожей диваны, спят в кухонных шкафах фарфоровые шеренги тарелок и жмутся друг к другу вощеные паркетные доски. Все напрасно: окна потеряли прозрачность. Они заклеены льдом, будто ночью кто-то перевернул над Отелем гигантское ведро холодной воды, а затем открутил до нижнего предела невидимый термостат, и теперь тяжелый двухэтажный дом со сливочными фасадами и шоколадными балками, с каменным крыльцом, темной черепичной крышей и частоколом дымоходов тускло мерцает, словно проглоченный ледником, запертый внутри прозрачного ледяного желудка.
В этот утренний час девять человек, четыре женщины и пятеро мужчин, как конфеты в коробке, неподвижно лежат в своих постелях, побежденные сном. Безмятежные. Одинаково невиновные, по крайней мере до тех пор, пока не проснутся; потому что, когда мы спим, на земле остается только наше опустевшее тело, которое само по себе невинно. Девять безгрешных, словно младенцы в колыбелях, не помнящих себя, бессмысленных тел и десятое, тоже покинутое – только уже навсегда, – снаружи, на черных замерзших камнях. Сломанное, продырявленное, застывшее, это тело спокойнее других. Ему не нужно дышать, толкать по венам густую кровь, чувствовать холод или жар, менять положение; у него осталась последняя задача – ждать, когда его найдут. Оно тереливо.
А потом души спящих начинают свое возвращение, падают вниз сквозь туман, и влагу, и густые сизые облака, и стеклянные еловые ветки. Души ныряют под тяжелую блестящую крышу, недолго кружат по тихим коридорам, ища свое место, и находят. Не сразу, одна за другой.
Лиза открывает глаза. Поднимает руку (рука плывет в полумраке спальни, белая, как ленивая птица) и убирает с лица прядь волос. Лиза видит деревянные потолочные балки, бледные цветы на обоях, посторонний тусклый свет, льющийся сквозь чужие окна, и на минуту чувствует острую тоску. Лиза хочет домой. Она давно разлюбила путешествовать; ей не нравятся постели, застеленные другими руками, и еда, приготовленная незнакомцами. Не надо нам было ехать, отчетливо понимает она, и вдыхает голубой лавандовый аромат, и морщит нос – ей не нравится запах. Там, дома, ее наволочки пахнут апельсиновой цедрой и цветами шиповника; дома все иначе. Она поворачивает голову (подушка крахмально шелестит под ее щекой) и смотрит на спящего Егора. Во сне он выглядит моложе. У него грустные брови домиком и жалобно приоткрытый рот, и, кажется, он заплачет сейчас, не просыпаясь, и вот-вот придется протягивать к нему руки, прижимать к груди его горячую голову и баюкать: тише, ну что ты, что ты, все хорошо. Лизе хочется прикоснуться к Егору, искусственный загар отражается от жемчужной подушки усталой беззащитной желтизной, но, проснувшись, он обязательно захочет любви и станет возиться, кисло дышать в висок, исцарапает и нарушит сухую цельность Лизиной кожи. А Лизе нужна не любовь. Ей нужен дом: привычный, знакомый, где все правильно и хорошо. Так, как должно быть.
Она опускает босые ноги на пол, вырывается из объятий колышущегося мягкого матраса и замирает на время, пока Егор со вздохом меняет позу. Встает и идет к зеркалу. Там ее ждет круглое розовое лицо – рыжие ресницы, крепкий подбородок. Расчесывая волосы, закалывая их в узел, она без улыбки смотрит себе в глаза и думает: омлет. Чудесный пышный омлет с шампиньонами и петрушкой. Редкое утро нельзя исправить хорошим омлетом. Пятью минутами позже, умытая, в джинсах и свитере поверх легкой хлопковой майки (сегодня в Отеле неожиданно прохладно), она спускается по темной деревянной лестнице, из которой каждый крепкий шаг ее извлекает деликатный, уютный скрип.
В кухне Лизу ждут два сюрприза: затянутое мутной ледяной коркой высокое окно и хмурая тощая девочка, Ванина жена. Все-таки пропало утро, думает Лиза, которая встает рано не просто так, а потому, что любит одиночество и солнечные блики на столешнице из восточного окна, и пустые стулья, и сытый блеск мясистых листьев подаренного Машкой денежного дерева. В этой кухне нет ничего – ни солнца, ни капризного цветка, ни одиночества. Девочка уселась прямо на стол, сплела тонкие джинсовые ноги и отгородилась от двери, от Лизы, от всего двухэтажного Отеля горестной обиженной спиной. Лиза берется за ручку холодильника, и только тогда девочка поворачивает нечесаную голову и говорит с упреком:
– Света нет.
Холодильник встречает Лизу темным тающим нутром. В прозрачных нижних контейнерах сдержанно разлагаются овощи. Презрительно замерли яйца в дверце. Секунду она глядит, пристыженная, виноватая, а затем ныряет внутрь и набирает: молоко, десяток яиц, зелень, грибы и попавшийся под руку рыжий, без дырок сыр. К счастью, плита газовая. Неважно, есть электричество или нет, – омлет уже не предотвратить.
Лиза взбивает яйца с молоком, крошит шампиньоны и сыр. Девочка наблюдает за ней искоса и молчит, и это оглушительное молчание неожиданно мучает Лизу. Да, девчонка противная. Смешные неудобные одежки, недовольное личико. Она похожа на вокзального беспризорника, злого цыганенка с волчьими глазами, которого бессмысленно гладить и кормить – укусит руку. Но в Лизиной кухне все должны быть счастливы, и поэтому она, расставляя сковородки, все-таки улыбается и произносит:
– А давайте мы, Лариса, кофе сварим. Да? Кофе.
Девочка болезненно кривит лицо и отворачивается, и спина ее ощетинивается острыми позвонками. Безнадежно, с облегчением понимает Лиза.
Лора, думает Лора. Меня зовут Лора. Это ведь нетрудно запомнить: не Лариса. Лора.
Обесточенная кофеварка безжизненно мерцает хромом, и Лиза варит кофе по старинке, на плите. Устанавливая над пылающей конфоркой пузатую турку, она вдруг расплескивает воду и, глядя на свои дрожащие руки, чувствует неожиданный приступ паники. С этого мгновения она начинает спешить, словно надеется, что потеющие под прозрачными крышками толстые омлеты и густой кофейный дух защитят ее. Кухня послушно наполняется запахами; трепещет и опадает желтоватая кофейная пена, но спокойствие не возвращается. Девочка зябко жмет колени к подбородку и глядит в слепое, как бычий пузырь, окно. Лиза не может унять дрожь в руках.
Где-то за стеной лязгает массивная входная дверь, и обе женщины вздрагивают и смотрят друг на друга. Не заперли, со страхом вспоминает Лора. Мы одни, все спят, думает Лиза, никто не услышит. Ни одной из них не приходит в голову, что гора – это остров, необитаемый и отрезанный от внешнего мира. Что любая опасность, которая могла бы грозить им сейчас, должна находиться внутри, в доме. Они слушают тяжелые шаги в коридоре и скрип паркетных досок; они не шевелятся и не предпринимают ничего, и только глядят друг другу в глаза, и в эту секунду ощущают близость, которая раньше между ними не возникала. А потом на пороге кухни появляется Оскар, замерзший, с алыми морозными пятнами на щеках и бледным носом. Детское пальтишко забыто, теперь на нем толстая клетчатая куртка с белым овчинным воротником, благодаря которой он делается будто шире в плечах и немного напоминает канадского лесоруба. Небольшого канадского лесоруба.
– Оскар, – с облегчением выдыхает Лиза. – Света нет, вы знаете? Холодильник не работает.
Оскар кивает серьезно, без улыбки.
– Да, – говорит он. – Ночью был ледяной дождь. Провода обледенели. Скорее всего, где-то обрыв, к нам на гору ведет всего одна линия электропередач.
И, поскольку женщины молчат, добавляет:
– Приношу свои извинения. Это большая редкость – ледяной дождь. Форс-мажор. Пожалуйста, не беспокойтесь. Неудобства будут, но мы не замерзнем. Вилла отапливается углем, я только что подбросил в котел. Достаточно делать это утром и вечером, и будет тепло. У нас есть свечи и фонарики, а запасов еды нам хватит на неделю.
– На неделю? – хрипло спрашивает Лора. – Раз нет света, зачем нам сидеть тут неделю?
Лиза оборачивается к девочке.
– Электричество, – терпеливо говорит она в темные тревожные глаза. – Без электричества мы не сможем спуститься с горы, да, Оскар?
Оскар кивает.
– Все это ненадолго. Сильных морозов у нас не бывает, лед растает быстро, и линию немедленно восстановят. Я думаю, нам придется пробыть без света от силы несколько дней.
Омлеты уверенно шипят на сковородах, пузырясь и вспучиваясь, как желтая лава. Кофе благоухает, сжатый между медными стенками турки. Маленький человек в клетчатой куртке лесоруба стоит смирно, глядит себе под ноги и произносит одно спокойное слово за другим, но Лиза внимательно рассматривает его и понимает вдруг, что в этом неподвижном лице спокойствия нет. Что он ни разу не поднял глаза. Лизины безмятежные, наивные времена давно позади. Она умеет различать, когда ей врут.
Прежде чем Лиза успевает придумать способ, как заставить Оскара взглянуть на нее (тогда она, пожалуй, поймет, какой вопрос ему нужно задать), лестница снова мягко скрипит, пропуская с верхнего яруса на нижний кого-то еще, вынырнувшего из бесчувственной невинности сна. По шагам невозможно определить, кто идет, и три человека, находящиеся в кухне, оборачиваются и смотрят в дверной проем. Лиза хотела бы сейчас увидеть Машу, но богемная Машка редко встает раньше двенадцати.
Лора ждет Ваню. Утренний Ваня другой: бледный, больной и спокойный. Управляемый.
Оскару безразлично, кто появится в дверях. Он знает только, что это будет не Соня.
– Кофе! – слабо восклицает Вадик с порога.
Этим утром он выглядит еще хуже, чем накануне. У него мятое лицо и тяжелые, отечные веки. Кроме того, у Вадика дрожат руки; как все алкоголики, до полудня Вадик не человек.
– Омлет, – стонет Вадик, втягивая носом воздух, и, осторожно переставляя ноги, словно они стеклянные, аккуратно усаживается к столешнице.
Видно, что ему до смерти хочется прислониться лбом к прохладной керамической плитке, но при всех это сделать было бы неловко.
– Лиза, золото… – начинает он мужественно.
Не дожидаясь продолжения, она поворачивается к холодильнику и вынимает покрытую легкой испариной зеленую бутылку пива. Отпаивать похмельного Вадика кофе бессмысленно; это знают они оба, и обсуждать давно уже нечего.
– Лиза, золото, – повторяет он с другой теперь интонацией, сворачивает пробку и пьет из горлышка, вздрагивая и шумно дыша носом.
– А вот теперь – кофе, – говорит Лиза и ставит на стол чашки.
Словно услышав ее, на втором этаже в полутемной спальне Егор открывает глаза. Как и его жена час назад, он недолго разглядывает незнакомые стены и потолок и чувствует примерно то же: острое желание оказаться дома. Ему не нужно поворачиваться для того, чтобы определить, что Лизы нет рядом; постель пуста, и под весом его одинокого тела чересчур мягкий матрас превратился в шуршащий крахмалом белоснежный кокон. На мгновение Егору кажется даже, что постель продолжает неслышно прогибаться под ним, и он проснулся именно потому, что почувствовал, как его осторожно затягивает в лавандовую свежесть, края которой вот-вот сомкнутся над его головой, как зыбучий песок. Он резко садится, стряхивая одновременно этот мимолетный морок и остатки сна. Лизы нет. Егор помнит сумрачные зимние утра, рыжую реку волос поперек подушек, горькие ночные губы и белый жар, и как она любит, чтобы ей закрывали рот рукой, потому что не хочет будить детей. И как потом смеется ему в плечо. Он только не может вдруг сообразить, когда все это было в последний раз, и неожиданно чувствует себя старым и больным. От сибаритского матраса у Егора ноет спина, во рту несвежий вчерашний привкус. Побриться и постоять под горячим душем, думает он, и решительно встает с кровати, и идет в ванную, с каждым шагом безуспешно пытаясь вернуть ощущение безопасности и благополучия; и понимает, что утро погибло, еще до того, как щелкает выключателем.
Он стоит в темноте напротив тусклого зеркала, в котором отражается его ослепший, голый, яростный силуэт, и говорит: черт, черт, черт. Утро Егора состоит из ритуалов, и первыми в списке стоят обжигающий душ и бритье. Вернувшись к выключателю, он нажимает безжизненную клавишу раз, другой, третий. Ему приходит в голову: случись такое где-нибудь в Альпах, достаточно было бы накинуть халат и позвонить портье. Любое вторжение постороннего человека в твою спальню, где уже смята и использована постель, унизительно и невыносимо, но в гостиничных номерах с этим так или иначе приходится мириться всякий раз, когда в дверь стучится горничная с комплектом свежих полотенец. Или электрик с набором инструментов. Зато потом он мог бы открыть наконец горячую воду, зажмуриться и стоять под ней десять минут, раскаляясь, очищаясь, смывая с кожи тревожную ночь. Что бы там вчера ни говорили Ваня с Вадиком, этот их хваленый Отель – всего-навсего старомодный неуклюжий дом, в котором нет ни портье, ни телефона на ночном столике. Кто знает, есть ли у них запасные лампочки. Он приглаживает волосы, еще раз пытается разглядеть свое невыбритое вчерашнее лицо в мерцающей зеркальной мгле и возвращается в спальню. Бриться перед туалетным столиком, за которым Лиза накануне втирала крем в сияющие плечи, неудобно и глупо. Егор натягивает джинсы и вытаскивает из чемодана синий кашемировый пуловер, безотчетно повторяя выбор одежды, сделанный часом раньше его женой, как если бы то, что они проводят теперь свои утра поодиночке, можно было опровергнуть свитерами одинакового цвета. Прежде чем покинуть спальню, он проверяет свой телефон и с раздражением обнаруживает на экране надпись No service; о том, что на горе не работает мобильная связь, Егора никто не предупреждал, и сейчас ему кажется, что вернуть сотовый сигнал так же реально, как починить свет в ванной. Достаточно просто найти Оскара, полагает Егор. Сегодня до полудня ему нужно сделать несколько важных звонков и отправить два мейла.
Возле лестницы он сталкивается с Таней. Непричесанная, с отекшим сонным лицом, закутанная в бесформенный шерстяной платок, в полумраке коридора она вдруг напоминает Егору неопрятную чужую старуху, мать-волчицу из фильма про Красную шапочку.
– Ты что это, Танька, – говорит он, и отчетливо слышит испуг в своем голосе, и хмурится, стыдясь этого испуга.
– У вас свет есть? – спрашивает Таня. – В нашей спальне все розетки сдохли, ноутбук разрядился. Чертова гора. И холод еще собачий…
– Нет. Нет света. Черт знает что такое, – хрипло отвечает Егор, и они спускаются по лестнице, охваченные желанием призвать Оскара к ответу за сырое неприятное утро, за тоску и тревогу.
А кухня освещена Лизой, согрета желтыми омлетами и кофе. От самых дверей становится ясно, что здесь единственное место в доме, где отключение электричества не имеет над ними власти. Дымятся чашки. Стопка чистых тарелок смирно ждет на краю столешницы. Вадик приветственно машет вилкой и произносит с набитым ртом:
– Слышали новость? Обвал! Лавина! Кораблекрушение. Еды осталось на семь дней. Налетай.
– Трепло ты, Вадик, – говорит Таня. – У меня ноутбук разрядился.
Егор смотрит на Лизу, которая дирижирует завтраком. Она поднимает на него глаза и молча, через стол переливает ему свое беспокойство.
– Объясните им, Оскар, – говорит она мягко и спешит вернуться к своим тарелкам.
Пока они рассаживаются, подставляют чашки для кофе и допрашивают Оскара, Лора встает, надеясь, что теперь-то никто не обратит на нее внимания (она права, им действительно не до нее), и выходит из кухни. Стараясь не скрипеть деревянными ступенями, она поднимается по лестнице, пересекает безмолвный пасмурный коридор и возвращается в спальню, где на кровати тяжело, словно камень, лежит Ваня. Она устраивается рядом поверх одеяла, приподнимается на локте и заглядывает ему в лицо, и старается думать как можно громче: Ваня, Ванечка, проснись, ну проснись, пожалуйста.
Еще через час в кранах и туалетных бачках заканчивается вода. В этом нет ничего удивительного, объясняет Оскар. На чердаке установлен пятисотлитровый накопительный бак, и воду туда подает электрический насос, который мертв уже несколько часов. Но это не страшно, говорит Оскар. В отеле есть дизельный генератор; если каждый вечер включать его ненадолго, топлива хватит, чтобы наполнить бак и зарядить аккумуляторы в фонарях (и компьютеры, добавляет Таня; да, и компьютеры, соглашается Оскар). Разумеется, придется обходиться без бойлеров и горячего душа, но воду, в конце концов, можно греть на плите. Оскар произносит все, что требуется, но не очень усердствует. Увиденное прошлой ночью из окна гостиной позволяет ему предположить, что у его гостей очень скоро возникнут проблемы посерьезнее отсутствия горячей воды.
Они еще не хватились Сони. Покончив с завтраком, все бесцельно бродят по дому, разбредаются по обесточенным спальням и возвращаются назад, словно вместе с электричеством из спален исчезло что-то еще, что-то важное, превратив уютные комнаты со свежими постелями в пустые деревянные коробки, непригодные для жизни. Они выходят на остекленевшее, опасно скользкое крыльцо и, держась за плачущие под ладонями перила, с удивлением оглядывают гигантскую ледяную декорацию, в центре которой оказались: неподвижные хрустальные деревья, сахарную живую изгородь, вмерзшие в площадку перед крыльцом пластиковые лыжи, похожие на просыпавшиеся из коробки разноцветные леденцы. В опустевшей кухне Лиза какое-то время сортирует продукты: это нужно съесть в первую очередь, это можно завернуть и хранить снаружи, на холоде; но пассивная растерянность рано или поздно побеждает и ее, заставляя бросить все на середине и отправиться искать остальных. В конце концов, им нужно собраться вместе и поговорить. Обсудить положение, в которое они попали. Продумать план действий.
Неудивительно, что рано или поздно все собираются в гостиной, где тихий Петюня как раз заканчивает разводить огонь в камине, воспользовавшись упаковкой блеклой магазинной древесины. Вадик после недолгих раздумий откупоривает бутылку портвейна; природные катаклизмы не означают, что отпуск следует проводить безрадостно. Маша, поднявшаяся после полудня (на этот счет Лиза была права), приходит, сжимая в руке онемевший мобильник. Узнав о ледяном дожде, обездвижившем канатную дорогу, она бледнеет и вцепляется пальцами в подбородок, и говорит: мама, о господи, мама сойдет с ума, если я ей сегодня не позвоню, – морщит лицо и вдруг плачет, и они хлопочут вокруг, перебивая друг друга, и повторяют недавние Оскаровы обещания: всего несколько дней, Машка, ну перестань, Машка, – не из жалости к требовательной Машиной маме (которая им не нравится), а потому что им тошно от Машиных слез. Свершившееся накануне зло, еще не обнаруженное, тем не менее густо разлито в воздухе и попадает к ним в легкие с каждым вдохом.
И когда появляется Ваня, воскресший наконец от Лориных оглушительных мыслей, они говорят: ну ты представляешь? И снова рассказывают «все обледенело, света нет, спуститься нельзя, вода кончилась, холодильник умер» вовсе не для того, чтобы он решил проблему – проблема сейчас неразрешима, – а просто затем, чтобы он разгневался. Они отравлены многочасовой смутной тревогой, у них уже ни на что не хватает сил, а Ваня гневлив и несдержан. Им хочется, чтобы он раскричался и освободил их. Пока они говорят, Оскар сидит, прижавшись к диванному подлокотнику, как и накануне вечером, – прямой, безмолвный – и смотрит. И слушает. Оскар ждет, когда они сообразят наконец, что собрались в гостиной не все.
– Так, – говорит Ваня. – Пошли, прогуляемся до канатной дороги, пока светло. Посмотрим, что там и как.
Удивительно, что эта мысль никому еще не пришла в голову. Выйти наружу. Увидеть своими глазами. Что, если канатная дорога в порядке? Вдруг ледяным дождем отрезало не гору целиком, а один только Отель, и они потеряли напрасно целое утро? Они поднимаются, оживленные, взбудораженные, и спешат за куртками и ботинками (Оскар идет за ними), и уже в прихожей, в толкотне и суматохе, кто-то говорит вдруг:
– Ребята, а Соня-то. Надо Соню разбудить, она проснется – а в доме нет никого!..
И тут становится очень тихо. Это неприятная, необъяснимая пауза, в течение которой они смотрят друг на друга и не произносят больше ни единого слова, а потом все разом, полуодетые, в зимних ботинках, бегут по лестнице вверх. В коридоре второго этажа происходит небольшая заминка, пока они пытаются определить, которая из спален Сонина, потому что для этого требуется вспомнить, где их собственные комнаты; но и здесь они умудряются обойтись почти без слов, не отвлекаясь на них. Нет, здесь мы, а это наша, не сюда; и вот они распахивают нужную дверь и застывают на пороге, заглядывая друг другу через плечо, и Оскар стоит за их спинами, напряженный и внимательный, и жалеет, что не видит их лиц.
В Сониной спальне такое же тусклое слепое окно, залепленное снаружи ледяной коркой. На кровати покоится распахнутый чемодан с вывороченным, взбаламученным нутром. Покрывало смято, но не сдвинуто. Очевидно – и они даже не чувствуют удивления, словно с самого начала знали и только забыли на какое-то время, – этой ночью здесь никто не спал.
Глава седьмая
Снаружи Отель похож на игрушечный домик в хрустальном шаре. На корабль в бутылке. На большой леденец. Вдевятером они стоят на застывшей и скользкой, как поверхность катка, площадке перед крыльцом. Они переглядываются. Смотрят вверх, в белесое небо. До сумерек еще далеко, время есть. За двумя поворотами стеклянной тропинки, в нескольких сотнях шагов от них лежит Соня – на спине, повернув к низкому небу накрытое снегом лицо. Звать ее бесполезно, но об этом знают только двое из девяти; остальные могли бы разбежаться по стеклянным тропинкам и кричать, но, оказавшись на улице, первые несколько минут они не делают ничего и просто толпятся возле одетого льдом крыльца, разглядывая замерзший водопад ступеней и хрустальные трубы перил, и чувствуют себя попавшими на морское дно или в соляную пещеру.
– Ну что же, – наконец говорит Оскар. – Канатная дорога – там, – и показывает рукой, выбирая один из шести одинаковых просветов между черными елями, и тогда остальные, глядя поверх Оскарова хрупкого плеча, неожиданно догадываются, что без этой подсказки ни за что не узнали бы дорогу, по которой почти километр волокли вчера свои чемоданы, потому что обратный путь всегда, во всех без исключения случаях выглядит иначе.
Это ставит крест на первоначальной идее – разделиться и искать Соню. У чистенькой европейской горы, несмотря на аккуратные просеки и симметричные тропинки, все равно хватит сил для того, чтобы заставить их здесь заблудиться.
Так что, когда Оскар выбирает тропинку, ведущую к канатной дороге, они все идут за ним. Гуськом, молча, как утята, переходящие шоссе за своей матерью. Он шагает уверенно и быстро, и, чтобы не отстать, они послушно семенят за ним след в след, глядя только себе под ноги, мучительно повинуясь заданному им темпу, и потому не замечают подо льдом тусклое, как замороженная брусника, пятно крови в пяти шагах от крыльца, среди разбросанных пестрых лыж. Двадцать минут подряд они идут молча, оскальзываясь, с трудом удерживая равновесие, выдыхая густые облачка пара. Они сосредоточенны, как люди, опаздывающие на поезд. Как дети, спешащие к первому уроку, угнетенные необходимостью попасть куда-то вовремя. Не замечающие хрустальной черно-белой красоты.
У самой платформы их встречают скомканные, изуродованные льдом Лорины сапоги, свернутые, как два кошачьих тельца. Лора могла бы сократить время, в течение которого все стоят над неузнаваемыми комками кожи, пытаясь угадать их природу, но вместо этого втягивает голову в плечи и молчит. Причина, по которой она бросила здесь на погибель эти два шедевра итальянского кожевенного промысла, сегодня непонятна ей самой. В конце концов Ваня тяжело садится на корточки и осторожно трогает хрусткую кожаную изнанку.
– Погодите, – говорит он удивленно. – Это же… – и оглядывается на Лору.
– У меня каблуки застряли, – быстро, виновато говорит она.
Странным образом этого аргумента оказывается достаточно, и никто не задает Лоре ни единого вопроса. Похоже, они действительно считают ее взбалмошной идиоткой, поступки которой не стоят любопытства. А может быть, дело в канатной дороге, которая – вот она, в десяти шагах, прямо у них над головой.
Вагон напоминает лежащий на боку прямоугольный айсберг, гигантский кубик льда из автомата для коктейлей. Мутный слой замерзшей воды непроницаем; даже появись каким-нибудь чудом ток в тяжело провисших проводах, автоматические двери все равно бы открыть не удалось. Чтобы добраться до дверей, лед пришлось бы разбивать обухом топора. К счастью, в этом нет необходимости. Во-первых, топор они с собой не взяли. Во-вторых, им нечего делать внутри вагона. Мощные стальные тросы, дюжие лебедки, толстый силовой кабель – все арестовано, обездвижено и мертво. На всякий случай Оскар вскрывает железный ящик, установленный в дальнем конце скользкой, как мокрый кусок мыла, бетонной платформы, и недолго возится там с рубильниками и рычагами, но даже со стороны очевидно, что его усилия напрасны. Электричества нет, вагон примерз к платформе, канаты остекленели. Гору покинуть нельзя.
Они готовы к такому повороту событий и потому не впадают в отчаяние. Оскар прав: беспокоиться не о чем. В Отеле тепло, еды достаточно для десятерых. Если задуматься, это даже романтично – застрять на вершине безлюдной горы без связи, без обязательств, с минимальными сложностями вроде разрядившихся ноутбуков и отсутствия горячей воды. В сущности, впереди все та же наполненная негой и покоем неделя, и можно было бы хоть сейчас, сию минуту вернуться назад, в Отель, подбросить в камин мумифицированных европейских дров, согреть на плите кастрюлю глинтвейна. Только вот Соня… Все-таки странно, что ее так долго нет.
– Ладно, – говорит Ваня. – Ладно. Пошли, найдем Соньку и вернемся домой, холодно же.
Он бледен и плохо выглядит. Ему хочется пива и горячего жирного супа; он встал слишком поздно и остался без завтрака. Он знает, что все происходящее – его проблема; не только потому, что это он привез их сюда. Просто так уж устроена эта компания. Именно он, Ваня, в ответе за то, чтобы к концу любого праздника количество таксомоторов совпало с количеством гостей. Чтобы ресторанный счет оказался оплачен, а официанты – не обижены. Чтобы подвыпивший Вадик не получил в морду. Когда-то Ване казалось, что будет достаточно одних только денег, но с тех пор прошло много времени; теперь ему ясно, что все сложнее. Помимо денег от Вани требуется старание. Ответственность. Забота. За двадцать лет в Ваниной жизни изменилось очень многое, но он по-прежнему зависит от одобрения и благодарности этой маленькой группы людей, собравшихся сейчас вокруг него на замороженной платформе. Он складывает ладони рупором и кричит в стеклянную тишину:
– Соня! СО-О-О-НЯЯ!
Если взглянуть на гору с высоты птичьего полета – да что там, если просто немного приподняться, взлететь невысоко, не выше замерзших хвойных верхушек, – Соню найти нетрудно, несмотря на вчерашний ледяной дождь, скользкие тропинки и отсутствие ориентиров. На ней алый лыжный комбинезон, яркий, как рябиновая ягода на снегу. Сверху сетка одинаковых, как близнецы, засахаренных дорожек выглядит не сложнее пластмассового лабиринта, в котором катается послушный воле игрока железный шарик. Место, где лежит Соня, отмечено в лабиринте размытой красной точкой. Шарик – девять замерзших людей, мечтающих о тлеющем в гостиной камине и горячем вине. Хаотично, безо всякой логики их носит по белоснежным, пересекающим гору траекториям, и верхний наблюдатель с раздражением отметил бы, что два раза они просто проходят мимо крошечного отворота, на конце которого Соня ждет их.
Когда они делают попытку миновать это место в третий раз, Оскару приходится вмешаться. Казалось бы, гора не так уж велика, но воздух начинает густеть, приближаются сумерки, и без его помощи эти люди способны блуждать здесь до следующего утра.
– Сюда мы еще не заглядывали, – предлагает он осторожно и встает вполоборота, чтобы его спутники увидели тропинку.
Судя по всему, Оскар не собирается идти первым. Он замедляет шаг и позволяет всем обогнать его.
Недлинная боковая дорожка заканчивается аккуратным металлическим парапетом, отделяющим прогулочную зону от опасного каменистого склона. Бледные, как арбузная мякоть, замерзшие пятна крови под ногами ведут их к парапету так же уверенно, как это сделали бы меловые стрелки на асфальте, если бы сейчас, скажем, шла игра в казаков-разбойников.
Лора обжигает ладони стальными перилами, наклоняется вперед и вытягивает шею, и смотрит вниз. Она не боится мертвецов. Там, где она родилась, люди нередко не доживают до преклонных лет, она видела достаточно похорон. С другой стороны, Лорины мертвецы – смирные, умытые, расчесанные на пробор и завернутые в лучшие свои костюмы – послушно лежали в обитых тканью гробах. Как бы они ни вели себя при жизни, в смерти все как один выглядели прилично и кротко. Неопасно. До того как показать их Лоре, им пристойно опустили веки и сложили руки, а лбы накрыли лентой с крупными красными буквами. «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас», – требовала могущественная лента, прижимая мертвые головы к ситцевой изнанке гроба, не позволяя им никаких вольностей.
В замерзшем Сонином лице нет покоя. Оно вызывающе неприлично. Сонино лицо глядит на Лору стеклянными шарами глаз с несимметрично примерзшими веками. Лоре будет трудно забыть вывернутую Сонину нижнюю губу и розовый сталактит слюны, застывший в уголке рта. Синие пальцы, разбросанные руки и левую ногу, согнутую в колене – так, словно Соня собирается с силами, чтобы повернуть сведенную морозом шею, оторвать от камня волосы, поседевшие от инея и хрустящие, как оберточная бумага, и подняться Лоре навстречу. Словно это вот-вот произойдет. Смерть, которую видит Лора на дне каменного кармана, как сырая фотография, – необработанная, натуральная, без фильтров. В ней еще нет смирения. Лора хотела бы отвести взгляд, но не может этого сделать; даже мертвая, Соня умеет приковывать внимание. Лора пытается вдохнуть. Поднимает руки к лицу. Я хочу домой, думает Лора, я просто хочу домой, я вообще не хотела ехать.
Оскар подходит ближе и встает сбоку, у самого края парапета, бросает вниз мимолетный взгляд и тут же разворачивается обратно, к живым, и на мгновение становится похож на конферансье. На ведущего боксерского поединка. Кажется, он вот-вот изогнется, выбросит вперед правую руку и крикнет торжественно: «Ladies and gentlemen!» К счастью, он не делает этого и просто становится спиной к яме, единственный зритель, для которого восемь человек исполнят сейчас свои партии.
И они исполняют: например, Лора, которая наконец плачет, некрасиво кривит рот и трет кулаками глаза, размазывая остатки вчерашней туши по своим цыганским щекам. Например, Лиза, которая на месте надутой девицы с вечно поджатыми губами видит ребенка, обычного испуганного ребенка, и с облегчением протягивает руки, повинуясь спасительному инстинкту: схватить, прижать и утешить, потому что это оказывается гораздо проще, чем задыхаться от ужаса над неподвижным стеклянным телом. Чем плакать самой.
Например, Ваня. Который хмурится, и заглядывает в Сонины приоткрытые глаза, и говорит: что за хрень. Что за, мать его, хрень. Что за хрень – и стучит кулаком по холодной железной трубе с видом человека, который вот-вот предъявит претензии, потому что уговор был другой. В перечне оплаченных Ваней услуг не было пункта «мертвая актриса с двумя дырками от лыжной палки и сломанной лодыжкой». Нарушение контракта, вот что написано на Ванином лице. Вы что себе, бляди, думаете, вот-вот скажет Ваня.
Егор шарит во внутреннем кармане и вытаскивает телефон. Он ничего не может с собой поделать, это инстинкт. Профессиональная деформация. Записная книжка Егорова телефона содержит номера на любой случай. Срочный вызов нотариуса на дом. Завтравмой в Склифе. Единая справочная служба эвакуаторов. Ветеринарная неотложка (Лиза любит животных). Сотового сигнала нет, но закольцованный список вариантов, из которых следует выбрать подходящий, с уютными щелчками проходит под его указательным пальцем два полных круга. Телефон доверия МВД. Приемная прокурора города Москвы. Мэрия. Даже если бы телефон работал, нужного номера все равно не найти; этот список вообще не годится для европейской горы. Складывается впечатление, что Егор неприятно удивлен.
В этот момент Оскар напоминает охранника супермаркета перед восемью мониторами, каждый из которых показывает кражу. Любая секунда, потраченная на изучение одного из восьми, играет на руку семи остальным. Для того чтобы ничего не упустить, потребовалось бы еще семь наблюдателей или одна видеокамера. Возможно, он планировал застать их врасплох, но вынужден определить очередность, с которой заглядывает в их лица, в то время как они пользуются своим преимуществом и реагируют одновременно.
У Вадика фора почти в минуту. Когда до него доходит очередь, он уже стоит спиной к парапету, и в руках у него плоская коньячная бутылка, полная на две трети (что означает: треть он успел выпить раньше). Вадик поднимает ее к губам, зажмуривается и с усилием, трудно глотает. Уровень жидкости в перевернутой бутылке иссякает, словно это песочные часы-экспресс, где время исчисляется секундами. Ржавые струйки стекают по небритому подбородку. На лице у Вадика облегчение, из которого не следует никаких выводов; нет адекватного способа оценить приоритеты алкоголика, если ты сам не таков.
Маша сидит, разбросав ноги (прошло полторы минуты), и лепит снежок. Между Машиных коленей – десять следов от ее пальцев, десять подтаявших дорожек, симметрично сходящихся к центру, словно крылья вылупившейся из-под снега бабочки. Она сжимает кулаки. Сминает рыхлый снежный комок. Талая вода сочится между длинными Машиными пальцами неохотно, по капле. Лица ее не видно, она низко нагнула голову, словно ее сейчас стошнит. Или она готовится кого-нибудь боднуть.
Спустя неполных две минуты после того, как они нашли тело, юная Лора все еще плачет, прижимая лицо к мягкому Лизиному плечу, но уже не так громко. Лиза очень бледна, и держит девочку крепко, обеими руками, и легонько покачивается из стороны в сторону.
– Вадик, – говорит Таня хрипло, перекрывая затихающие Лорины всхлипы. – Что у тебя там, коньяк? Дай сюда.
Спустя неполных две минуты у Вадика нет уже, разумеется, никакого коньяка. В конце концов, бутылка была совсем небольшая, призванная всего лишь немного скрасить прогулку. Надолго ли хватит двухсот пятидесяти граммов коньяка человеку, который только что обнаружил мертвое тело? Особенно если это не чужое тело. Если это очень, черт возьми, хорошо знакомое тело.
Вадик вытирает мокрый подбородок и сконфуженно прячет пустой стеклянный огрызок в карман. И не говорит ничего. В конце концов, Таня знает его много лет. Она должна понимать.
Таня понимает. Она вытаскивает смятую сигаретную пачку; будет очень логично, если и пачка окажется пустой, как Вадикова бутылка. В конце концов, думает Таня, писателю нужны чистые, неразбавленные впечатления. Без костылей вроде никотина или алкоголя. Ты сейчас подойдешь к парапету, говорит себе Таня, и посмотришь на нее еще раз. И запомнишь всё. Позу, в которой она лежит. Выражение ее лица. Это надо делать сразу, без анестезии, уловить и зафиксировать самые свежие, самые острые ощущения. Подобрать подходящую метафору к заиндевевшим, смерзшимся волосам. Бумажные? Хрустящие, как сухая солома? Перевести страх в слова, сфотографировать вкус, запах, собственные мысли. Ассоциации. Такое случается раз в жизни. Это уникальный опыт. Неповторимый.
Она делает шаг к уложенной набок железной трубе, отделяющей площадку от обрыва. Господи, думает Таня. Господи. Неужели нет другого способа? Оказывается, у нее дрожат руки; сигаретная пачка испуганно жмется к ладони, и становится слышно, как между тонких картонных стенок катается последняя сигарета. Таня рвет пачку пополам и засовывает сигарету в рот. До парапета остается еще несколько шагов. Правдивость избитых определений, какими принято описывать покойников, она успела проверить раньше; мало кому из сорокалетних выпадает везение избежать этого зрелища. Заглядывая в искаженное смертью знакомое лицо, невозможно не вспомнить фразы «заострившиеся черты» и «восковая бледность». Неважно, спокоен ты или кричишь от боли: короткая удивленная мысль – так вот они о чем – все равно успевает мелькнуть.
Если Таня хочет когда-нибудь написать о том, как выглядит насильственная смерть. Если надеется найти правильные слова, чтобы передать ощущения человека, который с этой смертью столкнулся. Для того чтобы не придумывать, а знать, ей придется сейчас подойти и взглянуть еще раз. Убедиться, замерзли ли глазные яблоки. Что происходит после смерти со зрачками. Как выглядят ресницы. Почувствовать, систематизировать и запомнить свое сдавленное страхом горло, облупившуюся с железных перил зеленую краску. Сонины волосы, которые оказываются похожи вовсе не на бумагу, а скорее на траву, да, на мертвую траву, обесцвеченную первыми заморозками. Сделать слепок этого момента – целиком. И сохранить его в памяти.
Не хочу, думает Таня, и делает еще один шаг. Ну пожалуйста. Я не хочу. Стирая слезы тыльной стороной ладони и негромко, побежденно скуля, она наклоняет голову и заставляет себя смотреть. И укладывает увиденное рядом с шорохом легкого кошачьего тела внутри обувной коробки, в которой его несут во двор, чтобы закопать в палисаднике. Рядом со сладким запахом волос пятилетней девочки, Лизиной младшей дочери, и ощущением горячей тяжести в руках, на которых она заснула. И десятком других. Хороши ее тексты или плохи – разве кто-нибудь может знать наверняка? Она все равно подает их с кусками собственной печени. Со своими слезами, и счастьем, и страхом, и стыдом. Ей пришлось ободрать до голых чистых костей свое детство, препарировать все выпавшие ей радости и разочарования. Даже это не дает никаких гарантий; их вообще не бывает, гарантий. Просто это единственный известный ей способ оживлять буквы: не врать. Не фантазировать. Если хочешь сделать так, чтобы тебе поверили, выбора нет. Свою историю придется рассказывать без трусов.
Оборачиваясь на шум у себя за спиной, она видит Оскара, который лежит на снегу с онемевшей, расквашенной щекой, и Петюню, своего кроткого мужа, сидящего у Оскара на груди. Сука, говорит Петюня, упираясь коленями в Оскаровы ребра. Это ты. Это же ты. Гад. Гад! Петюнино лицо (видит Таня) кривится и дергается. Он заносит кулак еще раз, но не бьет. Опрокинутый на спину, словно черепаха, Оскар не сводит глаз с этого зависшего в воздухе некрупного кулака.
– Я бы очень просил вас, – произносит Оскар осторожно. Вероятно, когда твои легкие расплющены чужими коленями, говорить неудобно.
– Я очень просил бы вас взять себя в руки. Вам потом будет неловко.
Надо отдать ему должное, думает Таня, он ведет себя очень грамотно, этот странный заморыш. Учитывая, что он заперт на горе с восемью незнакомцами, которые будут только счастливы обвинить в Сониной смерти именно его, чужака. Без связи, без поддержки цивилизованной европейской полиции. Если не удастся быстро разобраться в том, что тут случилось, думает Таня, мы сейчас начнем вести себя как дикари. Станем играть в Повелителя мух. И бог знает, сколько это продлится, а ведь ему нужно просто продержаться. Интересно, как он планирует выкручиваться.
– Ты! – повторяет Петя. Судорожно сжатый кулак подвешен в полуметре от Оскарова поверженного лица, но Таня видит, что еще раз он ударить не сможет. Петюня щупл и миролюбив и, вполне возможно, впервые в жизни сбил кого-то с ног ударом кулака, а это кому угодно вскружило бы голову. Но бить лежащего – все-таки совсем другое дело.
Когда он разжимает ладонь, с усилием, словно она принадлежит кому-то другому, и мучительно трет переносицу, становится ясно, что маленькому смотрителю Отеля больше ничего не угрожает. Петюня освобождает Оскара и недолго, мгновение-другое, стоит на коленях, не поднимая головы, а прямо под его пальцами – теперь они все это замечают – снег оказывается пористый, мутно-розовый, так что ему приходится отдернуть руки, словно под ними кипяток, словно он в самом деле их ошпарил. Петюня пятится, не поднимаясь, как мексиканский паломник, перепутавший направление, в котором следует ползти. Мимо Лизы, обнимающей зареванную Ванину жену. Мимо пьяного от ужаса Вадика. Натыкается спиной на металлические перила, и ныряет под них, и быстро рушится вниз, неловко, некрасиво сползает животом по каменистому склону, обламывая торчащие осколки льда, с хрустом и грохотом.
Таня щелкает зажигалкой и делает огромный жадный вдох, заполняя легкие едкой горечью горящего фильтра. Последняя сигарета погибла напрасно. Позади начинается какая-то суета; прошло уже почти три минуты, и всякой немой сцене рано или поздно приходит конец. Ей ни к чему оборачиваться. Она разглядывает исцарапанную ладонь своего мужа, дрожащую на Сониных заиндевевших волосах. Смотрит, как он плачет.
– Соня, – всхлипывает Петюня, склонившись так низко, что губы его почти касаются застывшего Сониного лица. – Сонечка.
Таня смотрит теперь только на него. И запоминает.
Оскар встает и тщательно, двумя руками счищает снег со своей клетчатой куртки, затем нагибается и отряхивает колени. Хлопает одетыми в перчатки ладошками.
– Я принесу веревки, – говорит он. – Нужно поднять тело.
Глава восьмая
Поднятое Сонино тело оказывается похоже на манекен из магазина спорттоваров. На неудачную гипсовую скульптуру из ЦПКиО. На девушку без весла. Непобедимый rigor mortis, усиленный ночным морозом, не позволил вернуть на место раскинутые в стороны руки и помешал выпрямить согнутое колено, так что семьсот метров до Отеля им приходится нести ее как растопыренную твердую куклу. Как деревянное распятие. Чертов Оскар, вернувшийся с веревками, не догадался захватить ни пледа, ни одеял, и, оскальзываясь на хрустящих кромках дорожки, слишком узкой для четверых идущих парами мужчин, они все время видят тени облаков и черных веток, скользящих по стеклянной поверхности ее заледеневших щек. Повернуть ее лицом вниз они все-таки не решились; этому телу достаточно выпало унижений. Хмурый гаденыш обиженно топает впереди и не оборачивается. Кажется, он вот-вот ускорит шаг. Перейдет на бег. Оторвется от них и исчезнет за поворотом, в беззвучной белизне. Сгинет. И, добравшись до Отеля, они обнаружат только наглухо запертую дверь, за которой не окажется никого.
Возле крыльца (теперь им, конечно, бросились в глаза и разбросанные лыжи, и бурое пятно замерзшей крови) Оскар останавливается и говорит недружелюбно и сухо:
– В дом нельзя. Слишком тепло. Есть другое место.
И четверо, которые несли тело, разом чувствуют себя непрошеными гостями, просителями, получившими отказ. Сконфуженно и послушно пятятся, не протестуя. Тащат дальше, в обход, по тропинке, вдоль сливочных стен, перечеркнутых шоколадными балками, мимо обсаженной туями беседки с примерзшими к столу остатками пикника, мечтая только об одном: освободить руки, избавиться. Положить, накрыть, не смотреть больше.
Оскар уже потянул вверх подъемные гаражные воротца – неширокие, выкрашенные в те же молочно-кондитерские цвета, – а за ними открылась прохладная пустота и блеснул у задней стены рогатый снегоход, и они заторопились, затолкались у входа, прицеливаясь, как бы побыстрее войти, предчувствуя избавление, – но воздух вокруг них неожиданно сгущается, и мутнеет, и наполняется снегом. Сумерки обрушиваются в одно мгновение, как это часто случается в горах. Казалось, еще минуту назад был день, прозрачный, черно-белый, и гора глядела им в затылок, провожая их от самого парапета, под которым нашли Соню, как вдруг разом настала ночь, и Отель угрюмо налился тьмой, и гаражный проем в его мрачном боку превратился в распахнутый черный рот. Где-то позади снова захныкала Лора – тихо, вполголоса. Оскар юркнул внутрь, под ворота, а затем появился снова, держа над головой большой аккумуляторный фонарь. Бледный ксеноновый луч освещает их испуганные лица. Волосы, куртки, плечи – все стремительно становится белым, как будто над головой у них перевернулось огромное корыто, до краев полное снега.
– Прошу вас, – нетерпеливо говорит Оскар и отворачивается, унося свой голубой луч света в бетонную пасть гаража.
Не желая оставаться снаружи, они идут следом.
Лежа на пыльном полу, Соня еще сильнее похожа на сломанную куклу, у которой кончился завод. Ее правая рука не касается пола. Перед тем как замереть, кукла собиралась оттолкнуться от земли, подпрыгнуть и хлопнуть в ладоши. Кроме того, она припудрилась: щеки, лоб и открытые глаза густо засыпаны сухим снежным порошком.
– Господи, – говорит Лиза хрипло. – Надо ее чем-нибудь накрыть, ну нельзя же так.
К сожалению, под серебристым чехлом от снегохода (ничего другого в гараже не нашлось) Соня выглядит как спящий человек, случайно укрывшийся с головой. Ее согнутое колено заставляет предположить, что она вот-вот проснется и сядет. Вероятно, у нее могут возникнуть вопросы.
– Ваня, – слышен захлебывающийся Лорин голос. – Ванечка, пожалуйста. Давайте уйдем отсюда. Ну пожалуйста.
Лорины зубы стучат – отчетливо, громко, – она делает вдох и задерживает воздух в легких. Ясно, что она вот-вот выкинет что-нибудь возмутительное. Например, завизжит. Рванется из Лизиных рук и попытается убежать, одна. И тогда ее тоже, конечно, придется искать.
За стеной взвывает ветер, и ночь стреляет в них из-под задранной гаражной двери плотным сгустком снежных хлопьев, вертящихся в бледном свете Оскарова фонаря.
– Будь я проклят, – говорит Вадик и мучительно трет лицо. Он немного стыдится картинности этой своей фразы, но повторяет еще раз:
– Будь я проклят. Убейте меня, – говорит Вадик. – Только это же все чистый Карпентер. Полярная станция. Ванька, осталось выбрать, кто из нас будет Курт Рассел. Ночью она оттает, из нее выползет тварь и сожрет нас к чертям. В общем, нам нужен огнемет.
Он негромко, сдавленно хихикает.
– Черт, – говорит он. – Черт, простите, ребята. Это все коньяк.
Ветер снаружи гудит и бьется, и тяжелый фонарь начинает дрожать у Оскара в руке. Вероятно, это не очень легко – все время держать его над головой.
– Насчет убейте меня – это я пошутил, – говорит Вадик, диковато улыбаясь. – Если что.
Он снова закрывает лицо ладонью, только в этот раз уже не отнимает ее.
– Вашу мать, – говорит он глухо сквозь растопыренные пальцы. – Вы же понимаете, да? Вы же видели. У нее кровь. Она же не сама. На этой долбаной горе, кроме нас, никого нет. Это мы. Кто-то из нас.
И Лора наконец визжит – с облегчением, сладко, в полную силу.
– Ну вот что, – говорит Ваня, когда они оказываются снаружи, а подъемная дверь, за которой они оставили Сонино тело, надежно прижата к земле.
Ване давно пора вернуть себе инициативу. Принять какое-нибудь решение. Ему не нравится, что полдня пришлось таскаться за Оскаром. Не нравится эта проклятая гора. Ледяной дождь. Гребаный неизвестно откуда взявшийся буран. Мертвая Соня под чехлом от снегохода. Рыдающая Лора. И конечно, ему очень сейчас не нравится Вадик.
– Значит, так, – говорит Ваня и понимает с раздражением, что слова его никому не слышны, потому что их мгновенно сносит ветром. Ему придется кричать, надсаживаясь, а может, даже тащить их за собой. Они и правда выглядят неважно: беспомощная, замерзшая кучка людей, жмущаяся под темным боком закупоренного льдом Отеля. Вход с другой стороны, помнит Ваня. Надо вернуться.
– Значит, так! – кричит он и хватает Вадика за плечо.
Вадик дергается, пытаясь вырваться, щурит слезящиеся пьяные глаза.
– Пошли! – кричит Ваня, и обходит их, и трясет, и тормошит. – Ну! Пошли!
Чернильное небо мутно и занавешено снежной бурей. Луны нет, от звезд ничего не осталось. Холодные воздушные реки со свистом и ревом носятся между деревьями, облизывая гору, закладывая уши, швыряя в лицо острые снежные пригоршни. Оскаров дурацкий фонарь жидко тлеет где-то позади, совершенно не там, где нужно. Просто обойти Отель, думает Ваня. К черту Оскара с его фонарем, можно ведь идти вдоль стены. Главное, чтобы никто не отстал. Ваня чувствует себя пастушьей собакой, которая должна сберечь стадо. Не факт ведь, что они услышали. Разбредутся сейчас, идиоты. Замерзнут. Ищи их потом. Он кружит, толкает их, дергает и машет руками до тех пор, пока не убеждается в том, что они поняли, чего он от них хочет. Они трогаются с места – послушно, цепочкой – и бредут за ним вдоль стены. К черту Оскара. Сраная гора может плеваться вьюгой, снегом и льдом, но ей придется покориться. Что бы она себе ни думала, он купил ее с потрохами, на неделю. Просто нужно довести всех до крыльца. В месте, где живая изгородь примыкает к дому, Ваня не сворачивает. Не делает попытки перешагнуть. Вот тебе, маленькая заносчивая мразь, думает он, и замороженные карликовые туи хрустят и мнутся под его ботинками. Если ты хотел сохранить ландшафтный дизайн, надо было бежать впереди с фонарем.
Каменное крыльцо застелено снегом так плотно, что ступеней не видно, как будто их нет вовсе. Четверть часа всего, яростно думает Ваня, мы провели в гараже максимум четверть часа, а эта дрянь умудрилась засыпать лестницу. Он топает, расшвыривая белый холодный пух, нащупывая под ним скользкие обледеневшие грани, – не хватало еще поскользнуться и упасть сейчас, когда ему нужно показывать дорогу. Когда все идут за ним. Он оглядывается и пересчитывает их глазами. Два, четыре, шесть, восемь. Все на месте. Последняя, верхняя ступенька нарочно выворачивается из-под ноги, словно вспугнутая скользкая рыба. Чтобы не рухнуть вниз, он хватается за перила и виснет на них, сдирая кожу с пальцев. И не падает. Остается только протянуть руку и дернуть дверь на себя.
Дверь оказывается заперта. Позади, у Вани за спиной, остальные карабкаются на крыльцо – один за другим, окоченевшие, гомонящие, – и ему приходится отпустить ручку и отойти в сторону, чтобы все они поместились рядом. На самом деле им всем нужно потесниться, потому что последним, небыстро, осторожно ступая, по утоптанной лестнице поднимается Оскар. Они ждут, пока он роется в карманах, перекладывая потускневший фонарь из одной руки в другую. Достает тяжелую связку ключей. Возится с замком и открывает для них Отель. Внутри тепло, и темно, и тихо. Теперь им можно войти.
Ваня заходит последним, захлопывает тяжелую дверь и прижимается к ней изнутри, стыдясь совершенно детского облегчения, которое при этом испытывает. Чувствуя острое желание задвинуть какие-нибудь засовы. Подсунуть к двери комод. А все Вадик со своим больным воображением. Что, спрашивается, он вообще там нес в гараже? Лорка теперь будет рыдать до утра.
Оскар ставит свой фонарь на пол забитой людьми прихожей, откуда никто еще не сделал ни шагу; света нет, не видно, куда идти. Прежде чем разбредаться по темному дому, хорошо бы вспомнить, в какую сторону кухня. Где гостиная. Освещенные снизу бледно-голубым светом, с мокрыми перекошенными лицами, они напоминают друг другу компанию спиритистов, у которых неожиданно получилось вызвать духа. Оскар шагает в черноту, недолго гремит и возится где-то неподалеку, возвращается.
– Возьмите, – говорит он и раздает свечи.
Щелкают зажигалки, прихожая наполняется рыжими огоньками.
Теперь они похожи на кучку крестьян, ворвавшихся ночью грабить барскую усадьбу. У них течет с ботинок. Лакированные паркетные доски возмущенно гнутся под девятью парами ног.
Оскар поднимает с пола фонарь и берется за дверную ручку.