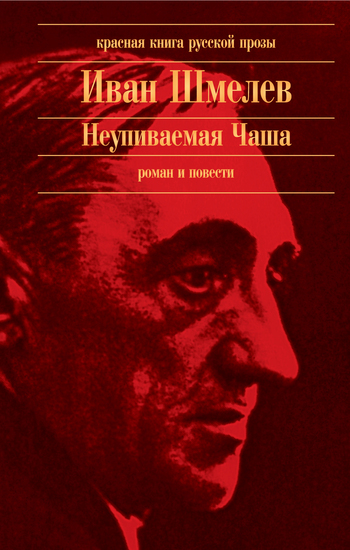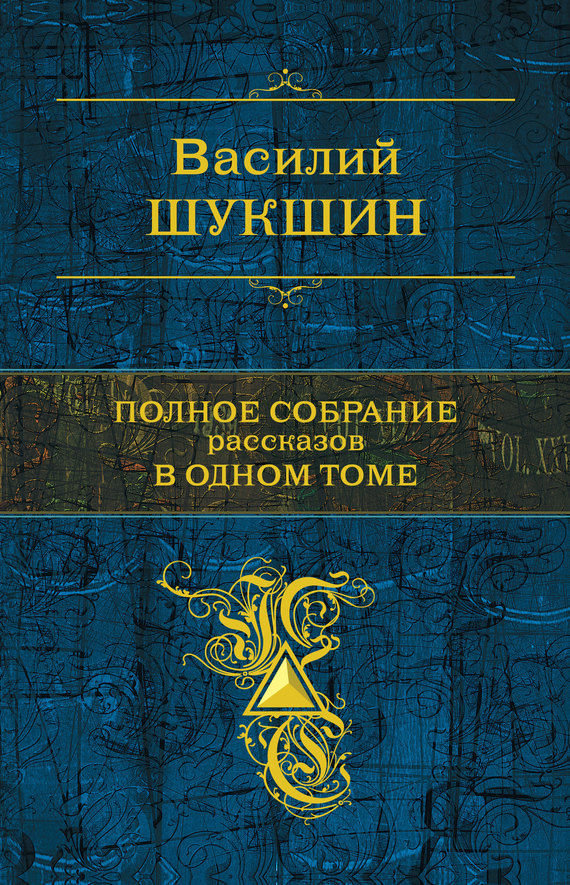Костры миров Прашкевич Геннадий
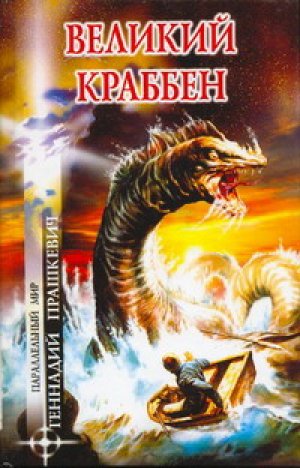
Я ошеломленно повесил трубку.
– Это не все… – улыбнулась Ия печально. – Тебе еще будут звонить…
Я обнял ее, и телефон мгновенно сошел с ума. Он трещал так пронзительно, с такой силой, что его вполне могли слышать в холле.
Я не выдерживал, снимал трубку.
Ия зарывала лицо в подушку и смеялась.
Звонили из Госстраха: намерен ли я наконец погашать задолженность? Звонили из автоколонны: мой заказ, видите ли, наконец принят, а шифр контейнера я могу узнать в конторе. Звонили из детского клуба «Калейдоскоп» – там вырубило силовую сеть: почему, черт возьми, не идет электрик? Звонила некая девочка, не столь даже откровенная, сколь закомплексованная. «Придешь в „Поганку“? Там грибы дремучие, – гнусно ворковала она, волнуясь. – Правда не можешь? Жалко. Хочешь, я сама приду к тебе?»
Я целовал Ию, я видел, как темнели ее глаза, а телефон опять исходил визгом.
– Позволь, я разобью его.
Ия закрывала глаза, мотала головой:
– Нам надо быть сильными.
Не знаю, что она имела в виду.
Я опять и опять поднимал трубку.
– Ваш товарищ вчера, я понимаю, очень известный товарищ, часами в меня бросал. Он, когда рвался к вам, сильно ругался, я понимаю. Вот я и говорю совсем вежливо: вы, товарищ, не ругайтесь, вы такой известный, вас все знают, а он часами в меня бросал. – Швейцар деликатно кряхтел, вспоминая ночные подвиги Юренева. – А часы золотые иностранные. Они с боем и с музыкой. Я сейчас поднимусь к вам.
– Только попробуй, – предупредил я.
– Да это ж минуточка, всего одна минуточка, – засуетился швейцар. – Вы меня и не заметите. Минуточка, и я у вас.
– Сволочь, – сказал я негромко.
– Как-с? – не понял швейцар.
– Сволочь, – проговорил я негромко, но внятно.
– Виноват-с…
Ия смеялась. Я целовал Ию. Но что-то уже наполнило комнату, тревожное, темное, как там, на поляне под траурной лиственницей. Удушье, томление неясное, как перед грозой, даже смех тонул, растворялся в этом темном душном удушье.
В дверь постучали.
– Это швейцар. – Ия ласково погладила меня по плечу. – Прости его. Пожалуйста, не будь груб. Пожалуйста, не гоняй его по всему коридору. Он уже в возрасте. Обещаешь?
Я мрачно кивнул.
И приоткрыл дверь.
Боком, как краб, угодливо, но нагло, не спрашивая разрешения, швейцар, сопя, полез в приоткрытую дверь. То, что я стоял перед ним всего лишь в плавках, нисколько его не смущало. Багровый, со слезящимися глазками, он, как ни странно, до сих пор сохранял следы армейской выправки. Задирал плечи, пытался выпячивать грудь. Наверное, подполковник в отставке. Это потолок для таких типов. Бывший аккуратист, служака, скучающий штатской жизнью. В правой руке он держал часы Юренева, а в левой… мою книгу!
– Мы понимаем… Мы следим за отечественной патриотической литературой…
– Знаю, что следите. – Меня передернуло от отвращения.
Он что-то наконец понял и отступил в коридор. А я пошел на него:
– Я тебя в котельную загоню!
Швейцар неожиданно вскрикнул и криво побежал по коридору мимо ошеломленной дежурной.
– Вы что? Вы что? Иностранцы здесь! – замахала руками дежурная.
Я вернулся к Ии:
– Бабилон.
Она засмеялась, но уже устало.
И приложила пальцы к распухшим губам:
– Тсс…
Я прислушался.
Шорохи, непонятные голоса.
Наверное, по соседству где-то, подумал я.
– Тише. – Ия зажала мне рот узкой ладонью. – Слышишь?
Я мрачно кивнул. Я слышал эти сплетающиеся женские голоса. Как дальнее эхо, как слабые отзвуки. Неясный гул, как в переполненном зале железнодорожного вокзала. Или, скажем, в бане. Дальние сплетающиеся, но явственные. «Он меня раздевает…» Умоляюще: «Не гаси свет…» С умирающим исступлением: «Еще! Еще! О, еще!» И совсем уступая: «Делай, как хочешь, милый…»
Голоса сливались и смешивались.
Каждый в отдельности я когда-то слышал.
Один – под колоннами Оперного театра, другой – на запорошенной снегом зимней даче, третий – в каюте рейсового теплохода. Но то, что ввергало в трепет наедине, сейчас казалось верхом пошлости. Меня коробило от стонов и восклицаний. Этот задыхающийся, смятенный ушедший мир, эти задыхающиеся, смятенные хоры!
– Это твои бывшие подружки? – спросила Ия.
Я мрачно кивнул. Я не знал, что с этим делать. Голоса звучали отовсюду и в то же время ниоткуда конкретно. «Нам надо быть сильными». Как?
– Их много, – усмехнулась Ия.
– Так только кажется, – мрачно возразил я. – Просто они все вместе, потому так кажется.
– Возможно. – Ия усмехнулась печально. Простыня сползла с ее ног и упала на пол. Поднимать ее Ия не стала, лишь с отвращением приложила пальцы к вискам. – Он сильней.
Я не знал, о ком она.
Стыд и горечь.
Ничего другого я не испытывал.
– Бабилон.
Смолкли женские голоса, молчал телефон, никто больше не звонил, не пытался ворваться в номер. Ия вышла из ванной комнаты уже одетая:
– Помоги застегнуть молнию.
Я помог.
– Спасибо. Не провожай. Завтра все равно увидимся.
Я остался один.
Раздавленный.
Глава IX. Цитата из Тьюринга
Полог палатки опять светился, смутные тени бежали по нему, хитрые, завитые, как арабская вязь, их бег сопровождался чужой птичьей речью, она отдавала металлом, болью… Это лицо… Кто ты?..
Я умирал… Только бы вспомнить!..
Из ужасов сна меня вырвал телефонный звонок.
– Спишь? – На этот раз Юренев был благодушен. – А кто собирался к Козмину?
– Я, – выдавил я хрипло.
– Пил? Опять пил? – удивился Юренев.
– Оставь. Жди меня в холле, скоро спущусь.
Но я заставил его ждать. Правда, не специально.
Тряслись руки, я сосал валидол. В зеркале отразилось бледное лицо, мешки под глазами. Как ослепительна Ия, подумал я. У нее совсем девичье тело, ей семнадцать лет. Рядом с ней я скоро буду выглядеть старцем.
Юренев ждал меня в холле. Швейцар что-то уважительно втолковывал ему.
Юренев добродушно кивал. На меня швейцар даже и не взглянул.
– В коттедж?
Юренев кивнул – на этот раз мне. Выглядел он свежо, как человек, принявший какое-то решение. Я нетерпеливо двинулся к выходу – вдохнуть свежего воздуха, но на ходу спросил:
– Что там случилось в вашей лаборатории? Объясни. Я ведь ничего не знаю.
– И хорошо. И не надо тебе знать. – Юренев довольно выпятил губы. – Тебе, Хвощинский, вообще бы не общаться с нами, да судьба.
Он загадочно подмигнул, даже взял меня за руку:
– Мы тебя ценим. Ты много читал, Хвощинский, а это значит, что, хотя бы в силу случайности, ты натыкался порой на нужные вещи. Со многими людьми этого не происходит.
– На какие такие нужные вещи?
Мы шли с ним по яблоневой аллее.
С ума сойти, каким ароматом тянуло от каждого деревца.
Недавно косили газоны, пахло сырой травой, две тяжелые галки прыгали перед нами по дорожке, соблюдая, впрочем, безопасную дистанцию.
– Большинство признанных книг – пустышки. – Юренев неодобрительно ухмыльнулся. – Есть просто вредные книги, ты в это дело тоже внес лепту. Но есть книги и полезные, нужные. Они не каждому по зубам. – Юренев даже всхрапнул от удовольствия. – Хотел сказать, не каждому по уму, но и так сойдет.
– Что же это за книги такие – полезные?
– Ахама, хама, хама! Ну, скажем, Тьюринг. Слыхал о таком? – Тон Юренева меня злил, но Юренев не чувствовал моего раздражения. – Цитирую. «Система Вселенной как единое целое такова, что смещение одного электрона на одну миллиардную долю сантиметра в некоторый момент времени может явиться причиной того, что через год некий человек будет убит обвалом в горах». А? – Юренев даже приостановился и изумленно моргнул. – Ты, Хвощинский, к сожалению, в системе, потому не прыгай. «Сам по себе… Завтра уеду…» – передразнил он меня, впрочем вполне благодушно. – Даже Тьюринг утверждает: нельзя без нужды смещать электроны даже на миллиардную долю. Так что запомни, Хвощинский, хоть ты и в системе, но куда не надо, туда не лезь.
– Ты о фотографиях?
– Для нас это не фотографии, а эффекты второго порядка. Они подтверждение того, что ты входишь в систему. Не входи ты в систему, ничего такого ты бы не получил.
– О какой системе ты говоришь?
– Не торопись. – Юренев жмурился чуть ли не отечески. Выпятив живот, пер по дорожке. Я почти ненавидел его. – Система у нас одна: НУС.
– Надо же, – протянул я скептически. – Только какое отношение к НУС имею я?
– Не торопись, не торопись, – благодушно гудел Юренев. – Мало тебе фотографий? Мало тебе такого подарка?
– И часто вы получаете такие подарки?
– Не важно. Подарок подарку рознь. – Юренев изучающе покосился на меня. – Например, некто Носов из котельной нашего института четырежды находил кошелек с долларами примерно на одном и том же месте. Последний раз он отправил кошелек в милицию почтой, сам боялся идти, думал, что его зачем-то проверяют. Некто Лисицына с почты, женщина пожилая, здравомыслящая, вдруг стала ясновидящей. Вреда никакого, зато Лисицына хорошо теперь зарабатывает на жизнь, а на почте она работала техничкой. Или есть у нас такой лаборант Грибалев. У него в кладовой лежали валенки. Самые обычные, много раз чиненные. Он сам накладывал на них новые подошвы. Как-то ударили морозы, Грибалев полез в кладовую, а валенки ему подменили – лежали там такие же, только подошва в длину на полметра, на великана. Это сперва Грибалев так подумал – подменили. А глянул внимательно – его работа. Он на дратву как-то особенно сучит нитку – его, его работа! Только как это валенки вдруг подросли к зиме, а? – Юренев усмехнулся. – Это не тебя я спрашиваю. Это Грибалев меня спрашивал. Чуть не спился, бедняга, пока мы его не успокоили. Лаборант хороший.
– Или некий дед начинает получать письма от родственников, – мрачно напомнил я. – Никакие, конечно, не родственники, пусть и из Вашингтона, но запить действительно можно.
– Уже знаешь? – Юренев обрадовался. – Вот я и говорю: ты в системе. Это хорошо. Объяснять ничего не надо.
– Нет, позволь. Одно дело валенки, другое – отмороженные пальцы. Тоже связано с вашими экспериментами?
– В общем, да. – Юренев благодушно моргнул.
– Вы там что-то взрываете, а какой-то неизвестный вам дед, сидя в бане, отмораживает пальцы?
– Зато лучшая больница в городе, – быстро сказал Юренев, радостно кивая. – И добавка к пенсии. Приличная добавка. Не каждому так везет.
– А как вы объясняете такие вещи самому деду?
– Никак. Зачем нам что-то объяснять?
– Но ведь дед начнет спрашивать, интересоваться. В конце концов, не так часто люди отмораживают пальцы в хорошо истопленной бане.
– Не так часто, – согласился Юренев. – Только не будет ничего этот дед спрашивать, не будет он ничем интересоваться. Необъяснимое, сам знаешь, пугает. Этот дед, как все нормальные люди, просто будет болтать. А чем больше человек болтает, тем меньше ему верят. Тем более что для НУС это вообще безразлично.
– Для НУС, – протянул я.
– Ахама, хама, хама!
– НУС. – До меня наконец дошло. – Послушай. А Андрей Михайлович? Он тоже получил какой-нибудь «подарок»? Что-нибудь вроде этого обморожения в бане?
– Оставь. – Юренев несколько даже презрительно выпятил толстые губы. – С Андреем Михайловичем все проще и все сложнее. В лаборатории был взрыв. Собственно, даже не взрыв, а некий волновой удар с совершенно неожиданной динамикой. Правда, в лаборатории при этом плавились химическое стекло и керамика. Андрея Михайловича доставили в больницу без сознания, операция велась со сложным наркозом. И прошла удачно. Так говорят врачи. А вот потом началось странное. Повышенная температура, бред… Или то, что мы приняли за бред… А когда Андрей Михайлович пришел в себя, он, к сожалению, перестал ощущать себя математиком, крупным ученым. Он даже перестал ощущать себя нашим современником. Он очнулся совсем другим человеком. Он теперь не крупный математик Козмин-Екунин, он теперь всего лишь охотник Йэкунин. Чукча. Понимаешь, чукча!
Юренев изумленно моргнул и схватил меня за плечо своей лапищей. Мы остановились.
– Йэкунин действительно чукча, – повторил Юренев. Чувствовалось, он никак не может привыкнуть к этой мысли. – Он не понимает нас, он не отвечает на вопросы, зато бегло объясняется по-чукотски. Образ его мышления прост: стойбище, охота. Он не знает, что такое радиан или теорема, зато он знает, как подкрадываться к моржу.
Юренев замолчал, будто вспомнил что-то. Потом сказал:
– Ты появился здесь не случайно. Мы тебя действительно ждали. Мы знали, что ты обязательно появишься. Более того, мы знаем, что ты нам поможешь.
– Я? Чем?
– Послушай, – Юренев крепко взял меня за руку, – ты действительно включен НУС в систему. Ты не знаешь об этом, но ты включен в систему НУС давно, еще на Алтае. Подтверждение тому твое нынешнее появление в Городке, фотографии, даже откровенность дежурной по этажу. Что бы ты теперь ни делал, где бы ни находился, ты уже давно – часть системы. Ты, скажем, начал писать о чукчах два года назад, раньше ты о них даже не задумывался. Случайность? Не знаю. Ты подружился с Козминым-Екуниным, в некотором смысле ты был ближе ему, чем мы, его сотрудники, – я или Ия. Случайно? Не знаю. Но знаю, именно ты нужен нам сегодня, именно ты можешь нам помочь.
– А что говорят врачи?
– Врачи ищут причину. – Юренев взглянул на меня неодобрительно, ему явно не нравилось, что я не загораюсь его идеями. – Хроническое переутомление, сильнейшее потрясение, сложный наркоз. Все это я и без врачей знаю. Ну, естественно, какой-то сбой в мозговом обмене, какой-то фермент или белок воздействует, возможно, на скрытый механизм генной памяти, потому Андрей Михайлович и чувствует себя чукчей. Но неувязка! Есть неувязка! – Юренев даже остановился. – Современный индус при определенных обстоятельствах, ну, скажем так, в чем-то схожих с нашими, вполне может припомнить восстание сипаев, а современный монгол описать степную ставку Золотой орды. Это у них, так сказать, в крови. Но и Козмин-Екунин, соответственно, должен был припомнить нечто свое, связанное с его кровью, каких-нибудь древлян, боярские смуты, на худой конец – скифов. Но при чем тут чукчи?
– Не ори так.
– Ладно.
Он помолчал.
Он сказал, грубо даже:
– Займешься Козминым.
– Я не говорю по-чукотски, – сухо напомнил я.
– Дадим тебе переводчика. Записывайте все на пленку. Анализируйте каждую фразу. Вы должны вырвать Козмина из небытия. Разработайте набор ключевых фраз, дразните его, обижайте, если понадобится. Уверен, он как-то отреагирует на тебя, он тебя любил. Сам знаешь. Мы обязаны вырвать его из прошлого!
– Почему ты все время говоришь о прошлом?
– Да потому, что он и чукча не наш, а где-то из семнадцатого века, из первой половины его! – В голосе Юренева звучало искреннее возмущение.
Я промолчал.
Глава X. Чукча Йэкунин
Мы шли вниз по рябиновой аллее, то ускоряя шаг, то почти останавливаясь. Все это время мы были не одни: шагах в тридцати от нас медленно двигалась пустая черная «Волга». Так казалось – пустая, просто стекла тонированные.
– Эта ваша НУС, – я уже не считал нужным скрывать раздражение, – что, собственно, она делает?
Юренев ухмыльнулся:
– Отвечает на вопросы.
– Как?
– Очень просто. Ты спросил, она ответила. У нее даже голос есть, понятно, синтезатор речи. Главное, сформулировать вопрос верно.
– А если вопрос поставлен неверно?
– Этого нельзя допускать. Вопрос всегда должен быть сформулирован жестко и точно.
– Но если все-таки так случилось? – настаивал я.
– Вот тогда и начинают проявляться эффекты второго порядка. Фотографии из будущего, нелепые валенки для великана…
– …отмороженные пальцы, – продолжал я.
– И отмороженные пальцы, – без удовольствия подтвердил Юренев.
Мы подошли к коттеджу. Зеленая калитка, палисад, зеленая английская лужайка с постриженной ровной травкой – ничего тут не изменилось за два года. На плоском низком крылечке, заменяя перила, возвышался гипсовый раскрашенный лев, подаренный Козмину местным скульптором.
Два короткостриженых крепыша в кожаных куртках, не торопясь, прошли за березами. Они ни разу не посмотрели на нас, но я понял, что каждый наш шаг контролируется.
Знакомый холл, трость под вешалкой, гостиная.
Не знаю, чего я ожидал. Может, больничной койки, медицинских сестер, истощенного беспокойного старика под простыней.
Ничего такого здесь не было. Широкий дубовый буфет (в верхнем ящике когда-то лежали сигареты – для таких, как я и Юренев), на слепой стене несколько старинных литографий и лиственничная доска под икону – лик Андрея Михайловича под медным нимбом.
Великомученик…
В камине потрескивали, вспыхивали огоньки, лежала на полке медная закопченная кочерга, а на белой медвежьей шкуре (раньше тут ее не было), скрестив ноги, сидел чукча Йэкунин. Он завтракал.
Андрей Михайлович? Он, он.
Конечно он. И в то же время…
Болезнь резко обострила выпирающие скулы, желтый лоб Андрея Михайловича избороздили многочисленные морщины. Несмотря на духоту, он был обряжен в широкую, спадающую с худых плеч вельветовую куртку. Не в какую-нибудь там кухлянку, как можно было ожидать, а именно в вельветовую куртку. Такие же широкие вельветовые штаны, похоже, на резинке, на ногах стоптанные, разношенные тапочки.
Чукча Йэкунин завтракал. Поджав под себя ноги, он неторопливо таскал из чугунной сковороды куски черного, как уголь, мяса. Наверное, сивучьего. У сивуча мясо во всех направлениях пронизано многочисленными кровеносными сосудами, кровь сразу запекается. Он таскал мясо из сковороды прямо пальцами, не боялся обжечься, потом вытирал лоснящиеся от жира руки полами куртки. Узкие тундряные глаза туманились от удовольствия. Не знаю, как он видел нас, но как-то, наверное, видел.
– Мыэй!
Голос совсем не тот, к которому я привык, он как бы сел, охрип, напитался дымком, жиром, диковатой, несвойственной прежде Козмину уверенностью.
Старые чукчи довольны, если молодые едят быстро, почему-то вспомнил я. Чукча Йэкунин не выглядел молодым, но ел живо, с удовольствием, чавкал со вкусом, сплевывал, опять лез руками в сковороду.
– Вул! – Он, щурясь, всматривался, но я не уверен, что он видел нас именно такими, какими мы выглядели друг для друга. Может, это стояли перед ним охотники в грязных кухлянках. И пахло в гостиной странно. – Мэнгин?
Он спрашивал: кто пришел.
– Ну, я пришел, – деревянным голосом ответил Юренев.
Я поразился. Где его обычная самоуверенность? По-моему, Юренев даже оглянулся на молоденькую женщину в белом халатике, в такой же косыночке, уютно и неприметно устроившуюся в закутке за дубовым буфетом. Возможно, она выполняла функции медсестры, но ее зеленые глаза смотрели жестко и холодно. Она даже успокаивающе кивнула Юреневу, при этом цепко и быстро оглядев меня.
А у камина, за спиной Андрея Михайловича, как бы греясь, сидел человечек в простом сереньком костюме, тихий, как мышь. Близко поставленные глазки смотрели на нас робко, оттопыренные уши покраснели. Наверное, переводчик. И правда, он тут же вступил в дело, монотонно переводя все сказанное чукчей Йэкуниным.
Оказывается, чукча Йэкунин и впрямь каким-то образом выделил меня из присутствующих. Он хрипло, низко спросил:
– Какой юноша пришел?
– Ну, свой юноша, – ответил Юренев тем же деревянным голосом.
Чукча Йэкунин насытился. Он утирал жирные руки полами куртки. Туманные тундряные глаза довольно замаслились. На какое-то время он забыл про нас.
– Ну, как тут?
Юренев, несомненно, обращался к переводчику, но ответила женщина из закутка:
– Чалпанов переводит: Йэкунин сказки говорит.
– Сказки?
– Сказки, – кивнул от камина маленький Чалпанов. – Так говорит, с двоюродным братом по реке Угитилек ходили. Кости мамонта собирая, ходили.
– Много нашли? – недоброжелательно поинтересовался Юренев.
– Много нашли.
Я ошеломленно молчал.
Андрей Михайлович Козмин-Екунин, член-корреспондент Академии наук СССР, почетный член Венгерской академии и Национальной инженерной академии Мексики, почетный доктор Кембриджского университета (Великобритания), Тулузского университета имени Поля Сабатье (Франция), иностранный член Национальной академии Деи Линчеи (Италия), почетный член Эдинбургского королевского и Американского математического обществ, почетный доктор натурфилософии университета имени братьев Гумбольдт (Берлин), пожизненный член Нью-Йоркской академии наук, человек, известный всем и давно во всем цивилизованном мире, сидел на белой медвежьей шкуре, подобрав под себя ноги, и шумно жевал черное сивучье мясо: лез жирными руками прямо в сковороду и тут же вытирал жирные руки полами своей грубой куртки; и это он, Козмин-Екунин, человек, с которым я дружил в течение многих лет, сейчас интересовался: какой юноша пришел?
– Ну, свой юноша.
Чукча Йэкунин шевельнулся. Взгляд его ожил.
Не было, не было в нем безумия, но и узнавания в его взгляде я не увидел.
– Айвегым тивини-гэк…
– О чем он? – насторожился Юренев.
Переводчик Чалпанов монотонно перевел:
– Вчера охотился… На реке Угитилек охотился…
Я ошеломленно рассматривал гостиную. Все, как всегда, все, как раньше. Но Йэкунин! Но чужая гортанная речь! «В кашне, ладонью заслонясь, сквозь фортку крикну детворе: какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?»
Чукча Йэкунин долго, пронзительно смотрел на меня. Потом перевел взгляд на Юренева, улыбка исчезла с морщинистого скуластого лица.
– Рэкыттэ йъонэн йилэйил?
– Что, собака настигла суслика? – монотонно перевел Чалпанов.
Он не вкладывал в свой голос никакого чувства и, наверное, правильно делал.
– Собака? Какая собака? – насторожился Юренев.
– Не знаю, – бесстрастно ответил Чалпанов. – Выговор не пойму какой. Тундровый, оленный он чукча или человек с побережья? У него выговор странный. Он фразу не всегда правильно строит.
– А ты строишь правильно? – Юренев грубил.
– Я правильно, – бесстрастно ответил Чалпанов.
Их краткая беседа привлекла внимание Йэкунина. Не спуская глаз с Юренева, он сжал кулаки, резко подался вперед. Глаза его, только что туманившиеся удовольствием, вдруг налились кровью.
– Ыннэ авокотвака! – прохрипел он. – Тралавты ркыплы-гыт!
Чалпанов обеспокоенно перевел:
– Не сиди! Не стой! Ударю тебя! Это он вам, Юрий Сергеевич. Уйдите пока. Поднимитесь пока наверх.
Такое, похоже, у них уже случалось.
Кивнув, Юренев мрачно взбежал по деревянной лестнице на второй этаж.
Я спросил:
– Вы узнаёте меня, Андрей Михайлович?
Чукча Йэкунин разжал кулаки и враз обессилел. Нижняя губа бессмысленно отвисла, глаза подернуло пеплом усталости.
– Он никого не узнаёт, – бесстрастно пояснил мне Чалпанов. – Он не понимает по-русски. Он живет в другом мире, у него там даже имя другое.
– Это не сумасшествие?
– Ну, нет, – сказал Чалпанов спокойно. – В этом смысле у него все в порядке. Он просто другой человек. Его мышление соответствует его образу жизни.
– Как он пришел к этому образу жизни?
– Не знаю, – все так же спокойно ответил Чалпанов, но глаза его обеспокоенно мигнули. – Об этом лучше с Юреневым.
– Да, да, – холодно сказала из закутка женщина в белом халатике. – Поднимитесь наверх.