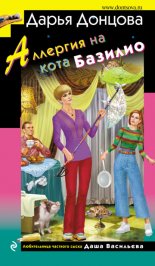Хвост Греры Мелан Вероника

«Шанс заражения семьдесят восемь процентов…»
Мне отсюда не выйти. Хотелось бы верить, что это лишь проявление отчаяния, временная депрессия, но я знала – это, скорее всего, правда. В следующий раз будут бить сильнее, жестче, наверное, будут уже ломать. «Быков» я теперь боялась больше, чем остальных, знала, что стоит им двинуться с места в сторону моей камеры, я, несмотря на визжащее от агонии тело, забьюсь в угол, прижму ладони к лицу, скручусь гусеницей…
Где взять силы, чтобы через это пройти?
Обиднее всего, что стать «кем-то» мне уже шанса не выпадет. Вывод этот леденил душу и вычленял из уставшего разума остатки ярости – не хочу ломаться, не хочу, не хочу… Возможно, это последние часы неудавшейся жизни, но я хочу их прожить. Как придется, как угодно. И, может, благодаря этому – своей иллюзорной борьбе – остаться напоследок для себя хоть кем-то.
Спустя некоторое время – последние минуты, часы я лежала неподвижно – к моей камере снова направились. На этот раз не мужчины в черном, но кареглазый Комиссионер.
Я его ненавидела. Не знаю почему. Испытывала к этому человеку стойкую неприязнь, откровенное отвращение – дело в его глазах, в ауре?
Звякнул замок.
Превозмогая себя, мне пришлось сесть, не дожидаясь приказа. Если бросит «встать», я не встану, пусть поднимает…
Но кареглазый опустился на корточки возле меня, сел; зашуршала серебристая форма. Долго смотрел на меня изучая. Смотрел, как на насекомое, как на колбасу, которая давно уже должна была стать фаршем, но медлила превращаться.
– Еще не сломалась? – спросил неприязненно. Упрекнул.
Зря, мол, кочевряжишься. И не таких ломали, никто долго не держится.
Хотелось плюнуть ему в лицо, но на подобный шаг я не решилась, лишь поджала губы. И да, боль и злость сделали меня чуть сильнее, упрямее, пусть и в самом конце.
Синяки на моем лице, наверное, были похожи на картину импрессиониста – я впервые порадовалась отсутствию зеркала. На них смотрели равнодушно.
– Хочешь чего-нибудь?
Отвернувшаяся было, я даже повернулась обратно, так сильно удивилась нелогичному вопросу. И об этом меня спрашивает он, тот, кто отдает приказы бить?
– Конечно, – не удержалась от циничного ответа, – бокал шампанского и принять ванну. С пеной.
«Пошел в жопу!» – между строк.
Комиссионер хмыкнул без улыбки, с прохладцей в глаза. Поднялся. Ушел.
А через несколько минут «быки» откуда-то принесли пожарный шланг…
Вода была ледяной – ей меня заливали прямо через прутья решетки. И, несмотря на то что я скрутилась улиткой в углу, бетонный напор едва не сломал мне хребет.
Тихо скулила и что-то шептала после того, как все закончилось, женщина в соседней камере – я не знала, какие меры применялись к ней. Сама я дрожала после «душа», не могла подняться, чтобы снять робу, отжать ее.
Ночь я провела в мокрой одежде на мокрой подстилке, как не имеющая дома псина, оставленная без крыши и под дождем.
Глава 6. Хруст
(Les Friction – Louder Than Words)
Мясо пахло непередаваемо вкусно.
Так притягательно, что рот мгновенно захлебнулся слюной, а мозг картинками. Представилась залитая солнечным светом кухня, птичий щебет за окном, и повар, стоящий у плиты. Так готовят с душой, любовно перебирая баночки со специями, добавляя одну щепотку за другой, зная, как сочетать пряности, как создать божественный аромат. Так готовят только тогда, когда сердце полно радостью, когда хочется поделиться с миром чем-то прекрасным, когда цель процесса и результата одна – получить удовольствие.
Горшочек стоял по ту сторону клетки и запрещено вкусно пах; я превозмогла боль, поднялась и, шатаясь, побрела к нему. Опустилась у решетки, протянула руку – ничего, что пальцами и без вилки, не страшно (главное – положить хоть кроху еды в рот). Но не успела. Шагнул из тени мужчина в черном, «помог». Пнул горшок по направлению ко мне – керамика треснула, мясо разлетелось по полу моей камеры. И взгляд: «Вот теперь приступай».
Я смотрела на те самые кусочки, которые так желала попробовать, которыми бредила целую минуту, прежде чем сумела подняться, но теперь уже отсутствующим взглядом мимо.
Я не буду есть с пола. Просто не буду. И дело не в гордости… Где-то у каждого наступает предел – еда больше не манила, не таким образом. Однажды я поддалась инстинктам выживания, желала во что бы то ни стало наполнить желудок, но пинок «быка», кажется, до конца жизни лишил меня чувства голода.
Больно идти назад, до лежанки я недотянула. Легла прямо на пол посреди камеры на спину, закрыла глаза. Все еще дразнил ноздри запах специй и, чтобы заглушить грусть, я принялась вспоминать самое вкусное блюдо в своей жизни. Как ни странно, им тоже было мясо в горшочке, поданное в одном из частных маленьких ресторанов, куда я случайно однажды, во время прогулки, свернула. Что-то понравилось в простой, но приятной вывеске – название места, правда, стерлось из памяти. Запомнилось только, что за окном был пестрый день: солнце то пряталось за облаками, то выглядывало вновь, и эта странная смена света и тени умиротворяла. Позже к вечеру начался дождь. И помнилось собственное настроение – мирное, теплое. Когда ты смотришь на мир, словно укрытый шалью. Торопиться некуда, потому что все беспричинно хорошо…
Я лежала на полу долго; мясо давно остыло.
А после в рубку вошел кареглазый – ярче загорелись под потолком лампы. Быстро окинул меня взглядом, зацепился за битый горшок, за еду, разбросанную по полу. И удалился, предварительно сделав жест «быку» – мол, в чем дело?
Мужчине в черном не пришлось повторять дважды. Звякнула связка ключей, отошел замок, распахнулась дверь, «бык» шагнул в камеру. Процедил зло:
– Приказано, чтобы ты пожрала.
– Тебе приказано, ты и пожри!
Я знала, что любое огрызание будет стоить мне дорого, но взметнулась такая злость, что стало понятно – без ссадин он тоже отсюда не выйдет. Так и случилось. Прежде чем меня подтащили к валяющимся кускам мяса, я успела дважды его укусить, заехать ногтями по роже, пнуть куда-то в область паха… После меня уложили ударом на пол, дважды, чтобы перестала рыпаться, пнули по ребрам – человек в черном впервые пребывал в ярости и я ощущала это по силе пинков, – после подтащили за волосы к еде, ткнули лицом в пол с такой силой, что едва не хрустнул нос… Еще, еще, еще, как котенка. Наверное, этот мудак после силой открыл бы мне рот, сунув в него пальцы, принялся бы пихать мясо прямо в глотку…
Но не успел.
– Хватит! – раздалось из рубки. – Хватит, я сказал!
Я валялась на полу, пытаясь отдышаться, как сломанный краб, неспособный собрать конечности. Когда подняла голову, поняла, что приказ отдал человек с двуцветными глазами, и что я никогда еще не видела такого выражения его лица – убийственно холодного. Жесткие челюсти, жесткая линия губ, зловещий взгляд.
«Бык», так и не выпустивший пар, так и не отыгравшийся на мне окончательно, вынужден был отступить. С окровавленным пальцем, рассеченной щекой и взглядом, прячущим между строк слова «ты не жилец». Возможно. Но жрать с пола не буду.
Плохо, что теперь я даже подняться толком не смогла. Кое-как встала на колени и повалилась на бок.
– Убрать в камере, – процедил Комиссионер за пультом, наклонившись к микрофону, – умыть заключенную, напоить.
На человека с двуцветными глазами я не смотрела и голода больше не чувствовала. Только пустоту – все больше, больше, больше.
Убирался в камере почему-то док.
Он же вынес горшок из угла, сполоснул его где-то, вернул назад чистым. Принес веник, собрал мясо в совок, сложил в мешок. После тер камни пола подобием швабры с чистящим средством – от запаха химии щипало веки.
И он же умывал меня смоченной в прохладной воде тряпкой. Осторожно протер щеки, лоб, подбородок – я не открывала глаз. Не говорила с ним, док молчал тоже – возможно, уже получил выговор за болтливость.
– Вот, – произнес только коротко, – вам надо попить…
Прислонил к моим пересохшим губам бутылку, позволил сделать несколько глотков, стер упавшие на робу капли той же тряпкой.
– Бутылку я вам оставлю.
Может, еще час или день назад, я порадовалась бы питью. Бутылка, два литра. А сейчас чувствовала только, как мерзнет мое тело – оно сдавало позиции. Оно устало от постоянного стресса, защитных реакций, оно теряло силы вместе со мной.
Впервые за всю свою жизнь я подумала, что у меня прекрасное на самом деле тело. Прекрасное. Помогает мне затягивать раны, поддерживает теплом, стуком сердца. Оно держится тогда, когда я уже не очень.
И теперь, когда я ощущала, как оно тоже потихоньку сдается, мне стало ясно – я была дурой, когда сравнивала себя с другими. Кем-то более красивым, стройным, с правильными чертами, формой ног. Кем-то, у кого идеальный разрез глаз, ровнее нос или пухлее губы. У меня все это время была я, были все мои клетки, работающие в полную силу, лишь бы я была счастлива. И я впервые ощутила, что у меня пока еще есть «мы». Я и мое тело.
– Держись, – прошептала едва слышно нам обоим. Хотя держаться уже было сложно.
Ни за что больше не подойду к решетке, что бы за ней ни положили. Ни за что. Больше меня на эту обманку не купят.
Но они купили.
С того момента, как чертова Грера ударила у магазина хвостом, с момента прохождения белой линии, я практически не спала. Мало и урывками. Виной всему натянутые нервы, голод, холод, боль, страх, наконец. Будили при каждом движении не только покрытые синяками руки и ноги, но и чужой плач – к соседке тоже наведывались. Изредка она всхлипывала, иногда рыдала, иной раз орала так, что я сдавалась, закрывала уши ладонями. И становилось еще страшнее; совсем хрупким делался мой внутренний пол. Еще чуть-чуть, треснет и в пустоту.
В этот раз я провалилась в глухую дрему не сразу, постепенно; снов не было.
А проснулась…
Потому что что-то снова лежало за пределами моей камеры – что-то круглое, светящееся.
«Письмо!» То зеркальце, какие раньше приносили в каземат. И зеркальце это вещало тихим, до боли знакомым женским голосом, родным, который я почему-то давно забыла.
– …мы любим тебя, малышка. Любим очень-очень сильно, да?
Мужской смех – теплый, обволакивающий. Так смеется тот, кто просто рад, что ты есть на этом свете, и не нужно других причин.
– …какая ты у нас хорошенькая…
И мой собственный смех на фоне – меня маленькой, меня счастливой, меня «до».
– Мама?
Это забытое слово выпало из моего рта быстрее, чем я сообразила, что уже ползу по направлению к кругляшке. Мне нужно это услышать, увидеть, окунуться туда, где я еще не испытала всех этих ужасов, где меня обнимают теплые заботливые руки. Впервые мне было плевать на боль – мой пластунский спринт мог побить рекорды змеиных бегов.
– Не трогай! – в отчаянии выкрикнула соседка, чье белое лицо и кудлатые волосы остались в моем воображении размытым пятном.
Я должна…
– Не бери!
Она знала больше, она видела больше. Я же созерцала лишь цель – в этом письме то, что мне бесконечно нужно. Одна минута в компании этих далеких и бесконечно родных людей вернет меня к жизни, вдохнет то, что давно испарилось, заполнит пустоту.
Руку я совала сквозь решетку с остервенением – плевать на новые синяки или вывихнутый плечевой сустав. Еще чуть-чуть, еще… но до зеркальца все равно оставались считаные миллиметры.
А после мне на ладонь с размаху наступил мужчина в черном.
И орала я не потому, что хрустнули кости – верещала, как бешеная, – но потому, что следующий удар каблука пришелся по хрупкому стеклу письма.
– …дай я тебя обни…
– Мама… – валялась я рыдая. Каталась по камере, скулила, срывалась на такой бешеный крик, что дрожали стены.
Осколки. Там теперь валялись лишь осколки, но треснуло не стекло, треснуло что-то в душе – не умерло, не сдалось, просто раскололось.
– Отдайте мне письмо, – сотрясалась я, – отдайте его…
В нем был кто-то, кого я почти не помнила. Нет, помнила хорошо, но за пеленой. Чьи лица не могла различить в воображении, но любила заочно.
– …суки, – я скручивалась от внутренней боли, – суки, вот вы… кто…
И с этого момента, полностью убитая внутри, я решила, что буду сражаться, как никогда раньше. До последнего вздоха, до последнего удара сердца. Я, может, и умру, но я уже никогда им не сдамся.
В темноте прошло много времени. Наверное. Высохли слезы.
Вновь приходил доктор, светил ярким тонким лучом в зрачки, отвечал кому-то стоящему позади, что «участок памяти вновь блокирован, но эмоциональные показатели сохранены» – голоса из письма, их звучание стерлось из памяти. Как и ощущение, что меня кто-то где-то ждет. Не обращая внимания на внешний мир, пребывая где-то глубоко в своем внутреннем, я думала о том, что, наверное, скоро уйду отсюда. Перестану дышать. Но сделаю это, потому что сама так решила, потому что устала, а не потому, что меня сломали. Вдруг совершенно отчетливо поняла, что сломать человека нельзя, если он сам себя не сломает. Я делала это каждый день снаружи, раскалывая собственную личность сравнениями, стремлениями успевать за всеми, соответствовать, подгоняя себя под чужие стандарты. Зачем мне вообще были нужны чужие мнения, когда у самой себя была я?
На робе больше не работал компас, не выжил во время избиений. Еще один намек – тебе больше не придется ходить в магазин.
Наверное.
Я стала целой не снаружи, здесь. Печальный парадокс. Больше не желала сдерживать эмоции, кому-то понравиться, стать кем-то другим помимо Кейны. Наверное, прижались к израненной душе все мои разрозненные некогда части и слиплись, обнятые мной же.
Стало глубоко плевать на все, что происходило снаружи. Осталась важна самой себе только я – каждый вдох, каждый удар сердца, каждая минута, проведенная наедине с собой.
* * *
Мне вспоминался парень по имени Матео…
Он был хорошим, действительно хорошим. Застенчивым, очень добрым. Он дарил цветы – простые, полевые. Позже выяснилось, что Матео – гей, решивший впервые попробовать с девушкой. И стать той «первой» я не захотела.
Еще был красавчик из кафе на берегу – официант с пронзительно голубыми глазами. Выдались свободные выходные, и я прилетела отдохнуть на Сарринский полуостров, наслаждалась соленым воздухом, морем, сувенирными лавочками, местным жарким колоритом. Жаль, что с официантом мы так и не познакомились поближе. Хотя он улыбался, делал намеки. Быть может, у нас что-то вышло бы, но я по обыкновению себя застеснялась. Теперь бы повела себя иначе, теперь бы я хватала судьбу за хвост, теперь бы радовалась всему, что валится в руки, как спелые плоды, не думала бы о завтрашнем дне. К черту комплексы, за их ширмой может пролететь вся жизнь – не заметишь.
Хорошие выводы явились поздно.
Все слабее тело, все ближе исход – даже плохое не длится вечно.
Как часто я жалела себя раньше, хотя на самом деле не было тому причин. Неудачи? Все прошлые неудачи по сравнению с текущей выглядели, как птичьи какашки, попавшие на свадебное платье. Все-то и нужно было: постирать, улыбнуться и продолжать церемонию…
А теперь, несмотря на оставшийся внутри стержень, я ощутила себя сосудом, полным битого стекла.
Кареглазый не соврал. Они – эти люди в форме – умели ломать.
Глава 7
(Les Friction – Love Comes Home)
Мужчина с двуцветными глазами опустился напротив меня на корточки. Смотрел долго. И не было в его глазах злости, было что-то иное. Тень печали, может быть, след от укоризны, но не на меня – на ситуацию. Ему нужно было сделать работу – я была ее частью. Частью, которая держалась слишком долго, противостояла, усугубляла собственное положение. Вечно неудобная никому Кейна – не знаю, видел ли он, как мало на самом деле от меня осталось. Но поставить галку в моем личном деле мешала и эта малость.
И все же я радовалась его приходу – абстрактное облегчение, лишенное логики. Он смотрел на меня так, будто хотел по-настоящему понять, будто не улавливал чего-то важного.
– Что тебя держит? – спросил наконец.
«Держит на поверхности. Не дает утонуть…»
Я молчала долго. На долю секунды даже позволила себе нырнуть в иллюзию, что пришел «мой человек», тот, которого у меня никогда не было. Он смотрит на меня неравнодушно, он сейчас погладит по лицу, прижмет к себе…
Не прижмет, конечно.
– Хорошее, – шепнула тихо.
Пауза. Осмысление ответа.
– Но хорошего на СЕ нет.
У него спокойный голос, красивый тембр, проникновенный. От него не веет агрессией, с ним почти тепло.
– Хорошее, – пояснила, постучав пальцем себя по лбу, – вот тут…
Кивок – понимание.
Наверное, камеру нужно было освобождать для следующих заключенных – я занимала ее слишком долго.
– Я могу закрыть доступ к твоим воспоминаниям.
Он может. И, если сделает это, разрушит мою личность. Мы ошибаемся, когда полагаем, что не любим себя. Мы любим. И отчаянно цепляемся за ту малость, которая нам в себе нравилась, когда понимаем, что ее может не стать. Даже за недостатки цепляемся, за все, лишь бы продолжить быть собой – любым собой, которого не принимали раньше. И «я» вдруг приобретает иную ценность.
– Лучше сразу убей.
Я произнесла это без эмоций, осознанно. Заранее соглашаясь, скрепляя соглашение невидимой подписью.
«Убей милосердно. Не больно».
– Сделаешь?
Вокруг темно, но я отчетливо видела его глаза. И нечитаемое выражение лица.
Комиссионер поднялся, так и не проронив ни слова.
Ясно.
Не сделает.
* * *
– Чего ты хочешь?
Мы снова играли в эту игру с кареглазым. И не ответить – значит сдаться.
– Переодеться бы в чистое.
– Без проблем.
Он был наиредчайшим подонком, способным испортить и без того плохую жизнь.
– Раздеть ее! – бросил, выходя из камеры.
Меня раздевали, как куклу, как безвольный мешок – сопротивляться не было смысла. Сдернули робу, оставили старенькие трусы и бюстгальтер. Стало холодно – не снаружи даже, внутри.
Голый человек – униженный человек. Беззащитный, открытый, ранимый. Роба, оказывается, очень много мне давала, а теперь я, как тоненькая ветка на ветру, на открытом пространстве, где вечный шторм.
Держаться дальше не имело смысла – я хотела уйти. Не сдаться, просто перестать дышать, услышать, как мое сердце, успокаиваясь, отбивает последние удары. Если человека долго бить наотмашь, он начинает мечтать о каком-то другом месте, месте, в котором тепло. Я больше не хотела быть на СЕ, в этой камере, рядом с этими людьми. И чувствовала, что мне пора.
Наверное, так решили спустя еще несколько часов и Комиссионеры.
В камеру они вошли оба – лампы позади на полную. У меня ни щита, ни забрала, грязное избитое тело, потухший взгляд. Обидно, когда ты совсем ничего не можешь – отключить бы себя, да все не рвется никак тоненькая нить внутри…
Долгое молчание – мощный неприятный скан. В их глаза я больше не смотрела.
– Полагаю, терять время дальше не имеет смысла, – подвел итог кареглазый. Взмахнул рукой, вызвал в воздухе таблицу. Произнес ровно. – Запрашиваю разрешение на деактивацию объекта ноль-ноль-два-четыре-один.
«Ноль-ноль…» – ощущение пустоты.
«Разрешение на деактивацию…»
Внутри даже не колыхнулось ничего – тихо, безветренно, и ветка давно сломана.
– Разрешение получено, – ответила таблица металлическим голосом.
«Пусть поставят укол», – думала я тихо. Даже плакать нечем.
Последний взгляд на мужчину с двуцветными глазами – хорошо, что он здесь был. Не такой ледяной и равнодушный, как другие. Хорошо, что у меня были эти часы даже здесь, что вообще была моя жизнь.
Пора, да. Я сама так хотела.
«Я не хотела!»
Веки все-таки начало жечь. Жизнь – она такая… От нее так просто не отказываются. Но я не буду при них рыдать, не буду просить пощады.
Вдруг поджались губы у Комиссионера слева – «моего». И голос его стал непривычно жестким:
– Запрос на отмену деактивации.
– Причина? – вопросила таблица после промедления.
Тишина.
– Хочу провести последний тест. Запрос на согласие системы.
– Код теста?
На человека с двуцветными глазами теперь смотрели мы оба – я и кареглазый. Я почти так же безжизненно, коллега в форме удивленно-раздраженно.
– FUS12AN.
– Слияние?! – Впервые кареглазый Комиссионер проявил нечто человеческое, даже выказал беспокойство. – Лиам, подумай…
«Лиам, значит».
– …ты обеспечишь ей очень болезненную смерть.
«Очень. Агонию».
Комиссионер, предложивший тест, молчал. Молчала и система. После ответ:
– Разрешение вами получено.
Теперь я слышала их диалог без слов.
«Подумай дважды…»
«Подумал. Это шанс ее очистить».
«Без шансов!»
«Решение принято».
Они словно поменялись ролями – застывшая в упорстве челюсть двуцветного, тревожный флер от кареглазого. Видимо, какой-то дряни с названием FUS даже этот гад мне не желал. Извращенной смерти.
– Накормить ее, – приказал непреклонный Лиам. И уже мне. – Поешь, тебе понадобятся силы.
Он вышел первым, а нелюбимый мной мужчина с карими глазами еще долго не закрывал висящую в воздухе таблицу. Меня предупредил, находясь мыслями не здесь:
– Если не поешь сама, введем тебе питательную капельницу.
Уходя, сообщил системе:
– Нам понадобятся два наблюдателя в камеру на нулевом этаже. Через час. И подготовить алгоритм реаниматологии…
На последних словах он покачал головой, и невысказанное зависло в воздухе: «Алгоритм, конечно, не понадобится – просто предписание…»
* * *
– Что это за… последний… тест?
Меня накормили рисовой кашей – липкой, безвкусной, – я была рада и ей. И еще больше сладкому чаю. Простому, горячему, ароматному. Так и начинаешь ценить простые вещи, на которые раньше не обратил бы внимания.
Хорошо, что Комиссионер с двуцветными глазами зашел в «столовую» для предварительного разговора. Мне был очень важен этот разговор, потому что человек, который говорит, что больше ничего не боится, врет. Мы боимся всего: неопределенности, боли, собственного будущего, особенно если оно наполнено неизвестностью.
Чужой вздох. Тяжелый, как мне показалось, и стрельнувшая мысль: «Спасибо, что вернули робу». Голым легко общаться только с собственным возлюбленным, но никак не с незнакомым мужчиной, который собирается вскоре творить с тобой нечто сложное и болезненное.
– Я говорил тебе, что Грера не терпит энергию Комиссионеров?
Отвечать «да» не имело смысла, он знал. Продолжил без моего ответа.
– Я наполню тебя собой, каждую твою клетку. И у Хвоста не останется шанса…
Чая было мало, нещадно сохло горло. И молчала я долго.
– У меня тоже?
«Не останется шанса».
Я часто бывала наивной, непредусмотрительной, даже глупой иногда, но теперь для иллюзий не осталось места. Слова кареглазого про «смерть в агонии» помнились отлично.
– У тебя… останется, – Лиам старался говорить мягко. – Иначе бы я не стал запрашивать разрешение на проведение этой процедуры.
«Останется крайне маленький».
На моем лице было написано все – страх, сомнение, нервозность. Обреченность, наверное.
– Кейна… – Мое имя, произнесенное тепло, почти нежно, вновь напомнило о чем-то далеком, хорошем и несбыточном. – Тебе нужно будет довериться мне. Понимаешь? Настолько, насколько это возможно.
«Совсем. Сумей это сделать».
– Заполнять тебя я буду по возможности быстро, потому что человеческая нервная система остро реагирует на такое вторжение, и времени у нас… будет в обрез.
«У нас».
Как будто были какие-то мы, даже ненастоящие.
– Сколько все это… будет длиться?
– Тем меньше, чем быстрее ты сможешь расслабиться. Ты сократишь этим и процент внутренних повреждений, если впустишь меня осознанно, если мне не придется… делать все с усилием.
«Рвать. Прорываться».
– Но я не умею… Не понимаю, как осознанно впускать кого-то.
Даже в этих чертовых условиях, в этой камере, когда меня били, я старалась не плакать, но сейчас очень хотелось. Что-то висело на волоске.
– Ты поймешь в процессе. Почувствуешь. Просто держись за мой взгляд, да?
«За то хорошее, что ты в нем увидела».
Момент завершения нашего диалога я старалась оттягивать максимально долго. Мне не хотелось возвращаться в камеру, не хотелось начинать что-то страшное, пугающее. И следующий вопрос прозвучал оторванно от темы, почти глупо:
– Тебе это приятно? Этот процесс…
Сложный взгляд – живая радужка, сейчас почти целиком синяя. И честный ответ, хотя Лиаму не хотелось отвечать честно.
– Отчасти. Это процесс временного поглощения материи, присваивания ее.
«То есть временно я соединю тебя с собой, сделаю тебя частью своего поля».
Я даже ощутила отклик той волны странного удовольствия, о которой он говорил.
– Но приятно во время того процесса, который нас ждет, мне не будет. Очень много напряжения.