Московский апокалипсис Свечин Николай
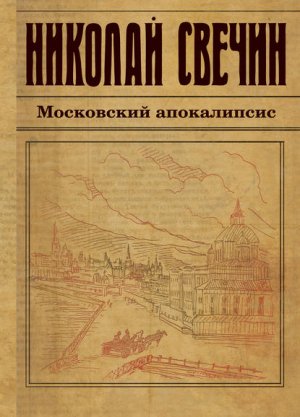
– Дорогу, бесов сын! Прочь с пути!
– С твоей ли рожей в собор к обедне? – ехидно спросил Батырь. – Шёл бы в приходскую!
– Уйди, говорю, покуда цел!
– Никак, с вардалаками решил подраться? Так скажи, мы с полным удовольствием.
Незнакомое слово произвело на «хозяина Бутырки» впечатление. Он осёкся и шагнул в сторону, освобождая проезд. Но Пожарский не уходил, а наоборот, затеял беседу:
– Ахлестышев! Вы почему здесь? Сбежали из-под конвоя?
– Как видите, не я один: при вас таких целая шайка!
– Мои люди не беглецы, а выполняют поручение правительства! Это им зачтётся, они будут освобождены от уголовного преследования. Но вы с вашим приятелем бежали самовольно!
– Выручка![21] А ты заарестуй меня! – ухмыльнулся налётчик.
– Давайте вернёмся к этому разговору потом, когда выгонят французов, – примирительно сказал Ахлестышев. – Поспорим, ежели останемся живы… А пока занимайтесь своим делом, а мы продолжим своё. Саша, поехали!
Батырь дёрнул вожжи, квартальный надзиратель едва успел отскочить.
– Если вы присоединитесь к партизанам, то и вам зачтётся, – торопливо проговорил он. – Обещаю именем Ростопчина – имею такие полномочия.
– Мне некогда!
– Идёт война, Пётр Серафимович, – сказал вдруг взволнованным голосом Пожарский. – Отбросьте личные обиды. Французы в Москве! Слыханное ли дело? Беритесь, как другие, за оружие и…
– В компании с Лешаком?
– Ну и что? Около святых черти водятся. С нами ли, без нас, но воюйте, не отстраняйтесь! Отечество в опасности! Вы же порядочный человек!
– Но ваш суд решил иначе. И Яковлев, фабрикующий улики, носит один с вами мундир!
– Я всё знаю, – тихо произнёс надзиратель. – И про улики, и про неправый суд. Вы обижены, и у вас есть на то причины. Но в такое время… Стыдно, Пётр Серафимович, теперь упиваться личною обидою. Убейте хоть одного француза. И тогда я первый сделаю, что смогу, чтобы вам вернули права состояния.
– А где вы были, когда меня оболгали? – выкрикнул в сердцах Ахлестышев. – Саша, поехали!
Телега рванула. Не выдержав, каторжник оглянулся. Пожарский стоял и смотрел ему в след. Лешак из-за его спины показал кулак, потом подошёл к ближайшему дому, разбил стекло и кинул в окно свою загадочную чурку. Внутри сразу вспыхнуло, языки пламени вырвались наружу. Поджигатели довольно загоготали и двинулись дальше.
Только через час беглецы добрались до цели. Небольшая слободка у слияния Неглинной с Трубной площадью была застроена однообразными деревянными домиками. Вокруг раскинулись поросшие кустарниками пустыри. Место пользовалось среди обывателей недоброй славой. Прохожего человека могли раздеть здесь даже днём, а ночью люди просто исчезали. Молва утверждала, что здешние жители спускали тела своих жертв в «трубу» – подземный коллектор реки Неглинной. Столицей уголовной слободы являлась пивная «Волчья долина» – зловещий притон убийц и грабителей. Полиция обходила пивную стороной.
Саша остановился у входа в заведение, бросил поводья и сказал бодрым голосом:
– Вот я и дома! Заходите со мной, гости дорогие, и ничего не пугайтеся!
На шум вышли два оборванца: седой, в возрасте, бородач, и пятнадцатилетний подросток. Всмотрелись в темноту.
– Кого ещё Луканька[22] принёс? Назовись-ка!
– Тетей, Яшка! Бесы крапчатые, своих не узнаёте?
– Батюшки! – взмахнул руками старик. – То ж Саша-Батырь! Во дела теперя начнутся…
А подросток кинулся к лошади.
– Скамейку[23] накорми, напои и поставь в тепло, – приказал ему налётчик. – Мешок там со скуржой – отдай Мортире на сохранение. А четверть с вином в дом снеси!
Шумной компанией они ввалились внутрь. Большая комната с тремя десятками столов слабо освещалась масляными лампами. За стойкой одиноко скучал кабатчик.
– Серёга, а где все? Чё так пусто?
– Пошли на собак сено косить, – ухмыльнулся тот.
– Дык, Саша, все на тырке[24], – пояснил старик. – Такой день рази можно терять? Он же год кормит! До утра не появятся. А ты, стало быть, утёк? Баяли, весь бутырский гарнизон по этапу отправили.
– Как видишь, не весь. Мы с Петром Серафимычем решили остаться. Ну, дай нам, что ли, пожрать. Эх! Дома не сидится, а в гости не зовут! Людей устрою и тоже в Москву сбегаю.
Вскоре беглецы уже вовсю уплетали тельное. Седобородый Тетей (при свете лампы на лице у него обнаружились клейма «в-о-р») разлил травник. Саша держал перед гостями речь.
– Значитца, так. Ты, Петя, и вы две. Рассказываю, что есть наша слобода. Чтобы понимали, в каком вы здеся полнейшем порядке… Сейчас на Москве три важнейшие шайки. Одна в Грузинах. Ребята там тёплые, числом до сотни. Кистенём метут – будь здоров, не кашляй! Но в чужие улицы не суются, проще говоря – домоседы. У нас с ними лад. Вторая знатная шайка – поблизости, на Драчёвке. Те нам вообче как братаны – вместе, бывает, на делопроизводство ходим. Случись что, мы их выручим, а они нас. Ну, и третья, самые на Москве опасные – это мы, вардалаки. Такое у нас прозвище. Или иногда называют: звери Волчьей долины. Где бы в городе вы не находились, а прижмут вас фартовые, скажите: мы при вардалаках. И тогда вас никто не обидит.
– Даже Лешак? – поинтересовался Ахлестышев.
– Кабы свинье рога, всех бы со свету сжила, – усмехнулся Батырь. – Что Лешак? Он, конечно, «иван», и по этому праву всё-таки фигура… Но не московский, а пришлый. Спрыть вардалаков не потянет. У нас поведенция простая: кому не мило, тому в рыло! Если станет лезть – пожалуйся мне, я ему бороду на жо… простите, княгиня! кой на что натяну.
При этих словах Батырь отпил травника и закусил малосольным огурцом. Оглянулся на тёмное окно, спросил:
– Сколько сейчас, кто знает?
– Ах, Ольга, получи обратно свои часы, – спохватился Пётр. – Сейчас… половина первого до полудни.
– Надо поспешать. Оставляю вас на Тетея. Он мой старинный товарищ и комендант слободки. Ляжьте в дальних комнатах и ничего не опасайтесь. Отдохните – устали, чай… Утром я вернусь и решим, как дальше жить.
У Ахлестышева и впрямь уже слипались веки. День, начавшийся в камере Бутырки и закончившийся в воровском притоне, оказался перегружен событиями. Ольга с камеристкой тоже утомились. Все безропотно ушли спать. Заботливый Тетей показал гостям, где отхожее, и выдал Евникии таз и кувшин с горячей водой. Женщины быстро уснули. Петру же пришлось ещё вернуться в горницу, когда он услышал оттуда знакомый голос. Это пришла Мортира Макаровна. Гулящая расспрашивала Тетея так громко, что подняла бы и покойника… Ахлестышев счёл себя обязанным выйти и поздороваться.
Толстая, румяная, красивая и весёлая – вот главные характеристики Мортиры. Бойкая девушка, она у всех окружающих сразу создавала приподнятое настроение. Пётр заметил это ещё в тюрьме, где гулящей улыбались самые суровые надзиратели. При том подруга Батыря была очень набожна.
Увидав гостя, Мортира Макаровна расцеловала его в обе щёки и тут же пристроила к делу.
– Пётр Серафимович, разберите, пожалуйста, моё затруднение! Пришли ко мне нынче трое хранцузов. Ничего так ребята, ласковые. Не обидели.
– Тебя, мне кажется, мужчины никогда не обижают.
– Ваша правда, мы от вашего брата больше хорошего видим, нежели плохого… Но вот чем они расплатилися. Поясните дурёхе безграмотной, что это будет на наши рубли?
И она протянула каторжному горсть серебра разного калибра. Тот подошёл к лампе и принялся разбирать монеты.
– Так… Прусские зильбергроши… пьемонтский скудо… и австрийский двойной талер. По курсу берлинской биржи… примерно два рубля семьдесят копеек на серебро.
– Это с трёх-то человек? – расстроилась гулящая. – Негусто! Анчутка[25] их раздери! Обманули девушку, прохвосты. Жалко-то как… Научите тогда, как в дальнейшем поступать, явите милость! Столько тыщ мужиков, голодных до нашего тела, в Москву пришло. Капитал можно составить! Я домик свой ребятам показала и ожидаю теперя множество гостей. Работы непочатый край! Но скока же мне с них брать, коли у них такие непонятные деньги? С нашими у меня твёрдая цена: рупь с четвертаком. Скуржавые. Ассигнации я не беру.
– Ты смотри по весу. В русском рубле чистого серебра 4 золотника 31 доля. С четвертаком выйдет чуть более пяти золотников. Европейское серебро пробой обычно ниже, и меньше монетный вес. Особенно у Рейнского союза… то бишь, у немцев.
– И чево из этого следует? – захлопала глазами Мортира.
– Из этого следует, что тебе не нужно считать по номиналу. Забудь про цифры на монетах. Иначе запутают и опять обманут. Бери по весу. Так, чтобы их монеты были примерно в полтора раза тяжелее, чем наш рубль с четвертаком.
Гулящая наморщила лоб, повторяя про себя последнюю фразу, потом кивнула.
– Поняла! Это мы управим. Ежели и обмишурюсь, то не намного. А можно и аптечные весы спроворить!
– Вот сегодня ты недополучила около половины своего тарифа.
– Черти! Мать иху в отца! А такие обходительные были. Ну, это тока в первый раз, по нашей неопытности. Больше уж у них мошенничество не пройдёт. Спасибо, Пётр Серафимович, за вашу… как её сказать? арихметику. А теперь откройте, что за княгиню вы привезли? А то вон Тетей сам в недоумении, разъяснить не сумел, а нам любопытство.
Пётр, как мог, изложил историю Ольги и своё к ней отношение. Сентиментальная душа, Мортира Макаровна чуть не всплакнула над судьбой жены, брошенной законным супругом в минуту испытаний. И обещала беглому каторжнику, что никто тут княгинюшку не обидит – она сама за этим проследит! На этой ноте Пётр отправился наконец спать.
Проснулся он, когда уже совсем рассвело. Из горницы доносился громкий шум. Ахлестышев обулся и пошёл на голоса. Все столы в заведении были заняты. Полсотни вардалаков дуванили – делили ночную добычу. Перед каждым лежали груды вещей: столовое серебро, отрезы дорогих тканей, меха, каминные часы вперемешку с головами сахара и бутылками. Пещера Али-Бабы, а не пивная на окраине Москвы! Посреди комнаты, упираясь головой в низкий потолок, возвышался Саша-Батырь. Он был в шикарной бобровой шубе, а на обоих мизинцах сверкали по перстню. Увидав приятеля, Саша подбежал, за руку подвёл его к стойке и громогласно объявил:
– Господа вардалаки! Вот. Прошу жаловать сего человека, словно бы то был я сам. Пётр Серафимович Ахлестышев, наипервейший товарищ мой с малолетства. Это он со своим умом научил меня сбежать! Лишён дворянства по облыжному обвинению, составленному псами-сыщиками. Пётр Серафимыч, а также его тётка княгиня Шехонская со своей трясогузкою, находятся здесь под моею рукою. Стало быть, и все вы должны беречь их, защищать и не обижать. Ура господину Ахлестышеву! Всем выпить канки за его здоровье![26]
Пятьдесят лужёных глоток заревели разом. Петру налили в оловянный стакан полугара и заставили чокнуться с каждым из вардалаков. Парни подходили по одному, представлялись и уступали место следующему. Наконец процедура знакомства закончилась, и каторжник смог спросить у друга:
– Ты как это всё добыл? У своих, у русских отымал?
– Нет, только брошенное взял. Айда с нами – сам увидишь. Там добра на всех хватит! Народ разбирает, почтительно так, без мордобоев: тут наши, там французы. Мы на Никитскую сбираемся. Едешь? Весёлое дело! Дадут – в мешок, не дадут – в другой.
– Саш! Как же я чужое буду брать? Оно же чужое!
– Да оно сейчас ничьё!
– Ну, не уверен… Хотя из любопытства разве? Внукам у камина чтобы было что рассказывать.
– Какие на хрен внуки? Тут такой случай! Богатство можно сколотить в два дни! Опосля никто не станет разбираться, откуда вдруг у тебя капитал возник. Смотри, сколько я надыбил за полночи! Три лоханки, веснух двое, сверкальцев целый ширман![27]
– А пошли! Брать ничего не буду, а поглядеть погляжу. Только как с Ольгой быть? Что она без меня? Боязно ей. И потом, не может же княгиня жить в таком притоне! Надо бы другое место найти.
– Сухари! Шманал![28] Мортира уж всё за нас с тобой придумала. Её твоя любовь-морковь впечатлила – она девка добросердая. Княгиня с Евкой переезжают в Нижний Кисельный переулок. Будут жить за стенкой с Кулевриной.
– У вас тут слободка или артиллерийский парк? Что ещё за кулеврина?
– Кулеврина Степановна – подружка Мортиры Макаровны. Длинная и тощая, потому так называется. Но и на кости, пра, находятся любители!
– Гулящая?
– А то.
– Что за дом хоть? Не собачья конура?
– Добрый пятистенок. Там сейчас бабы убираются, полы намывают. К обеду новоселье справим. Хозяйка им за кухарку станет. Муж её приличный налётчик – вон, у окна сидит.
– Саш, им пока платить нечем, поверь, пожалуйста, в долг! Под моё поручительство. Ольга богатая – потом всё вернёт.
– Не майся из-за ерунды! Тут такое творится, а ты копейки считаешь. Разберёмся!
– Спасибо. Но ведь к Кулеврине твоей французы пойдут!
– Беспременно пойдут. Даже косяком! И что с того?
– А вдруг они за стенку сунутся? Ольгу обидят?
– Это как? Там Тетей с ребятами, они порядок соблюдут. Если кто хамить начнёт, деньги не платить или ещё чего – так и в морду поймает!
– А дальше? Ну, изобьют они наглеца. А тот обидится и приведёт сто человек с ружьями. Что твой Тетей тогда сделает?
– Ты, Петя, видать, с солдатами дела не имел… За баб положено платить, и все солдаты об том знают. Тех, кто мошенничает, во всём мире бьют, и в Москве тоже бить будут. Потому – обычай. Ей же одеться-обуться надо, детёнков кормить, у кого есть…
– Это в мирной жизни так, и то усомнюсь, а тут война. Пришли мародёры, привыкшие брать чужое без спросу!
– Зачем я с тобой спорю? То, чем ты меня стращаешь, нонешним утром уже случилось. Полячок один Кулевриной попользовался, а платить не захотел. На том как раз основании, что завоевателям-де оно дозволяется. Тетей его поучил и соргу[29], какую в карманах нашёл, отобрал. И выгнал. Пан разобиделся и побёг на Лубянку жаловаться. Там французов целая дивизия стоит – помнишь, вчера мы их переулками объезжали? Ну, те и пришли. Слово в слово, как ты обещал: сто человек с ружьями.
– И?
– И – разобралися. Я уж хотел тебя будить, да у них свой толмач отыскался, бывший графа Салтыкова крепостной человек. Десять лет, как убёг в Данциг, на всех языках чешет. Он и спотворил.
– Чего спотворил-то?
– Причину разъяснил. За что поляку Харьковской губернии Мордасовского уезда город Рыльск начистили. Пришли-то такие сердитые, усы как у тараканов, в медвежачьих шапках – страсть! Всю слободку обещали пожечь. А как Кулеврина рассказала про нехороший ляха поступок – то и вскрылось. Осерчали французы. Уж они били проходимца, уж лупцевали… Эдак даже в русской полиции не бьют! Бросили потом в телегу, может, и неживого, и куда-то увезли. И обещание дали, что бабам больше обид от них не будет.
– Неужели ты в это веришь? Напьются и забудут! Французам сейчас в Москве слова поперёк не скажи – захватчики!
– Эти не забудут. Там есть один, Жаком кличут. Набольший ихний – по-нашему, как бы фельдфебель. Ростом почти с меня! Выпили мы с ним и сдружились. Жак сказал: в случае чего, идите прямо ко мне, на Кузнецкий. Любого окоротим. Особливо, кто станет Мортиру с Кулевриной обижать. Так что, никто твою княгиню драгоценную не тронет, не бойся. И Тетей не даст, и солдаты понятие получили. Иди, объясни ей про новоселье, да поедем на делопроизводство. А то без нас всё разберут!
Ахлестышев набрал у буфетчика калачей, калёных яиц, печёнки и отнёс женщинам. Ольга очень ему обрадовалась. Второй день они общались только на людях, и при обстоятельствах весьма драматических. Времени объясниться, а тем более понять эти обстоятельства, у них ещё не было. Четыре месяца назад влюблённых разлучили, а потом Ольга стала княгиней Шехонской. Это сильно смахивало на предательство. Хотя Пётр склонен был понять барышню, пропасть оставалась пропастью. Узы брака, освящённого венчанием, не перешагнёшь и не объедешь сбоку. Всё переплелось и перепуталось. Как разобраться в этом? Виновата она перед ним, или нет? Могут они быть счастливы вдвоём, или всё потеряно безвозвратно? Требовалось привыкнуть друг к другу заново и потихоньку вычеркнуть старые обиды. И всё это – на краю бездны, под боком у войны. Жизнь словно пробовала молодых людей на излом. Водоворот событий нёс влюблённых против их воли – слава Богу, пока в одном направлении. Неизвестность, зыбкость завтрашнего дня пугала и завораживала. По городу ходила смерть. Но в эти жуткие дни, которые могли кончиться катастрофой в любой момент, Пётр и Ольга были по-своему счастливы. И хотя их счастье было похоже на карточный домик, оно всё равно грело…
Известие, что они с Евникией переезжают в обывательский дом, княгиню обрадовало. Пётр вызвал коменданта и поручил женщин его попечению. Обещал явиться в полдень на новоселье – и побежал на улицу, к другу.
Саша сидел в их вчерашнем трофее и нетерпеливо поигрывал вожжами. Знакомая буланка рванула с места, как породистый рысак. Четыре других телеги, набитые вардалаками, ехали следом. Налётчик уверенной рукой направил свой отряд вверх по Неглинной, потом свернул на Кузнецкий мост. Улица оказалась забита французами. На биваке был устроен огромный и шумный базар. Перед каждым домом возвышалась большая куча награбленных вещей – от бутылок с уксусом до мебели и пианино. Хозяин сидел на стуле и курил трубку или отхлёбывал из бутылки. И отчаянно торговался с покупателями. В толпе перемешались все мундиры Великой армии – итальянцы, вестфальцы, саксонцы, поляки, голландцы, далматинцы… В роли торговцев выступали Старая и Молодая гвардия, остальные вынуждены были покупать у них. А как оказались одеты грозные завоеватели! Они словно сошлись на маскарад. Один щеголял в гарусной шали, второй парился в собольей шубе, третий завернулся в шитый золотом халат, четвёртый напялил зачем-то поповскую рясу. Общеармейская братия толкалась, бранилась, торговалась и скупала всё без разбору. Появление колонны бородачей вызвало удивление, но никто не пытался остановить вардалаков. В одном месте Батырь остановился, соскочил с телеги и подошёл к усатому великану в мундире фланкёра Молодой гвардии, с нашивками сержант-майора.
– Жак!
Два гиганта обнялись, как добрые знакомые.
– Смотри, Жак, вот это мой лучший друг. Петь, переведи, кто ты есть!
Ахлестышев подошёл и представился.
– А теперь спроси у него, что стало с тем поляком?
– А! – отмахнулся Жак. – Отдали Легиону Вислы. И строго-настрого велели больше так не делать.
– И что же легионеры?
– А что легионеры? – удивился фланкёр. – Ежели гвардия велит, это всегда исполняется.
– Что я тебе говорил! – обрадовался Саша. – Солдаты люди с понятием. Ну, поехали!
Колонна прошла насквозь Камергерский переулок, пересекла Тверскую и свернула в Никитниковский. В воздухе сильно запахло гарью, небо затянуло густым зловещим дымом. Вдруг откуда-то сверху прямо в телегу упала горящая головня. Солома под ней сразу вспыхнула. Ахлестышев чертыхнулся и выбросил головню на мостовую.
– Однако! – только и сказал Саша-Батырь.
Оказавшись на Большой Никитской, налётчики словно переместились в другой мир. Здесь тоже кучками гуляли французы, но их уже было меньшинство. Намного больше виднелось русских пехотных солдат. Целыми толпами они ходили по округе, в полной амуниции и с ружьями. Захватчики смотрели на них с недоумением, а столкнувшись лоб в лоб, уступали дорогу. Многие из пехотинцев были пьяны и тащили награбленные вещи. Но имелись и такие, что ничего не тащили, курили трубки и фланировали с видом наблюдателей. Грабежом, наряду с французами, занималась уже знакомая Ахлестышеву по вчерашнему дню чернь вперемешку с дезертирами. Отличались и подмосковные крестьяне. Эти действовали сплочёнными отрядами, разъезжая на огромных ломовых телегах, запряжённых сильными лошадьми. Крестьяне врывались во дворы, допрашивали уцелевшую прислугу, ловко находили тайники со спрятанным добром и грузили его на возы. Вооружённые топорами, они никому не уступали дорогу, и связываться с ними не решился даже Саша-Батырь. Но в конфликтах и не было необходимости: брошенных богатств хватало на всех.
Найдя особняк пофасонистей, на углу Калашного переулка, вардалаки разделились. Несколько человек вошли через парадное, вырвав дверь лошадью. А Саша с парой помощников, сломав калитку, начали обыскивать дворовые постройки. Ахлестышев увязался за ними.
– Во, смотри! – ухмыльнулся Батырь, зайдя в кладовую. – На дальней стене. Вишь? Штукатурка ещё не обсохла. Кругом одно и тоже…
Действительно, одна из стен была побелена совсем недавно и сквозь побелку проступали сырые разводы.
– Никакой фантазии у людей! Как поняли, что Москву отдадут – слепили на скорую руку. Уложили туда стрень-брень[30], а сами драпанули. Тоже мне тайник, етит их через коромысло! С порога видать. Стёпка, ломай!
Плечистый Стёпка замахнулся и одним ударом кувалды проломил в стене дыру. Расширив её, Саша-Батырь пролез внутрь и стал выбрасывать спрятанные там вещи. Больше всего оказалось добротной, неношеной одежды – и мужской, и женской. Ещё обнаружились персидские ковры, большое зеркало в золочёной оправе, два серебряных блюда, сундук со столовым бельём, три хрустальных люстры и сервиз на двенадцать персон севрской работы.
– На-ка, приоденься! – Саша кинул товарищу узел с мужским платьем. – Гля, какие клёвые бандырь с комзолкой! И шкеры совсем новьё.[31] А то ходишь, что босяк…
И Ахлестышев, хоть и обещал ничего не брать, безропотно переменил одеяние.
– Зеркало Мортире подарю, – озабоченно оценивал добычу Батырь, – и лювстру одну. А тарелки брать али нет, как думаешь? Мы такими не пользуемся.
– Возьми, – посоветовал Ахлестышев. – Потом продашь. Не меньше двух тысяч ассигнациями выручишь.
– Ого! Вот и от тебя польза. Беру! А это что за кле? Непонятная хреновина, а по ней – камень-маргарит. Пошто она?[32]
И налётчик показал большую плевательницу из серебра, золочёную и украшенную жемчугом.
Каторжник объяснил приятелю. Тот обрадовался: будет куда в старости плюнуть! И тоже прихватил с собой.
Пётр помог грабителям перенести находки в телегу. Ещё кое-что вардалаки обнаружили в самом особняке. Они раскладывали добычу по возам, как вдруг ставни соседнего дома разом распахнулись. Из окон вырвались саженные языки пламени, густой чёрный дым повалили вверх. Что-то лопалось и взрывалось внутри.
– Ребята, тикаем! – скомандовал Батырь. Но пробиться вперёд оказалось невозможно. У Никитских ворот полыхало сразу в нескольких местах, огненный ветер бил в лицо, обжигая кожу. Лошади заржали и стали метаться в страхе. Саша развернул отряд, и они через Большой Кисловский переулок выбрались на Воздвиженку. Тут тоже горело полдюжины домов, но искр и дыма было меньше. Вардалаки сунулись к Пашкову дому, но там вовсю хозяйничали шассеры[33] в зелёных эполетах. Невысокие, ловкие, они громили здание с одного конца, пока оно горело с другого. Саша полюбовался их слаженной работой и тронулся к бульварам. В конце Воздвиженки они обшарили богатую усадьбу Талызина и нашли много вина и провизии. Решив, что добычи уже достаточно, Батырь велел возвращаться домой.
По длинному Калашному переулку колонна выехала на Тверской бульвар. Здесь не замечалось ни огня, ни дыма. Русские мушкетёры толпились на тротуарах вперемешку с французами, но последних было уже большинство. Из распахнутых настежь окон домов высовывались во множестве наши раненые. В грязных, окровавленных повязках, они умоляли принести им воды и хлеба. Крики этих калек, брошенных армией, сопровождали отряд и на Страстном бульваре. Вдоль улицы стояли распряжённые телеги, тоже набитые увечными солдатами. Это мобилизованные крестьяне, привезя раненых в Москву, бросили свои повозки и удрали верхом, чтобы их не привлекли вторично. Кое-где возле госпиталей суетились французские лекари. Они пытались помочь несчастным, но тех были тысячи, и французы не справлялись. Батырь правил с каменным лицом, торопясь быстрее проехать мимо. Только однажды он повернулся к Петру и сказал сиплым голосом:
– Ну что я могу поделать?
– В городе разгорается большой пожар, – в тон ему ответил Ахлестышев. – Они же все сгорят!
Налётчик при этих словах ещё сильнее стегнул буланку. Они резко завернули на Петровский бульвар – и оба хором вскрикнули. Со стороны Драчёвки на слободку надвигалась сплошная стена огня.
Глава 4 «Московский апокалипсис».
Держась правой стороны бульвара, закрыв лица полами одежды, вардалаки долетели до Трубной площади и свернули на Неглинную. Их встретили несколько десятков обитателей Волчьей долины. С баграми и топорами, а также полными кадушками воды, они готовились к встрече с огнём. Распоряжался всем Тетей.
Вернувшиеся налётчики тоже встали в цепь. Жар приближающегося огня нарастал. На слободку непрерывно падали сверху горящие доски и головни. К ним тут же подбегали, набрасывали кошму или заливали водой. На той стороне площади то тут, то там, как спички, вспыхивали дома. В Драчёвке было совсем плохо – она погибала. Закопчённые, в обгорелой одежде, оттуда бежали люди. Кто-то тащил узлы с вещами, но большинство не успело схватить и самого необходимого. Между Трубой и Сретенкой – множество переулков, застроенных деревянными домами непритязательной архитектуры. Все они сейчас были обречены. Несчастные погорельцы добегали до Неглинной и здесь переводили дух. Иные падали без сил, от отчаяния и горя. Всюду стоял плач; люди наперебой рассказывали друг другу об ужасах пожара…
По счастью, ветер дул с юго-запада. Зловонное болото – беда Трубной площади – представляло для огня некоторое препятствие. Кроме того неподалёку, у Рождественской, находился бассейн от Мытищинского водовода (местные жители называли его – «басейня»). Этот источник был теперь очень кстати, поскольку в изобилии поставлял воду для тушения. Саша-Батырь принялся энергично распоряжаться. Добычу со всех телег сложили в каменную кладовую, закопанную в землю по крышу. Туда же аборигены Волчьей долины спешили укрыть самое ценное из домашнего скарба. Уголовные проявили высокую степень организованности. Были заведены дежурства – люди сменялись каждые два часа. На случай бегства стояли наготове запряжённые телеги. Во дворах запасли бочки и вёдра с водой. Но опасность, наползающая с севера, казалась неодолимой.
Неожиданно в начале Неглинной появилась большая колонна французов. Всмотревшись, Ахлестышев не поверил глазам. Целая рота сапёров с топорами на длинных рукоятках спешила на выручку слободе. Впереди, возвышаясь над товарищами подобно голубятне, шёл сержант-майор Жак и кричал:
– Мортира! Кулеврина! Саша! Мы идём!
Рослые бородатые мужики в длинных кожаных фартуках и белых крагах сразу внесли успокоение в ряды обывателей. Только сапёрам во всей Великой армии разрешалось носить бороду, и это делало их похожими на русских. Люди увидели, что пришла помощь, и повеселели. В рядах французов тут же обнаружилась Мортира Макаровна. Выяснилось, что многих она уже знает по именам! Послышался хохот, полетели солёные, но добродушные шутки. Сапёры щипали сочную девку за пышные формы и улыбались до ушей. Ай да Мортира!
Жак подошёл и пояснил Ахлестышеву с Батырем:
– Дивизия Роге, к которой я имею честь принадлежать, получила приказ защищать Французский квартал.
– Это где такой в Москве? – изумился налётчик.
Пётр расспросил унтер-офицера и выяснил, что в понятие «Французский квартал» входили площадь у Владимирских ворот Китай-города, Лубянка, Мясницкая и Кузнецкий мост с прилегающими переулками. Но Жак с приятелями самовольно расширили географию опекаемого района. С целью защитить Мортиру Макаровну с Кулевриной Степановной! И вот сапёры Молодой гвардии явились на помощь Волчьей долине…
Ситуация стала выправляться. Ветер утих, пламя отступило от бульваров и ушло вглубь Драчёвки. Пётр решил, пока спокойно, найти Ольгу. С помощью Тетея он разыскал дом в Нижнем Кисельном переулке, и стукнул в левую половину. Послышался робкий голос Евникии:
– Кто там?
Через минуту Пётр уже обнимал княгиню Шехонскую.
Выяснилось, что женщины устроились по нынешним временам неплохо. Однако пожар на соседних улицах сильно их напугал. Ольга стала уговаривать Ахлестышева перевезти их в Замоскворечье. Там, на краю города, у Серпуховской заставы жили родители Евникии. Место было глухое, далёкое от богатых усадеб и, значит, не интересное мародёрам. Да и покинуть при случае Москву оттуда легче.
Пётр выслушал просьбу и задумался. Конечно, рота сапёров с топорами сейчас никому не лишняя. Но это инициатива самих солдат. Пожар, похоже, будет разрастаться. Когда вспыхнут генеральские квартиры на Лубянке, никто не позволит сапёрам отвлекать силы на защиту проституток. Надо уходить за реку, пока можно.
Он послал камеристку за Сашей, и влюблённые впервые за это время остались одни. На четверть часа Пётр забыл о французах, пожаре и почти неминуемой гибели… Но потом явился Батырь, и не один – он привёл с собой Жака. Мужчины устроили военный совет.
Фланкёр тут же выложил плохую, но ожидаемую новость: сапёрам велено вернуться в полк. Ахлестышев познакомил француза с княгиней, одной фразой обозначил своё отношение к ней и затем сказал:
– С вашим уходом гибель Волчьей долины неизбежна. Я опасаюсь за женщин. Надо увезти их в безопасное место, такое, как окраина Замоскворечья.
– Соглашусь, – ответил Жак, – но доехать туда вам не дадут. Вышел приказ: реквизировать у русских всех лошадей. Первый же патруль вас остановит и высадит.
– До Серпуховской заставы почти десять вёрст. В городе пожары, грабежи, мародёрство. Мы не дойдём дотуда живыми.
Жак задумался.
– Я не могу выделить вам конвой. Ни начальство, ни солдаты не поймут этого. Заботу о Мортире поймут, а на русскую княгиню им, извините, плевать. Но можно сделать иначе. Вы, Пьер, говорите по-французски лучше многих парижан. Я выдам вам запасной комплект обмундирования фланкёрского полка и снабжу бумагой за своей подписью. Что рядовой такой-то выполняет приказ ротного командира. И вы попробуете пробраться через посты. Как? Шансы есть – автограф Жака Анжильбера кое-что значит в Великой Армии.
Идея пришлась всем по вкусу. Саша вызвал коменданта слободки и сказал, что отлучится до вечера. Довезёт товарища с женщинами до места, убедится, что там безопасно, и вернётся. Затем начались сборы. В телегу сложили баул с вещами и немного провизии. В сопровождении сержант-майора они поехали на Лубянку. Жак приказал каптенармусу принести обмундирование и штатное оружие со снаряжением. В этом году армия перешла на мундиры нового образца – с короткими фалдами и закрытым жилетом. Однако пошить их не успели, и большинство армейцев ходили в старых мундирах: с длинными фалдами и с жилетом наружу. Такой и достался Петру. Затем Жак выписал пропуск. В нём было указано, что рядовой Пьер Баккара выполняет приказ начальства по сопровождению троих русских. Беглецы уже садились в телегу, когда унтер-офицер сказал в спину Ольге:
– Не проклинайте нас, мадам. И храни вас Бог…
Княгиня живо обернулась.
– Я не проклинаю вас, мсьё Анжильбер, я вам благодарна!
– Но я же всё вижу! И понимаю ваши чувства. Да, французы явились сюда без приглашения. Но мы всего-навсего солдаты и выполняем приказ. Когда всё это закончится, приезжаете ко мне в Вогезы. Там есть маленький городок Баккара. Именно в честь него ваш друг получил свою новую фамилию. Я буду рад принять вас, и моя жена тоже. Договорились?
– Договорились, – кивнул Ахлестышев. – И пусть Бог хранит также и вас. Лично вам я желаю благополучно пересечь Неман. В обратном направлении. Это удастся не всем.
– Вы полагаете? – нахмурился Жак.
– Убеждён.
Сержант-майор с чувством пожал руки мужчинам, поклонился женщинам, и телега пустилась в опасное путешествие.
Сразу встал вопрос, как пробиваться к Серпуховской заставе. Самым коротким был путь через Зарядье и Москворецкий мост. Но в Китай-городе во множестве квартировали французы, и можно было нарваться на придирчивый патруль. Объезжать через Чистые пруды и Покровский бульвар тоже казалось опасным. На востоке полыхало уже всё: Лафертово, Рогожа, Таганка. Оставалась дорога через Охотный ряд и Моховую на Каменный мост. Так и порешили. Батырь сел за возницу, за ним устроились дамы, Ахлестышев в обнимку с ружьём поместился сзади всех.
Как только они свернули на Кузнецкий мост, стало ясно, что и здесь дела плохи. Горело сразу несколько магазинов. Гвардейцы усердно их тушили, но исход поединка с огнём был неясен… Саша завернул в Камергерский и остановился у ворот Георгиевского монастыря. Он решил проведать тётку, живущую здесь в прислугах. Крохотный монастырь, со всех сторон зажатый переулками, поразил тишиной. Прямо перед собором Святого Георгия лежал без дыхания пожилой бородач в исподнем, с разбитым в кровь лицом. Налётчик всмотрелся в него и ахнул.
– Это ж настоятель, отец Феофан! Кто его так?
– Хранцузы, мил человек, – пояснила какая-то старуха в чёрном, с ненавистью косясь на одетого в синий мундир Ахлестышева.
– Да за что?
– А он утварь скрыл и селебряные оклады, какие были. И не хотел сказывать, куда.
– Ну, скрыл. А дальше-то чего?
– До смерти забили.
Батырь поперхнулся.
– Французы? Настоятеля?
– Они, милок. Сущие звери. Прямо на амвоне замучили, потом уж мёртвого сюды сволокли и бросили. Его и дьякона. Дьякон-от, можа, ещё отойдёт, он молодой. А отец Феофан преставился.
– Выдал он тайник или нет, бабушка?
– Не выдал, молчал, за то и смерть принял мученическую. Осерчали очень хранцузы на его нежелание. И дьякон не сказал, хотя тоже знал.
– Так и не нашли?
– Сыскали, окаянные. Кто-то другой шепнул. Подсмотрел, али как… А отец Феофан…
Тут бабка шмыгнула носом и отошла в сторону.
– Эвона что… – сжал огромные кулаки Батырь. – Значит, не все французы, как Жак. Не все… Бабка!
– Здеся я, милок! – выскочила вперёд старушка.
– А остальные где? Тётка Лукерья моя где? Чё тут у вас пусто?
– Убёгли, как началось. Из русских тока я. Ночью хочу схоронить отца Феофана. Помог бы ты мне, а? Одна-те я не сдюжу.
– Погоди! Из русских только ты, а из нерусских кто?
– Да вы же мимо прошли! Там один, рыжий, мясо рубит. На образе.
– На образе – мясо? Покажи-ка мне его!
– Вон того дома насупротив. Сходи, и увидишь.
Батырь выбежал за ворота и опешил. На мостовой рыжий фузилёр разделывал тесаком баранью ногу, положив её на икону. Лицо налётчика потемнело и сделалось страшным. Француз обернулся и сказал небрежно:
– Рюс, пшёль! Эй!
Саша приблизился, занёс кулак. Рыжий смотрел на него снизу вверх с высокомерным недоумением. Раз! Что-то хрустнуло, то ли шея, то ли череп, и мародёр растянулся на тротуаре. За Сашиной спиной вдруг появился второй фузилёр. Выхватив тесак, он бесшумно подкрался и замахнулся. Батырь не видел опасности – он подобрал икону и вытирал её полой армяка.






