Перед восходом солнца Зощенко Михаил
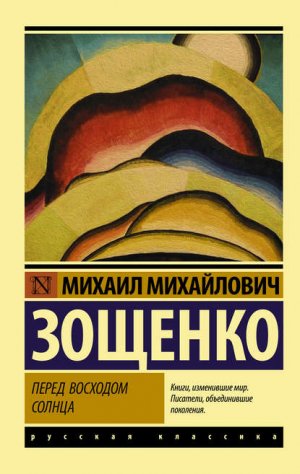
Я гляжу на его курносый нос, я смотрю в его жалкие голубоватые глаза. Я вспоминаю его лицо почти через тридцать лет. Он действительно был убит на второй день после того, как приехал на позицию.
В ту войну прапорщики жили в среднем не больше двенадцати дней.
СПАТЬ ХОЧЕТСЯ
Мы входим в зал. На окнах малиновые бархатные занавеси. В простенках зеркала в золоченых рамах.
Гремит вальс. Это играет на рояле человек во фраке. У него в петлице астра. Но морда у него – убийцы.
На диванах и в креслах сидят офицеры и дамы. Несколько пар танцует.
Входит пьяный корнет. Поет: «Австрийцы надурачили, войну с Россией начали…»
Читать бесплатно другие книги:
Барон Максимильян, чрезвычайный и полномочный посол его величества Нумеда III к Подгорному престолу,...
Слово «наваждение» заимствовано из старославянского языка и означает «обманчивое видение, внушенное ...
Думаете, что Баба-Яга – это такая старуха с костяной ногой? Я тоже раньше так думала. Оказалось, что...
Имани – жена на одну ночь. Угораздило же меня попасть в тело несчастной, отданной в невесты Князю ть...
Мориса Дрюона читающая публика знает прежде всего по саге «Проклятые короли», открывшей мрачные тайн...
Будущее Антону Ильину представлялось простым и ясным. Старшина срочной службы, отличник боевой и пол...






