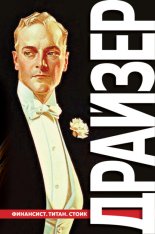Развяжите мои крылья Туманова Анастасия

– Ты почему на суд не приехала?
Калинка настолько не ждала этого вопроса, что не сразу нашлась что ответить. Сергей схватил её за руку, с силой, не жалея, стиснул:
– Почему ты не приехала? Все наши были! Из Вишеры, из Пскова, из-под Новгорода! Таборные – и те припёрлись! Почему тебя не было?!
– Но… Серёжа… Я же не знала, клянусь тебе, я не знала ничего! Я тогда только-только от Лёшки ушла, в Туле жила, у гаджен… Ни с кем из цыган даже не виделась! Когда мне всё рассказали, уже полгода прошло! Я чуть с ума не сошла, ей-богу, правда!
Пальцы Сергея разжались.
– Ты… не знала? – хрипло, недоверчиво переспросил он.
– Да клянусь же тебе, – нет! – с облегчением, едва удерживаясь от желания растереть ноющие пальцы, выпалила она. – А ты что подумал? Что я тебя увидеть после этого не захочу? Да? Так ты решил?
Сергей усмехнулся, мотнул головой, – и Калинка убедилась, что именно так он и подумал.
– Дурак… – горько сказала она, отворачиваясь. – Дурак… А ещё брат родной! Да мне вовсе, слышишь ты, вовсе наплевать на… Ты ведь всё равно мой брат! И всегда им будешь! Потому что у нас мать одна и отец один! Но как тебе, болван, в голову пришло живого человека зарезать?!
– Да ведь мы просто подрались, Калинка, – почти спокойно ответил Сергей, доставая измятую пачку «Новой марки». Но пальцы его тряслись, и в конце концов папиросы упали на траву. Сергей не нагнулся за ними. – Ты же помнишь Ваську-то Абаурина? Он и трезвым за языком сроду не следил, хуже бабы сплетни таскал по всей Новой Деревне. Не думай, я не потому говорю, чтобы…
– Да знаю, Серёжа, знаю… Помню я Ваську! Я же за него чуть замуж не вышла! Забудешь такое!
– Уж лучше бы, наверное, вышла, – сквозь зубы процедил Сергей. – Васька ведь так и не успокоился. Со злости на твоей подружке женился, двух детей родил, а всё имени твоего спокойно слышать не мог! И на той свадьбе напился в стельку, как гаджо последний, – и давай о тебе всякое… Кто ему только рассказал? Мы и сами-то тогда ещё про тебя ничего не знали, а этот… На весь дом гоготал и кричал, что тебя муж таборный прогнал, потому что ты с кем-то там, что-то там… Сама понимаешь, я дослушивать не стал. Мы с Васькой пьяные оба были, и стариков рядом – никого. Я его ударил, он – меня, потом я что-то со стола схватил… И всё. Я опомнился, когда уже кровь хлестнула. – Сергей снова судорожно, мучительно улыбнулся, нагнулся за папиросами – и на этот раз вытянул дрожащими пальцами одну.
– Всё, Серёжа, всё… Не говори больше. Не нужно об этом думать…
– Не нужно, говоришь? – с неловким смешком переспросил он. И умолк, потому что Калинка тихо, горестно расплакалась, уткнувшись лицом в ладони.
Солнце село за деревья, и в парке стало сумеречно. Звонче, назойливее запели комары. Где-то за оградой наигрывала гитара, перебивал её уверенный хрипловатый баритон: «Спокойно и просто мы встретились с вами…» И гитара, и голос фальшивили, и брат с сестрой одновременно поморщились, словно от зубной боли.
– И ты уехал?
– А как оставаться было? – удивился Сергей. – Конечно, уехал. С отцом и не прощались. Суд-то он как-то выдержал, а после – свалился… Потом мне уж рассказали: мать его подняла. Я в первый попавшийся состав прыгнул – и поехал… В Самаре оказался. На электрозавод пошёл, аттестат показал, трудовую книжку, сказал, что разряд имею. Взяли без разговоров. Ну и всё…
– Ты совсем один живёшь?
– Зачем же один?
– Ракли?
Брат пожал плечами.
– Она знает?
– Ещё чего… Зачем?
– Она хорошая? Любит тебя?
– Баба как баба, – помолчав, неохотно отозвался Сергей. – На текстильной намотчица. Зинкой звать. Хорошая, ничего.
И по этому тону, по ускользнувшему взгляду брата, по горькой морщинке в углу губ Калинка поняла, что счастья у него нет.
Парк неотвратимо темнел. Из оврага украдкой выползал туман. Тонкий месяц поплыл над кронами деревьев, кутаясь в ещё розоватые, нежные кружева облаков. Становилось душно. Со стороны реки доносился чуть слышный рокот: собиралась гроза. В траве мелькали тускло-зелёные пятнышки светлячков. Сильно, пряно пахло цветущими пионами.
– Тебе, должно быть, идти надо, – не поднимая головы, напомнил Сергей. – Ты-то сама замуж ещё не вышла? В театре твоём?
– И не вышла, и не выйду, – отозвалась Калинка. – Побыла замужем, хватит. Больше никто не выдаст.
– Как ты там оказалась?
– Попала в Москву и пришла. Спела, и взяли.
– Вот прямо так? С улицы? – недоверчиво усмехнулся Сергей. – Своих у них, что ли, мало?
– Выходит, мало, – пожала плечами Калинка. – Им таборные нужны: театр-то народно-рабочий должен быть.
– И что, много платят?
– Какое там «много»… Но ты ведь меня знаешь. Я по-цыгански заработать никогда не умела. Восемь лет в таборе прожила – и всё равно не выучилась. Ни просить, ни гадать, ни взять… К этому или талант надо иметь, или во всём этом родиться и вырасти, – как кочевые. А у меня – ни того, ни другого. И сама мучилась, и Лёшку мучила. – Калинка тяжело вздохнула, задумалась. Сергей молча ждал.
– Знаешь, а Лёшка ведь терпел. И меня почти не бил. Два раза всего у него сердце сорвалось, а мог бы…
– С-сукин сын…
– …а мог бы каждый вечер кнут об меня трепать! Знаешь сам, как по таборам-то жён учат…
– Ты мне его не оправдывай!
– А он ни в чём и не виноват! – с сердцем отозвалась Калинка. – Не он меня взял – отцы сосватали! Я мучилась – и Лёшка мучился, а деваться некуда было, ни ему, ни мне! Ушёл к другой – и слава богу, руки мне развязал! Боже, Серёжа, ты не поверишь, как мне хорошо стало, как легко! Сначала, конечно, больно было… но больше от неожиданности. Я ведь не ждала, что Лёшка вот так… Вот так… даже слова мне не сказавши… Но потом посидела, подумала – и поняла, что мне ему ноги за это поцеловать нужно! Что мне из тюрьмы двери открыли, понимаешь, – с каторги выпустили! И никогда больше… Никогда больше ни гадать не пойду, ни христа ради просить! И дети мои тоже не пойдут! Не для того я живу, понимаешь?
– Я-то понимаю, – без улыбки отозвался брат.
– Я в Москву приехала – думала на фабрику пойти или в артель какую-нибудь. А получилось, что в театр попала! И взяли, и деньги платят, хоть и гроши. Но мне ведь много не нужно! К осени вернёмся – я Колю и Наташку в школу отведу!
Сергей молча кивнул, улыбнулся, – и снова от этой улыбки у Калинки сжалось сердце.
Внезапно жаркая, нежданная мысль так ударила в виски, что Калинка вздрогнула. И осторожно улыбнулась, сама боясь поверить тому, что пришло ей в голову.
– Что ты? – изумлённо спросил Сергей, с недоверием глядя в засветившиеся глаза сестры.
– Серёжа… Послушай… Я вот что подумала… Может быть, и тебя?.. И ты тоже?.. Может, и ты в театр придёшь? А?! Ты ведь гитарист хороший, ты у отца в хоре пел, ты лучше их всех… Серёжа, это же правда! Пойдём, а? Прошу тебя, пойдём!
– Да брось, глупая, что ты… – запнувшись, принуждённо рассмеялся он. Но Калинка, обрадовавшись этой запинке, схватила брата за плечо.
– Серёжа! Подумай! Отчего же нет? Меня взяли – и тебя возьмут! Им народные кадры нужны, понимаешь?! Я с улицы босиком пришла, в драной кофте, – и меня взяли! А уж тебя-то… Серёжа, там, конечно, гитаристы прекрасные, но ведь и ты у меня… Серёжа, да ты им только споёшь, споёшь то, что мы с тобой… «Снова слышу» или «В последний раз…» – и они в обморок упадут!
– Да ну тебя, с ума сошла…
– Ничего не сошла! Сер ёжа, но даже если… Ну вот что! – вдруг решительно заявила Калинка. – Если тебя не возьмут – я тоже из театра уйду! И останусь здесь, в Самаре, с тобой! У меня семилетка, я куда угодно на работу могу устроиться, ты сам сказал! И если я теперь не одна… Если ты нашёлся, если ты со мной… Боже мой, Серёжа, я о таком счастье и подумать не могла! Мне теперь ничего не страшно!
– Калинка… Постой ты, совсем с толку сбила! – Брат смотрел на неё в упор тёмным, острым взглядом, не улыбался. – Но послушай… Как же я приду в театр твой? Там же, сама говоришь, – цыгане… Они же знают про меня! Они знают, что я…
– Никто ничего не знает! Ни про меня, ни про тебя! Они – московские, артисты, питерских там – ни одного! А если и узнают – что с того? Серёжа! – Калинка вскочила со скамьи. – Решай как хочешь, но я от тебя не уеду! Слышишь – не уеду! Никуда! Ты мой брат, мой родной брат! У меня, кроме тебя и детей, больше никого на всём свете нет! Шагу я от тебя не сделаю! И если ты в театр не хочешь – я с тобой остаюсь! Не прогонишь ведь, пшалоро? Это ведь чудо, понимаешь ты, чудо, что бог нас здесь свёл! Что ты пришёл в театр и меня там увидел! А если бы нет? Что тогда?!
Сергей натянуто усмехнулся, пожал плечами. Хотел было сказать что-то – и не смог. Папироса запрыгала у него в губах, и он с силой выплюнул её. Отвернулся было – но Калинка обняла его. Он дёрнулся было в сторону – сестра удержала. И Сергей, как в детстве, уткнулся лицом в мягкие складки её кофты, крепко, до боли прижав Калинку к себе. Папироса ярко мигнула из травы, спугнув бледно-зелёного светлячка, – и погасла. Глухо, натужно, словно предупреждая о чём-то, проворчал из-за реки гром.
– Да чтоб вы передохли! Чтоб вас по рельсам размазало и по шпалам раскатало! Тьфу! Тьфу! Тьфу! Чтоб жёны кишки ваши в решето собирали и на катушки сматывали! А ну говори, а ну отвечай, а ну скажи так, чтоб люди слышали, – что я взяла? Что я у советской власти взяла?! А?! Ишь ты, цыганка уголь украла! Да что мне с твоим углём делать, куда его втыкать, в какое место?! Ты соскреби, соскреби с меня то, что я взяла, и в кучку сложи! Пусть люди увидят, какая гора до небес вознеслась, самому богу пятку колет! Пусть люди скажут – есть у тебя, брильянтовый, мозги, или нет?! Ну? Ну?! Тьфу на тебя, тьфу на тебя, никуда я с вами не пойду, никуда, никуда!
«Меришка, что ли, кричит? – подумал сквозь сон Семён, улыбаясь и переворачиваясь на другой бок. – Какой она уголь там уволокла?»
– Морэ, вставай! – вдруг зашипели ему в ухо с такой страстью, что Семён сразу же сел торчком. В лицо ему смотрела заросшая чёрной бандитской щетиной Лёшкина физиономия. Щека друга была вымазана рыжей глиной и травяной зеленью. Рубашка была мокрой. Передёрнув плечами, Семён заметил, что и его рубаха прилипла к спине.
С того дня, как друзья пришли на рассвете в свой опустевший табор, минуло уже три недели. Из пустого товарного вагона, в который цыган пустила стрелочница, их выгнали через два дня и, как оказалось, правильно сделали: состав свернул не к Ярославлю, а к Твери. Семёну и Лёшке пришлось тридцать километров возвращаться пешком по шпалам до нужного стрелочного перевода. Жара стояла страшная, духота давила на плечи, рельсы сияли под палящим солнцем, слепя глаза. За лесом время от времени погромыхивало; изредка через выцветшее от зноя небо лениво переползала разбухшая гряда облаков. Страшно хотелось пить, от усталости гудели ноги, и Лёшка всё чаще и чаще поглядывал на друга, – но Семён шёл не останавливаясь, не оглядываясь и не сбавляя хода. Рубаха на его спине взмокла от пота, сапоги подёрнулись жёлтой пылью до верха голенищ, – но Семён шёл и шёл по шпалам мерным, неспешным, ровным шагом.
«Как гнедой-трёхлетка в упряжке! – и восхищался, и сердился Лёшка. – Хоть бы попить остановился…»
После полудня он не выдержал:
– Сенька! Вон колодец! Давай хоть водицы похлебаем! Сил же нету никаких!
Семён остановился, обернулся и несколько мгновений смотрел на друга словно не узнавая. Лицо его было покрыто пылью до самых бровей. Задрав голову, он взглянул на солнце, шумно вздохнул и объявил:
– Коней… посреди пути… не поят. Вернёмся на развилку – напьёмся… чтоб с ноги не сбиться.
– Да нешто ж мы кони, морэ?!. – взвыл Лёшка. Но друг отвернулся и снова упрямо зашагал по шпалам. Лёшка сплюнул, тоскливо выругался и потащился следом.
Семён добился своего: на закате, красным, душным киселём растёкшемся над лесом, они вернулись на злополучную развилку – чуть живые от жажды и усталости. Лёшка тут же скатился по насыпи к колодцу, вцепился в выглаженную до блеска ручку ворота, выволок полное ведро – и приник к холодному краю, глотая свежую, холодную, невероятно вкусную воду, постанывая от счастья. Он выпил чуть не полведра, с наслаждением умылся, вылил остатки воды себе на голову и протяжно охнул, чувствуя, как холодные струйки щекочут горячую кожу под рубахой.
«Дэвлалэ-э-э… Спасибо, господи…» Шумно выдохнув, Лёшка поставил ведро на чёрный от сырости, сочащийся каплями сруб, вытер рукавом лицо, оглянулся – и обнаружил, что Семён исчез.
«Бог ты мой!» Лёшка взлетел на насыпь, растерянно осмотрелся. Вокруг – никого. От недалёкого болотца доносились тоскливые крики какой-то птицы. Солнце ещё не село, пылающим шаром застряв в березняке, красные полосы пластались на пустых рельсах. Поодаль на шпалах сидели две сороки.
– Сенька! Морэ! – позвал Лёшка, и сороки с громким негодующим стрёкотом метнулись в рощу. Лёшка тоскливо оглянулся, чертыхнулся – и припустил по шпалам обратно.
Сенька нашёлся через полверсты – в светлых сумерках Лёшка сразу заметил его серую рубаху. Друг стоял у растрёпанных кустов лещины и что-то аккуратно выпутывал из ветвей.
– Ты с ума свихнулся, дурак?! – заорал Лёшка, чувствуя, как от облегчения вспотела спина. – Куда один ушёл? Не сказавшись? Воды попить спокойно не даст, жеребец двужильный! Хоть бы пальцем ткнул, куда пошёл! Нам же друг от друга теряться нельзя! Запропадём поодиночке-то! Что ты там, на кусту, увидал? Орехи же месяца через два только… – Он осёкся, потому что Семён обернулся – и впервые за последние дни Лёшка увидел на лице друга широкую и ясную улыбку. Белые зубы сверкали с грязного, запылённого лица, когда Семён протянул другу пёстрый кусок ткани с бахромой.
– Вот! Глянь! Правильная дорога наша! Это – Меришкина шаль, которую я ей ещё до голодухи в Ростове купил! Всю ярмарку обошёл, пока самую красивую не сыскал! Видишь – шалёнка малиновая, а бахрома на ней – синяя с морозом, во всём таборе ни у одной цыганки такой не было! И незабудочки голубые – видишь?!
Незабудки на лоскуте были не голубыми, а почти белыми, давным-давно выгоревшими на степном солнце, – но улыбка Семёна была такой радостной, а глаза с чумазой физиономии сияли таким счастьем, что Лёшка против воли улыбнулся тоже, шагнул к другу – и они обнялись под кустом лещины, по колено в тумане, под сиреневым, ещё слабо тлеющим на закате небом.
– Теперь будем идти и на кусты поглядывать! – раздумывал вслух Семён, взбираясь на насыпь. – Коль уж Меришка сообразила шаль порвать да до куста её докинуть, – стало быть, и дальше шпэрки оставлять будет! И другие цыганки тоже набросают! Мы теперь с пути сбиться никак не сможем… да куда ты меня назад тянешь-то?! Нам вперёд надо!
– К колодцу нам надо вернуться, дорогой мой! – лопнуло Лёшкино терпение. – Или ты решил до самой Сибири не пимши скакать? Так даже с лошадью хороший хозяин не обойдётся, а ты со мной что делаешь? Пошли, говорю, хоть воды напьёшься, жрать всё равно нечего! Там я крушину приметил, на ней ягоды, хоть их пожуём… И домики какие-то стоят, может, постучаться? Авось дадут чего?
– Кто нам с тобою даст? – невесело отмахнулся Семён, шагая следом за другом по шпалам. – Кабы тут моя Меришка была или хоть твоя Аська… Прошвырнулись бы по домам, погадали бы, попросили, детьми потрясли… А нас с нашими-то рожами только со двора прогонят. И хорошо, если милицию не позовут!
– Загнёмся с голоду, – тихо и уверенно предрёк Лёшка. – Как идти, если брюхо к спине липнет?
Семён в ответ только упрямо засопел.
В тот вечер они, измотанные до полусмерти, уснули под кустами, даже не почувствовав голода. Но, проснувшись на рассвете, в сыром и влажном сумраке, под унизанными росой, как стеклярусом, набрякшими ветвями крушины, Лёшка почувствовал, как невыносимо сосёт в животе. Видимо, те же ощущения были и у Семёна, потому что, проснувшись, тот сразу же сказал:
– Идём грибы искать! Рано ещё, конечно, но хоть сыроежку сгрызть…
С грибами им неожиданно повезло: в низком молодом ельнике в самом деле отыскались ранние сыроежки с серыми и розовыми шляпками, и цыгане испекли их над костром. Быстро, обжигаясь и давясь, заглотали – и с тоской уставились друг на друга. Было очевидно, что на таких харчах далеко не уйдёшь.
– Надо на работу подряжаться, морэ, – хмуро предложил Лёшка, глядя, как над сизыми макушками елей поднимается розовое, влажное, укутанное золотистым туманом солнце. – Пойдём в город, порасспросим… Неужто стройки не найдём? Здесь – не Москва, авось паспортов не спросят.
Сенька упрямо мотнул головой.
– Сразу ведь всё равно не заплатят. Месяц отпашем – тогда только… А за месяц неизвестно куда наших завезут! И ни одной тряпочки на кустах не останется! Нет, Лёшка. Торопиться надо.
– С голоду сдохнем, – напомнил Лёшка. Сенька молчал, глядя в прозрачные язычки пламени. Он понимал, что друг прав и что на одних сыроежках далеко не ушагаешь. Но всё равно нужно идти и идти, не сводя глаз с придорожных кустов, не пропуская ярких лоскутков, что лишь тогда они найдут своих… Что, возможно, ещё немного – и они догонят… Ведь должны же эшелоны стоять иногда! Хоть ночью!
– Так ведь и мы ночью спим, – напомнил Лёшка, и Семён, вздрогнув, сообразил, что думал вслух. Он поднял глаза на друга, криво усмехнулся, увидев его испуганное лицо.
– Боишься, что ночью идти заставлю?
– А кто тебя, дурака, знает… Ума-то нет! – пробурчал Лёшка.
Семён отмахнулся, вздохнул и поднялся.
– Ладно… Идём.
Уже в темноте они дошагали до городка, чернеющего на фоне закатного неба крышами, трубами и накренившейся колокольней, забрались под пустой вагон на заросших полынью путях – и уснули. А наутро Лёшку разбудил истошный визг, и он, едва продрав глаза, понял: ни одна гаджи так вопить не сможет.
Вскочив на перрон, цыгане увидели небольшую толпу, двух рассерженных железнодорожников – и непонятное, смахивающее на чёрта, встопорщенное существо, которое прыгало на месте от негодования и верещало так, что закладывало уши. В первый миг Семён даже попятился, а Лёшка испуганно схватился за плечо друга. Но через минуту оба расхохотались: цыганка была до самых глаз вымазана угольной пылью. С лакированно-чёрного, как у негра, лица сверкали зубы и белки глаз. Цыганка потрясала кулаками и вопила не останавливаясь:
– Смотрите вы на них, а?! Я советский уголь украла! Ага, ага! И съела его весь! Прямо полвагона съела, а вторые полвагона с собой заберу, на зиму засушу!
– Да ты, дура, понимаешь, что не положено в товарняках ездить? – тщетно пытался перебить её пожилой сердитый железнодорожник. – Да как ты туда влезла-то, чёртова кукла? На какой станции? Надо тебе ехать – покупай билет и ехай! Хоть в мягком, хоть в жёстком, хоть…
– В мягком?! Да чтоб твой отец на тот свет в мягком ехал, откуда у меня деньги?! А?! Деньги, я тебя спрашиваю, у меня откуда?! Посмотри на меня, я рваная, босая и несчастная! Ты заплатишь, чтобы я в тот мягкий уселась?! Кому, я спрашиваю, кому я в вагоне мешала? Какой-такой советский уголь воровали, а-а-а?! – заголосила вдруг цыганка на такой пронзительно-режущей ноте, что зажмурились все, а пожилой железнодорожник даже присел. Второй служащий – молодой парень, почти мальчишка с выбивающим из-под фуражки соломенным вихром, гневно замахал на цыганку руками, топнул ногой:
– Да захлопнись ты… гудок фабричный! Понимаешь, что это против власти преступление – в товарняках ездить?! Этот состав с польской границы шёл! Ты в нём с самой Варшавы ехала, небось? Шпионка?
– Что? Я?! Шпивонка?! – задохнулась от возмущения цыганка. Всплеснув руками, она набрала было воздуху для нового вопля, но молодой железнодорожник решительно схватил её за руку.
– А ну перестать орать! Идём! В милиции разберутся, откуда и куда ты в том вагоне ехала! Ваших-то, иностранных цыганских шпионов, сейчас по всей стране вылавливают! Велено следить!
– Родненький! – ахнула цыганка, и голос её сразу сел до сипа. – Золотенький, да ты что? Да какая я шпивонка, что ты себе в голову забил? Мы же цыгане, просто цыгане! По каким-таким я шпивонским делам ехала, я же к мужу верталась, я…
– Вот ты где, проклятая! – вдруг загремел над платформой суровый голос. И железнодорожники, и цыганка обернулись на него – и уставились на идущего спорым шагом прямо к толпе цыгана в измятой рубахе, с кнутом за поясом и мрачным выражением лица. Чёрные волосы стояли торчком, как у лешего. Из-под насупленных бровей грозно блестели глаза.
– Вот ты где, зараза! – на ходу лихорадочно импровизировал Семён, стараясь не думать о том, что будет, если железнодорожники уже успели свистнуть милицию. – Вот ты где, дура проклятая! Да на кого ты похожа, чучела?! Ну, я тебе сейчас!.. – Подойдя, он вежливо отстранил растерявшегося железнодорожника, грубо схватил цыганку за плечо и с размаху швырнул её на перрон. Та с визгом повалилась на колени. Толпа загудела, кто-то засмеялся, кто-то уважительно выругался. Семён выдернул из-за пояса кнут.
– Начальник, миленький, моя это баба! В гости к родне ездила, только вот сейчас вернулась! Дура, она, родной, дура, а не шпионка! Что поделать – кочевая, лесная, никак к советской жизни не привыкнет! И денег ведь ей давал, и велел по-людски билет купить – нет! Никого не слушает! Взобралась в товарняк – и покатила! Что ты с ней делать будешь? Ромны, джя яври сыгедыр[8]!
– Ой, Стёпочка! Ой, родненький, я больше не буду! Умереть мне, не буду больше! Морэ, миро дад дэ адава вагоно бэшэл… Ёв совэл, ничи на шунэл[9]… А-а-а-а!
– Ах ты, проклятая! Доездилась?! Доигралась, в шпионки попала?! Ну, я тебе сейчас… Товарищ, миленький, да мы же с ней местные, на улице Ленина живём, где где домики деревянные… – торопливо сочинял Семён, по опыту зная, что улица Ленина нынче имеется в любом, самом крохотном городишке и, уж конечно, на ней будут деревянные домики. Не давая зрителям опомниться, он взмахнул кнутом. Свистнула, разворачиваясь, кожаная змея. Цыганка заверещала, закрывая голову руками:
– Стёпочка! Миленький! А-а-ай!
– Я тебе сейчас покажу, паскуда, как в шпионки записываться! Я тебе покажу, как по товарнякам лазить! Ты у меня узнаешь, как мужа и советскую власть не слушаться! Я с тебя всю шкуру спущу, до костей, чёртова холера!
Кнут свистел. Цыганка визжала. Толпа стояла в окаменелом изумлении. Молодой железнодорожник, машинально придерживая съехавшую на затылок фуражку, оторопело смотрел, как цыган с размаху хлещет кнутом скорчившуюся женщину. Его старший товарищ опомнился первым – и, подскочив, схватил Семёна за руку.
– Эй, цыган, ты что – рехнулся?! Ты что тут творишь? Бабу-то живую, – кнутовьём?! А ну, перестать! Хватит, говорю, развёл тут!.. Сейчас я тебя самого в милицию сведу! За издювательство! Над раскрепощённой женщиной! Забыл, где живёшь? Отойди от неё, говорят! Да что вы за люди за такие?! Всё как при царе у вас до сих пор… Словами, словами бабе толковать надобно!
– Да нешто она слова поймёт, дорогой мой? – заорал и Семён, выдираясь из рук железнодорожника и яростно загоняя кнут за пояс. – Я сам на стройке работаю, где церковь недавно снесли…
– На Заречной, что ль?
– На ней, на ней… И брат мой там же, и отец… А эта – ничего соображать не хочет! И детей ещё глупостям учит!
– Ну так… по-человечьи же вразумлять надо! Кнута-то и скотина не любит, а тут – баба… Человек какой-никакой… Сдурел ты вовсе, цыган, право слово! Не положено ведь по закону – эдак-то жену учить! Ни вашим, ни нашим! У меня ведь тож старуха имеется… По временам смерть как убить хочется – раз и навсегда! А никак невозможно, потому – грех и живая душа… чтоб ей сгореть без суда и следствия…
В ответ на эту глубокомысленную сентенцию Семён лишь тяжело вздохнул. Посмотрел на рыдающую «жену» и поднял полный горести взгляд на возмущённого железнодорожника.
– Да ты взгляни на неё, родной! Взгляни и скажи – чему её научишь? Как есть головешка… морально дефективная! Вставай уже, проклятье моё немытое, хватит выть! Пошли домой! Опять на полгорода меня опозорила, поганка…
Цыганка вскочила, подпрыгнула – и дунула прочь с платформы: только взметнулась грязная юбка. Семён двинулся следом, едва удерживая себя от того, чтобы тоже сорваться на бег.
– Спасибо, дорогой, – сипло поблагодарила цыганка, едва они оказались в узеньком, заросшем черёмухой проулке у станции. – Спасибо, пропала бы я без тебя! Это же надо – шпивонкой назвал! Цыганку-то! Совсем с ума посходили…
– Сильно я тебя приложил? Старался мимо, да пару раз всё-таки попало…
– Ай! Говорить не о чем! – лихо заверила цыганка, поддёрнув разорванный рукав кофты так, чтобы не было видно вздувшегося на коже рубца.
– Как тебя звать, чья ты?
– Изюмка, из смоленских…
– Так, выходит, наша? – обрадовался Семён, с трудом подавив смех: чёрные, живые, блестящие глаза цыганки в самом деле напоминали крупные изюмины, и прозвище казалось удивительно точным. Изюмке на вид было около тридцати, но худенькая, лёгкая фигурка её казалась девичьей, а улыбка – по-детски ясной.
– Я – смолякоскиро, слыхала? А друг мой – из ксанёнков… Лёшка, поди сюда! Ты где там? Вылезай! Дэвлалэ… это что у тебя? С ума сошёл?
Из-за кустов выглянул Лёшка. Его небритая физиономия была грозной и испуганной одновременно, а в руках Лёшка сжимал обломок ржавой трубы.
– Никуда я не сошёл! Я слышу, гаджэ галдят: «В милицию, в милицию…» Выглядываю, вижу – ты ругаешься, кнутом машешь, цыганка вопит, и толпа кругом… – Лёшка бросил трубу и смущённо улыбнулся. – Я сперва испугался – смерть! А потом эту железяку увидал – и подумал: уж пару человек ей с ног всяко сшибить можно… А потом бы – в лес все вместе! Не догнали бы!
– Дурак, – устало махнул рукой Семён. – Тогда бы всех сразу, пачкой, и повязали. Не может Изюмка бежать-то! Отец, понимаешь, у ней в вагоне остался! Сходи-ка лучше посмотри, – народ на платформе разошёлся? Деда вынимать надо!
Ещё с полчаса цыгане сидели в кустах у насыпи, ожидая, пока рассосётся толпа. Когда перрон опустел, они осторожно, по одному пересекли рельсы. Сразу возле железнодорожного полотна начинался заросший медуницей, ромашками и зверобоем лужок, на котором под ярким солнцем сухо и монотонно стрекотали кузнечики и свистели наперебой чибисы. Отцепленный вагон стоял один-одинёшенек, вокруг не было ни души Оглядевшись, Лёшка вполголоса позвал:
– Эй! Пхурором! Выджя, рая угэнэ сарэ[10]!
Некоторое время никто не отзывался: тишину по-прежнему нарушали лишь птичье посвистывание и сухой треск кузнечиков. Изумлённый Лёшка, покосившись на друга, попробовал ещё раз:
– Пхурором! Выджя[11]!
Ни звука в ответ. Лёшка повернулся к Изюмке.
– Ты, ромны, вагон не спутала, случаем?
Не ответив, цыганка подошла к дощатой, испещрённой надписями стене – и со всей мочи бухнула в неё кулаком, завопив так, что с кустов с паническим писком взвилась стая воробьёв:
– Дадо! Ушты[12]!!!
Тишина. Затем послышались возня, кряхтение и рычанье, – словно в вагоне просыпался после зимней спячки медведь. Звучало это так устрашающе, что Лёшка попятился. Семён усмехнулся – но сам невольно шагнул назад, когда из вагона медленно и торжественно появилась всклокоченная голова и взъерошенная сивая борода веником. Лица цыгана не было видно: всё оно, как и мордашка Изюмки, было сплошь вычернено угольной пылью. Широченные плечи старика обтягивала солдатская гимнастёрка: тоже вся чёрная. Огромные корявые руки ухватились за край вагона – и дед легко, как молодой, одним прыжком выскочил из него.
– Изюмка, что кричишь? Приехали?
– Ой как приехали! Уж куда как приехали! Так приехали, что меня уже чуть не заарестовали, если бы не эти ребята! – замахала руками Изюмка. – Дыкх[13], они из наших тоже, из смоленских!
– Ты что же, пхурором, неужто не слыхал ничего? – недоверчиво спросил Семён, подходя ближе и окидывая уважительным взглядом могучую фигуру деда. – Изюмка твоя тут так кричала, что мёртвый проснулся б!
– Мёртвый – да, а отец ни за что бы не проснулся! – гордо ответила вместо старика Изюмка. – У них в роду все мужики такие: хоть кричи над ними, хоть стреляй, хоть колокольню ломай, – не проснутся!
– Прямо как этот… как же его… – Семён наморщил лоб, вспоминая сказку, которую когда-то рассказывала жена. – Дядька Черномор, вот кто!
– Я не Черномор, чяво, – солидно и слегка обиженно ответил старик, тщательно вытирая чёрной ладонью лицо. – Я – Командир. Дед Вано Командир! Слыхал?
Своё прозвание смоленский цыган Вано получил двенадцать лет назад, когда бывшая российская империя догорала в умирающем пламени гражданской войны, а на её южных окраинах гремели последние бои. Остатки белогвардейских полков уже не надеялись победить – и пытались лишь выиграть время. Солдаты, понимающие, что белая армия обречена, дезертировали целыми ротами. Новые части наспех формировались из кого попало: авантюристов всех мастей, выпущенных из тюрем уголовников, беспризорщины, стариков, подростков и разнообразного сомнительного элемента, взятого во время облав на рынках и вокзалах. В один из дней в такую облаву попал младший сын Вано. Двадцатилетнего цыганского парня под угрозой расстрела привели к присяге и загнали в эшелон, который через полчаса тронулся в Крым.
В день, когда забрали сына, Вано в таборе не было: он ходил на дальний хутор лечить знакомому мужику заболевшую лошадь. Вернувшись, он увидел у шатра чёрную от горя жену и притихших, заплаканных дочек.
Дочерей у Вано было шесть, сын – всего один. И поэтому, узнав о случившемся, цыган молча ушёл в шатёр – и появился оттуда через несколько минут: в старой шинели внакидку и с мешком в руках.
– Маня, положи мне сала и хлеба. Поеду Стёпку искать. При мне авось не убьют его.
Жена, схватившись за голову, рухнула на колени у костра и заплакала. Взвыли и дочери. Вано с минуту смотрел на заливавшихся слезами женщин. Затем, сдвинув брови и угрожающе потрогав торчащий за поясом кнут, сурово спросил:
– Самому мне, что ли, собираться?
Через полчаса Вано с мешком за плечами спорым шагом шёл по пыльной дороге к городу.
Он искал сына, перебираясь из города в город, с вокзала на вокзал, то трясясь в вагоне, то сидя в крестьянской телеге, то шагая по дороге вслед за конными частями. Не особенно понимая, из-за чего на этот раз воюют русские, Вано расспрашивал всех подряд о цыганском парне по имени Стёпка. Но ни гаджэ, ни цыгане нечем не могли помочь ему – и в конце концов Вано оказался в Первой Конной.
Война Вано не остановила: он успел повоевать «в германскую», свист пуль и грохот снарядов не пугали его. Он смертельно боялся лишь одного: что погибнет, не успев вытащить из этого ада кромешного своего Стёпку. Опытным солдатом, пусть даже и цыганских кровей, Красная армия разбрасываться не могла: Вано очутился в составе расчёта батарейного орудия. Со своим отрядом он прошёл всю Бессарабию, добрался до Крыма, вслед за кавалерией вошёл в Ялту – но остатки врангелевской армии уже покинули родную землю, отправившись через море в Турцию.
За минувший год Вано почти смирился с тем, что больше никогда не увидит сына: глупо было рассчитывать на это, видя, как сотнями гибнут люди, как изувеченные трупы сваливаются в общие рвы-могилы, как целые госпитали вымирают от тифа и гангрены… «Должно быть, сгинул Стёпка,» – думал он, методично обходя госпитали и больницы, расспрашивая на пристанях, вокзалах и базарах – не видел ли кто? Не встречал ли? Но сына не было нигде.
Из Ялты Вано поехал в Симферополь, из Симферополя – в Керчь, из Керчи – в Евпаторию… Иногда ему встречались кочевые цыгане. От них Вано с облегчением узнавал, что его жена и дочери живы и здоровы, но про сына по-прежнему никто ничего не слыхал.
Осень двадцать первого года застала Вано в Джанкое. Город был забит беженцами всех мастей. Каждый день от порта отходили переполненные суда. Суматоха стояла страшная, на улицах мелькали испуганные лица, все куда-то мчались, что-то тащили, наспех продавали, бестолково покупали, теряли и бросали, плакали, бодрились, кричали… Река людей с детьми, узлами и чемоданами текла к порту. Вано пробивался сквозь неё, привычно устремляясь на базар.
Рынок был пуст. Между деревянными прилавками шуршали скомканные газеты, листовки Добровольческой армии и сухие листья каштанов. Одинокая тётка, нахохлившись и кутаясь в неожиданно изящную мантилью из чёрных кружев, сидела на ступеньках и печально смотрела на пляску листьев. Рядом с ней стояло полное ведро слив – больших, матово-сизых, уже начавших исходить густым соком. Увидев Вано, она без особой надежды спросила:
– Папироски не найдётся ли, дядя цыган?
Папирос у Вано не было, но была махорка. Торговка обрадовалась, тут же подхватила с земли газетный лист, и через минуту они с Вано дружно дымили самокрутками. Выбрав из своего ведра горсть слив покрепче, тётка протянула их цыгану:
– Бери, ешь… Всё едино ничего не продам: вон как сегодня завернулось-то всё. Бери, ещё дам! Хоть всё ведро забери для своих цыганят!
– Спасибо, милая. Цыганята мои далеко. – Вано впился зубами в сливу, понимая, что вряд ли удастся сегодня перекусить ещё чем-то.
– Далеко? – удивилась тётка. – Вон как, а я тут кажин день цыганку вижу! Думала – табор пришёл! Молоденькая такая, приходит на базар, меж рядов бродит, то просит, то гадает кому-то… Я-то ей ещё говорила: что ты, дурочка, здесь болтаешься, иди в порт! Там сейчас господа чистые, как цыпки без головы, носятся, что им ни скажешь – всему поверят, озолотят тебя… А она только носом шмыгает: не могу, мол, от мужа далеко отойти…
– Да ну? – заинтересовался Вано. – Когда это цыган жену гадать не отпускал?
– Да он у ней то ли ранетый, то ли хворый, – охотно пояснила торговка. – В госпитале на Каштановой валяется, а она при нём.
Тут уже Вано заинтересовался всерьёз. Лежащий в госпитале цыган наверняка был военным, а значит, его можно было расспросить о сыне. Надежда была крошечной, но за год Вано привык беречь и крохи.
– Где эта Каштановая, милая?
Госпиталь оказался длинным, жёлтым, унылым зданием с разбитыми окнами. Едва войдя, Вано понял, что опоздал: в коридорах не было ни души. Сквозняк гонял по выщербленному, затоптанному полу обрывки бинтов и опалённые клочки бумаги. Было сыро, холодно. Под потолком чирикали воробьи, налетевшие с улицы. Стоя на пороге, Вано громко позвал:
– Эй! Есть кто живой?
Никто не отозвался. Вано позвал снова – всё та же тишина. Вздохнув, он уже повернулся, чтобы уйти… и попробовал ещё раз, наудачу:
– Эй, ромалэ!
И сразу же (Вано даже испугался) появилась цыганка. Появилась как привидение, бесшумно, словно соткавшись из сырой темноты на лестнице. Она была очень испугана, очень худа и совсем молода: Вано не дал бы ей больше шестнадцати. Небрежно заплетённые волосы свисали из-под кое-как повязанного платка. С коричневого от загара, худого, осунувшегося лица настороженно блестели глаза. Не сводя взгляда с Вано, она хрипло спросила его о чём-то – и он, понимая, что она говорит по-цыгански, всё равно не разобрал ни слова.
– Из каких ты, дочка? – перешёл он на русский. – Как тебя зовут?
– Плащунка. Янка.
– Что здесь делаешь одна, где ваши все?
– Я с мужем. Он… Он… – цыганка захлебнулась рыданием. Вано сразу всё понял.
– Когда отмучился?
– Но-о-очью…
Вано молча пошёл за ней по тёмному коридору, сапогом отталкивая с дороги мусор. И не понимал, что за жаркая волна, не давая дышать, поднимается к горлу, бьёт в виски… И, ещё не видя, не перешагнув порога огромной пустой палаты с серыми стенами, он уже знал: сейчас увидит сына… И увидел: жёлтого, иссохшего и мёртвого, с искажённым смертной мукой, уже застывшим лицом. Из волос Стёпки – спутанных, слипшихся, тусклых, как старое мочало, – не спеша выползла на восковой лоб большая вошь. Вано, не отрывая взгляда, смотрел на неё и силился понять, как же вышло, что вот эта сосущая тварь – жива и прогуливается по неживому, а сын, Стёпка, его мальчик… В глазах потемнело, и несколько мгновений Вано не мог понять, на каком свете находится и стоит ли на ногах… Что-то с болью разорвалось в горле, задрожало под сердцем – и он, упав на колени у койки, сухо, сдавленно и бесслёзно затрясся. И так же беззвучно завыла, повалившись растрёпанной головой в его сапоги, молодая цыганка…
Вано протянул руку. Погладил вдову сына, как ребёнка, по растрёпанным волосам, по перекрученному, влажному от пота и дождя платку, сползшему на шею, – и она, схватив его руку и прижав её к груди, горько заплакала.
– Не плачь, дочка. Ничего. Не плачь. Проживём.
Целый месяц Вано с молодой невесткой добирались до табора. Вано ни о чём не расспрашивал Янку, которая плакала без конца: уходя утром бродить по деревням, возвращаясь на закате, глухо всхлипывая ночью… Видя, как она убивается, Вано понимал: все расспросы – после, потом, когда-нибудь… С каждым днём Янка делалась всё худее и суше, запали глаза, обведённые сизыми кругами, острые ключицы чуть не разрывали ветхую ткань кофты, скулы торчали ножами. Она ни на что не жаловалась, но Вано беспокоился не на шутку, уверенный, что новообретённая невестка серьёзно больна. Добывала Янка мало и плохо, часто возвращалась из деревни с пустыми руками, глухо говорила:
«Прости, дадо, не повезло…» – и ложилась ничком прямо на траву.
«Хворая, видать… Долго не протянет,» – грустно думал Вано, отправляясь в ту же деревню в надежде что-то починить или поправить какой-нибудь вдове завалившийся забор.
До своих Вано и Янка добрались уже по предзимкам. Услышав о том, как умер брат, дочери Вано заголосили на весь табор. Жена не заплакала, хотя у Вано при взгляде на неё сжалось сердце: за прошедший год сорокапятилетняя Маня стала седой старухой с погасшими глазами. Янка, стоя за спиной свёкра, разглядывала новую родню испуганно и выжидающе. Младшая дочь Вано, пятнадцатилетняя Нютка, важно взяла невестку за руку и повела в шатёр.
Вечером жена отозвала Вано в сторону от костра.
«Янка тяжёлая.»
«Что?.. – оторопело переспросил Вано. – Ты с чего это взяла?»
«Она сама сказала. Да ведь и видно… – Маня отвернулась к красной, холодной полосе солнца, гаснущей над полем. До Вано донёсся чуть слышный, сдавленный всхлип. – Чудо, что удержала в себе… Бедная девочка. Весной, даст Бог, внук у нас родится. Ты знаешь, что Янка – кисыкарька[14]? Наш Стёпка, когда из солдат убежал, в плащунский табор пришёл, там её и встретил. Янка одна всю семью кормила. А с нашим Стёпкой ушла, потому что боялась по карманам лазить. У неё сестру за это убили. Всем базаром убивали, а Янка из-за угла смотрела, ни помочь, ни закричать не могла. И после этого бояться начала. А когда боишься – значит, скоро попадёшься… Они со Стёпкой вдвоём убежали, Стёпка в Джанкое тифом заболел, Янка его на себе в больницу притащила, надеялась, бедная… Теперь плачет, говорит, что назад к своим нипочём не пойдёт. А добывать, как мы, гадать, просить, – не умеет.»
«Ничего. – От облегчения и счастья у Вано задрожали руки, он не знал, куда спрятать их, и не мог смотреть в полные слёз глаза жены. – Научишь её всему. Пусть только родит.»
Так и вышло. В апреле, в ясный, тёплый день, когда над деревней, где зимовал табор, беспечно и радостно заливались прилетевшие скворцы, Янка родила сына. Шесть невесток и помолодевшая от счастья на двадцать лет свекровь суетились вокруг неё, весь табор радовался – и готовился к отъезду. Солнце грело уже не шутя, и через неделю цыгане тронулись на юг, вслед за теплом и поднимающейся молодой травой. Янка ехала в телеге Вано и Мани, кормила грудью крохотного Юрку и улыбалась, подставив худое лицо горячим лучам.
День шёл за днём. Поля сменились степью, лёгкое весеннее тепло – нестерпимой летней жарой. Табор жил привычной кочевой жизнью: мужчины нанимались, где было можно, на сезонные работы (торговля лошадьми почти не давала дохода), женщины привычно бегали по хуторам и станицам, просили, гадали. Ходила с ними и Янка, которую таборные цыганки прозвали Изюмкой: за чёрный, матовый блеск глаз. Свекровь сурово приказала ей:
«О том, чем ты раньше промышляла, – и думать забудь! Мы твою семью уважаем, плащуны – цыгане достойные, но мы с другого живём! И раз ты теперь наша – учись добывать по-нашему.»
«Я не умею,» – грустно говорила Изюмка.
«Ничего, научим! Ещё козырная добисарка будешь!»
Свекровь как в воду глядела: Изюмка всему училась на лету. Пугать людей, обещать им хвори и несчастья она терпеть не могла: Изюмкино гадание было солнечным и радостным, вызывающим даже у лихих таборных тёток добродушные улыбки. Вскоре к шатру Вано и Мани начали приходить родители молодых парней и сами парни. Вано всем отказывал наотрез.
«Да кого твоя Изюмка ждёт? – возмущались обиженные сваты. – Царя небесного?»
«Нам царей не надобно! – важно парировал Вано. – Я Изюмку поперёк её воли не отдам, она мне – дочка. Не хочет замуж – пусть с нами живёт, бабка моя только рада будет. А я и подавно.»
Вано говорил чистую правду: он даже представить себе не мог, что Изюмка уйдёт от них, унесёт внука, так похожего на погибшего Стёпку, не будет суетиться вокруг шатра, не будет улыбаться, чистя картошку, кормя сына, подновляя разноцветными лоскутами шатёр… Он понимал, что рано или поздно Изюмка захочет иметь свою семью и не в его праве будет остановить невестку… но подольше бы она не шла замуж!
Шли годы. Закончились война, голод, разруха. Измученная страна начала понемногу приходить в себя. Цыгане жили привычной жизнью, зимой отсиживаясь в деревенских хатах на Смоленщине, летом – откочёвывая в кубанские и ростовские степи. От страшного «военного» года у Вано осталась лишь старая-престарая будёновка с голубой звездой, прозвище «Командир» да потёртая, с расплывшимися чернильными записями красноармейская книжка. Изюмка давным-давно стала своей в таборе русских цыган: никто уже и не вспоминал о том, что она – плащунка. Рос Юрка, превращаясь из малыша в непоседливого мальчишку, вытягиваясь, раздаваясь в плечах, взрослея, – а Изюмка всё так же жила в палатке свёкров. Она, казалось, не старела: всё такой же безмятежной была её улыбка, всё так же не слышалось визгливых, резких ноток в её голосе, всё такими же яркими, нарядными были её юбки и кофты, которые она шила сама (она очень любила котлярский «фасончик») – но в смоляно-чёрных косах уже потянулись первые серебряные нити. Сваты, впрочем, продолжали приходить: уже не молодые парни, а солидные, богатые, крепко стоящие на ногах вдовцы. Изюмка отказывала им сама – вежливо, уважительно и непреклонно.
Голодным летом 1933 года табор Вано оказался под Москвой: бескормица гнала цыган к большим городам, где можно было найти заработок и еду. Мужчины устроились на рытьё котлована в Миуссах. Цыганки привычно бродили по улицам и площадям с картами в руках.
Однажды вечером, после целого дня промысла на Тверской, возле Белорусско-Балтийского вокзала и в переулках, гадалки возвращались в табор. Идти по большим улицам, где к вечеру, казалось, милиции стало только больше, таборные женщины не рискнули и свернули в тихий переулок за старой, наполовину разобранной церковью, где низенькие деревянные домики, казалось, дремали среди яблонь и вишен. Возле одного дома цвели разросшиеся кусты жасмина, душистой пеной выплёскиваясь через низенький штакетник. Девушки, смеясь, принялись срывать пахучие грозди и пристраивать их в волосы. Из кустов, возмущённо посвистывая, вылетела пара соловьёв.
– Девки, перестаньте! – строго велела Изюмка. – Нечего куст обдирать, сейчас ещё хозяйка выскочит да раскричится! Ой… Ой, а там, кажется, плачет кто-то!
– Брось! Чудится тебе! – рассмеялись подруги. – Радиво играет со столба!
Но никакого «радива» на столбе не было, – а из открытого окна дома доносились чуть слышные, горестные всхлипы. Изюмка решительно сбросила со столбика калитки жестяное кольцо, шагнула в заросший травой и лопухами дворик, осмотрелась, – но кругом было пусто и тихо. На верёвке висели изящно вышитые наволочки, несколько белых кружевных салфеток. Изюмка, взглянув на них, восхищённо покачала головой – и пошла к крыльцу.
– Изюмка! Глупая, брось! Поздно уже! Идём в табор! – кричали ей через забор подруги. – Ну что ты тут возьмёшь? Ещё крик поднимут, что цыганка прямо в дом лезет!
Но Изюмка, отмахнувшись от подруг, потянула на себя незапертую дверь и юркнула внутрь.