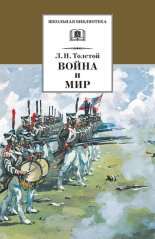1795 Натт-о-Даг Никлас
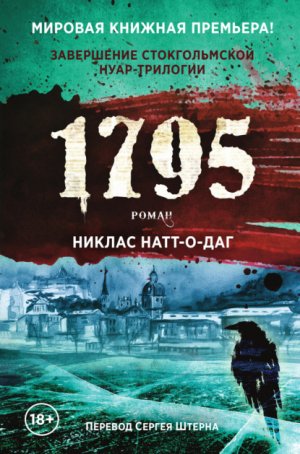
Не помогает ничто: разве что прижать со всей силы культю к острому краю откидной койки, пока не потемнеет в глазах.
Но сегодня ему удалось выйти победителем. Весь день топтал слякоть на улицах города. Скоро вечер, и он опять возобновит поиск. Ему почему-то кажется, она появится в тот самый момент, когда он зайдет перекусить или забежит домой подсушить у печи обувь. В памяти то и дело всплывают слова рыбака: мальчик. Взял за руку и увел в Город между мостами.
Что-то здесь не так.
Не успел натянуть ставшие жесткими, как фанера, башмаки, стук в дверь – почти забытый звук. Он подождал немного: а вдруг ослышался? Может, кто-то стучит в соседнюю дверь? Но нет – стук повторился.
Винге. Стоит и не решается войти.
– Эмиль… вот как. Заходите. Вам повезло, что меня застали. Как раз собрался уходить. Хотя… назвать везением – явный перебор.
Кардель поднял с пола протез – тот самый, почерневший и кое-где обуглившийся от огня. Так и не удосужился заказать новый. С привычной руганью начал прилаживать ремни к культе. Почти никогда не удается сразу – деревяшка выскальзывает, падает на пол, и начинай все сначала.
Винге отвернулся, не решаясь предложить помощь без отдельной просьбы.
– Блуму удалось найти имение Сетона. Если не имение, то, по крайней мере, уезд. Я отправляюсь туда.
Кардель кивнул.
– И все?
– На сегодня все. Покажется в городе, мы его возьмем. Полиция предупреждена, хотя, как бы вам сказать… неофициально. Отдельное спасибо Блуму. Если что-то пронюхают, тут же дадут мне знать. К тому же… если Сетон, против ожиданий, и в самом деле в городе, вряд ли ему так уютно в щели, куда он залег. А кончатся деньги, придется выползать на свет. Голод выкурит.
– Вы, как я вижу, время даром не теряли. Про ваши подвиги много болтают.
– Делал то, что должен. И не более того. – Винге обиженно нахмурился.
Совместная вина – вот что их объединяет. Усиливающееся и ослабевающее, но никогда не исчезающее чувство. Вечное холодное молчание остывшего праха сгоревших детей… Кардель пожал плечами. Лучше бы он этого не делал: ремни соскользнули с культи, и деревяшка опять грохнулась на пол.
– Не хотел вас уколоть. Хотя… что там скрывать – зависть. Хотел бы и в своем деле достичь чего-нибудь хоть близкого, но где там.
– Пока не везет?
Кардель примерился к очередной петле, вдернул ремешок и горестно покачал головой:
– Как под землю провалилась. А может, так оно и есть – под землю. Может, только могилу искать и осталось. Но это ничего не меняет.
Винге рассеяно оглядел каморку:
– Вам что-нибудь нужно? Деньги?
Кардель неприятно хмыкнул:
– Деньги? Ну нет. Денег хватает. Мне много не надо.
Винге не удивился. Или скрыл удивление.
– Что ж… понадоблюсь – ищите Блума. Если поездка что-то даст, найду вас сам. Боюсь, потребуется несколько недель. Вернусь с теплом. – Винге бледно улыбнулся. – Буду всем говорить: вот! Это я принес лето. Если бы не я, так и мерзли бы.
Он пошел к двери, но остановился на пороге. Карделю было ясно: что-то Винге недоговаривает. Но спрашивать не стал.
– Ваши ожоги зажили неплохо… если принять во внимание обстоятельства…
– Я слышал, Сергель собирается ваять второго Геркулеса Фарнезского, – усмехнулся Кардель. – Или какого-то другого Геркулеса, не Фарнезского, хрен его знает. Ищет голых мужиков, натурщиков, как это у них называется. Я там часто прохожу, думаю: неужто не заметят такого красавца? Но нет. Пока не позвали. Глаз у них, что ли, нет.
– Жан Мишель, – решился наконец Винге. – Если позволите: в ваших поисках есть какая-то система? Послушайте, я…
– Хожу по улицам, – резко прервал его Кардель. Присутствие Винге почему-то удваивало муки совести. Он устал от Винге, устал от унизительного ощущения, что ему нужен кто-то с более острым умом, но при этом прекрасно понимал: никакой помощи он не заслужил. – Хожу по улицам, спрашиваю, да все без толку. Описываю и сам понимаю – слишком многие соответствуют. Иногда заносит черт-те куда… а что у меня за выбор?
– Если бы с нами был Сесил, он бы наверняка посоветовал вам вернуться к исходной точке. Точка и есть точка, из нее можно провести сколько угодно линий. Возвращаться к исходной точке. Раз за разом, если необходимо. Начинать с того, что вы знаете точно. С фактов, не вызывающих сомнений. А потом двигаться дальше.
Кардель уставился на Винге. Тот впервые не отвел глаза.
– Но Сесила же с нами нет, Эмиль. Или как?
7
Пришел май, но весенняя прохлада никак не хочет уступить долгожданному лету. Ночные заморозки в середине апреля оказались последними, больше не повторялись, и все же почти побежденная зима не сдалась. Несколько теплых дней подряд подарили надежду – ну вот, наконец-то! – и тут же зарядил холодный колючий дождь. Для Карделя, да и не только для него, – худшее, что способна подкинуть природа. То же, что глубокая осень. Город между мостами зажат между морем и озером, вечная жертва прихотливых игр и единоборств восточных и западных ветров. Недостаточно холодно, чтобы преодолеть сырость; когда на улице мороз, даже снег, можно хотя бы одеться потеплее, но в такую погоду не помогает ничто. То обрушивается ливень, то часами сеется моросящий ледяной дождь. Влага проникает под одежду, добирается до костного мозга, куртка промокает насквозь, воротник сдавливает шею, как объятия утопленника. Все кругом серо, цвета радуги то ли смешались в один, то ли выжидают где-то в архипелаге. А может, боги погоды решили показать Ройтерхольму убожество и никчемность его бесконечных указов; барону, конечно, обидно, но страдают-то люди. Хмурые, обозленные лица, никто не останавливается поболтать, никто не улыбается. Те, у кого есть возможность, носа на улицу не высовывают. У Карделя такой возможности нет. Неутомимо топчет он насквозь промокшими подметками мостовые города.
Конечно же, он далеко не сразу последовал советам Винге, но, как только до него дошел смысл, что-то произошло. Возможно, армейская привычка к подчинению преодолела неприязнь. Слишком много дней своей молодости он провел под окрики фельдфебелей, поручиков и старших канониров. Теперь ему достаточно зажмуриться, представить себя на скользкой от дождя и морской воды палубе, выпрямиться и вообразить: ничего такого не было. А если и было, то не заслуживает внимания. Быть, как форштевень: горд и несгибаем даже на тонущем корабле. Тот, кто научился стойко сносить удары судьбы, знает, как помогают в таких случаях отборные матерные ругательства.
Вернуться к исходной точке.
На этот раз он идет в Стура Скугган. Большая Тень – лес на окраине города с говорящим названием. Туда, куда она позвала его прошлым летом покараулить детей. День мало чем отличается от других: стада несущихся по небу туч похожи на королевских фискалов, облагающих непосильным налогом нищий, робко и редко пробивающийся солнечный свет.
Он идет на север, пока встречный ветер не доносит до него затхлый запах Болота. Дальше – направо. Несколько скучных коров пасутся у Бруннсвикена. Нищий протянул шапку – в глазах вспыхнула короткая и тут же угасшая надежда. Шлагбаум. Ему не надо показывать никакие пропуска: мундир пальта – сам по себе пропуск. Короткий коллегиальный кивок – проходи. Рядом здание таможни, если его можно так назвать: невзрачный одноэтажный дом, крытый потрескавшейся черепицей. По обе стороны забор, на который, похоже, никто не обращает внимания: доски картинно выломаны. Безмолвное приглашение любому пешеходу, кто пожелает посетить город инкогнито. Но можно не сомневаться: в самом недалеком будущем кто-то попробует въехать и на коляске.
Лес за канавой открывается не сразу: сначала надо форсировать баррикаду густого кустарника – для голоногих наверняка обернется исцарапанными голенями. И только через несколько саженей – галерея стволов, куда ни глянь. Под кронами дубов такая густая тень, что почти ничего не растет. Бронзовые кольчуги сосен. В последний раз был здесь зимой, но никаких признаков людей не обнаружил.
И уж тем более той, кого ищет. Никаких признаков, что Анна Стина хоть раз возвращалась в свою землянку. Он не раз приходил сюда, когда еще не сошел снег. Лучшее доказательство – ни одного следа, кроме лисьих. И еще какой-то мелкой лесной нечисти.
Сориентироваться не так легко. Лес – живое существо, он постоянно меняется, и если не приметил какой-нибудь валун, или необычный холмик, или полянку – считай, заблудился. Снег сошел. Вот пара вырванных с корнями дубов – мартовский шторм постарался. Земля покрыта мокрой прошлогодней листвой и полусгнившими желудями. Дубы просыпаются поздно. Новые листочки уже проклюнулись, но бессильно свисают, будто не знают, как себя вести, как отличить весенние холод и сырость от осенних.
Отличат в конце концов… от земли, несмотря на холод, поднимается тяжелый сытный пар. Все, что нарождается и растет, находит пищу в уже отмершем.
Кардель плутал довольно долго, пока звериная тропа не вывела его на нужное место.
Землянка выглядела по-другому. Здесь явно кто-то побывал. Ветки, из которых была сплетено подобие двери, сломаны и разбросаны. Явно не зверь – дело рук человека. На раскисшей земле полно следов. Кардель прекрасно помнил уроки Сесила: ничего не трогать. Ничего не трогайте, Жан Мишель, пока не придете хоть к каким-то выводам. Присел на пенек. Сердце забилось: самые четкие следы оставлены совсем недавно. Маленькие, наверняка женские, слишком глубоки для детских. Когда в последний раз шел по-настоящему сильный дождь? Не такая поганая морось, как нынче? Вчера? Позавчера? Нет – именно вчера. Следы оставлены позже – иначе края были бы размыты.
Камни сложены полукругом: некое подобие печи. Под отломанной еловой лапой тайник. Завернутая в грязную тряпку мятая сковорода, древний чугунный сковородник с деревянной ручкой, еще какие-то хозяйственные мелочи. Сколько пролежал здесь этот сверток – сказать трудно.
Кардель пошел по следу. Иногда отпечатки исчезали – тогда он прикидывал, куда бы пошел сам, и выбирал именно этот путь. И почти каждый раз оказывался прав: следы появлялись вновь. Ошибся только один раз. Пришлось вернуться, и вторая попытка оказалась удачнее: следы возобновились.
Лес внезапно расступился, он вышел на луг, густо покрытый тонкими былинками рыжей прошлогодней травы. Как только сошел снег, трава упрямо поднялась во весь свой немалый, не меньше локтя, рост. И почти сразу он увидел спину. Поначалу решил – косуля. Вглядывалась, согнувшись, в какое-то пятно на земле. Плечи завернуты в давно потерявшее цвет одеяло.
Не надо было так долго стоять на месте. Она его заметила. Будто почувствовала на себе взгляд, оглянулась и бросилась бежать.
Кардель тихо выругался и пустился в погоню.
С таким же успехом он мог погнаться за лесовичкой. Тут же исчезла.
Пробежал еще несколько саженей и остановился. Перевести дыхание и сообразить: куда же она делась? А дальше что? Стоять и ждать, пока не выдаст хрустнувший под ногой сучок или отогнутая и спружинившая ветка?
Ну нет. Бросился в чащу.
Ветки больно, как розги, хлестали по шее, но он не обращал внимания, только глаза прикрыл деревянным протезом. Но где там… очень скоро он осознал: не догнать. Остановился перевести дыхание и вслушался. Звуки шагов слышны, но в другом месте. Вытер пот со лба – и тут же вспомнил узелок под камнем у очага.
Направление он с облегчением вспомнил: все время в гору. Значит, теперь надо возвращаться – бежать под уклон.
Задыхаясь, Кардель влетел на полянку и остановился как вкопанный. А если появились новые следы? Не затоптать бы. Пышная еловая лапа у очага на месте. Значит, он ее опередил. Дождался, когда стихнут тяжелые удары крови в ушах и прислушался – ничего. Только тихий, неумолчный шум леса. Может, ошибся? Узелок не ее, а еще чей-то? А может, решила пожертвовать своим имуществом, лишь бы не встретиться с преследующим ее чудовищем?
Подошел к землянке и прислушался.
Весенний ручей журчит слишком тихо, чтобы скрыть ее запаленное дыхание.
Стоит настолько прямо, насколько позволяет низкий потолок ее убежища. Прижалась спиной к бугристой земляной стене. Выставила перед собой нож – настолько маленький и зазубренный, что вряд ли заслужил право называться оружием. Как только увидела, что ее тайник обнаружен, размотала и сбросила закрывающую голову дырявую шаль. В землянке темно, Карделю не сразу удалось приноровиться к обманчивым теням – и плечи опустились от разочарования.
Не она. Из-под спутанных волос, через лоб и на ввалившуюся щеку – огненная молния родимого пятна. Пересекает бровь, отчего взгляд ярко-голубого глаза кажется особенно пронзительным, почти пугающим. Не зная, что перевешивает – разочарование или облегчение, – Кардель присел на бревно и вытянул нестерпимо гудящие ноги.
– Выходи. Я принял тебя за другую. Клянусь – ничего плохого тебе не сделаю. Даю слово.
– Слово он дает! Если б я верила словам, меня давно уж и на свете-то не было бы.
– Микель Кардель. Это имя мое – Кардель. Микель.
Одну за другой оторвал отяжелевшие ноги и повернулся спиной.
– Только не тычь меня в спину своей шпилькой. Если хочешь, можешь идти на все четыре стороны.
Закрыл глаза и начал медленно называть цифры, обозначающие то ли секунды, то ли другие, более весомые отрезки времени. А когда открыл и обернулся, увидел: она все еще стоит у входа в землянку. Руку с ножом опустила.
– Ты все еще здесь?
– Надо забрать вещи. А ты расселся на дороге.
После выматывающей погони ему даже повернуться трудно. Отвратительное ощущение застывающего под рубахой пота, во рту – привкус крови после заполошного бега.
– Большое дело. Обойди. Обогни то есть. – И опять закрыл глаза.
Услышал шаги и посмотрел – девушка присела на другой конец бревна. Выбрала место на самом краю – легче улизнуть в случае чего.
– Меня-то прижгли еще у матери в брюхе. Но ты, как погляжу, тоже Красному самцу приглянулся.
– Поговаривают, он любит тех, кто попригожее. Красный самец то есть. А со мной… взялся было за дело, пригляделся – ой, думает, мама дорогая, с кем связался! И только пятки засверкали. Такая победа гроша не стоит.
– И со мной, наверное, тоже так.
Кардель принял эти слова как приглашение: полюбуйся-ка на меня, я ничем не лучше. Ну нет. Она не права. Тонкие черты лица, точеный нос. Высокие скулы. Глаза посажены чуть косо, как у народов по ту сторону Балтики, но акцента ни малейшего. Красная метка – да, конечно, портит лицо, но ее быстро перестаешь замечать.
– Не то чтобы я… подбодрить хочу, но знаешь… если бы не метка, тебе бы жизни не было. Бездомная девчушка, кто тебя защитит? Первый же и повалит.
Она некоторое время обдумывала его слова, потом решила сменить тему:
– Я уже слышала твое имя.
– Да? Странно… В городе-то меня кое-кто, может, и знает, но чтобы за таможней – в первый раз.
– Она иногда во сне шептала.
У Карделя перехватило дыхание, будто кто-то набросил на шею удавку. Или ударил под дых. Поблагодарил Бога, что можно сразу не отвечать и не спрашивать: девушка начала возиться в своей торбе.
– Табаку хочешь? У меня есть малость. Глядишь, выменяю на что-нибудь повеселее.
Кардель уже имел представление об ее имуществе. Хотел было отказаться, но сообразил, что отказ означал бы недооценку неслыханной щедрости. Высшая степень невежества.
Она протянула матерчатый кисет. Рука худая, как ветка без листьев. Постарался взять совсем чуть-чуть – только чтоб не обидеть отказом. Давно пересохший табак крупной резки, крошится в руке. Сунул за щеку.
– Значит, ты мое имя знаешь. А я твое – нет.
– Лиза.
– Очень приятно.
Почему-то трудно говорить. Язык не поворачивается. Страшно выбрать не те слова, сорвать наступившее перемирие. Не он, а она нарушила молчание:
– Карл и Майя… они ведь мертвы, да?
Лучше бы всадила свой игрушечный нож. Он коротко кивнул.
– Я всю зиму плакала. Как вспомню – плачу. Я на своих картах нагадала, но… чтобы детскую смерть предсказать – и гадалкой быть не надо.
Исповедь рвалась наружу с силой ядра, когда кардус[5] уже подпален канониром.
– Моя вина, моя, моя вина, – хрипло и медленно произнес он.
– Одно ведро на коромысле не носят, – сказала Лиза, отвернувшись. – Не только твоя. Я их первая предала. Нужна была им, как никогда… а вместо того собрала шмотки и исчезла. Ночью, чтобы удерживать не стали. Я ж их крестная мать, чтоб ты знал… лучше никого не нашлось. Это мою рубаху разорвали на пеленки… Они увидели свет здесь… вон там, ниже по холму, возле валуна.
Ее мучит тот же стыд, что и его, но она несет этот груз куда более достойно. Да, глаза покраснели от бессонных ночей с постоянно являющимися привидениями, но голос спокойный, ни одной плаксивой нотки.
– А ты знаешь, где ее искать?
– Знал бы, меня б тут не было. Я и зимой приходил. А сейчас опять… вдруг какие следы найдутся. А ты? Хоть предполагаешь, где она может быть?
Лиза показала на разбросанные прутья, изображавшие когда-то дверь в землянку:
– Не знаю, она ли… Но кто-то сюда приходил. Думаю, за тем же – ее искать. – Впервые в ее голосе он уловил нотку сомнения.
– А зачем?
Вопрос повис в воздухе. Лиза выждала несколько секунд.
– А ты зачем? Ты-то зачем ее ищешь?
Что на это ответить? Нечего. Внезапно она поймала его взгляд и уставилась так, что Кардель хотел отвести глаза, но не смог. Шея не поворачивалась. Кровь бросилась в лицо, загорелись уши. И только когда она отвернулась, смог пошевелиться. Вот это да… колдунья, что ли?
– Она говорила во сне, думаю, строила какие-то планы. И называла еще одно имя, не твое. Какое-то необычное, иностранное, должно быть… – И начала вспоминать, переставлять буквы так и эдак.
Кардель, глядя на нее, тоже начал заглядывать в уголки троянской крепости памяти, вороша события двухлетней давности. Анна Стина Кнапп, Прядильный дом, «Мартышка», Кристофер Бликс на льду залива, его неотосланные письма мертвой сестре. Окрашенная кровью улыбка Сесила Винге в «Гамбурге».
Нет. Пора признать поражение. Чувство, похожее на другое, хорошо знакомое: начинает болеть и чесаться рука, которой нет.
Внезапно подул резкий ледяной ветер. К озеру понеслись подпрыгивающие стада опавших листьев. Посидели немного, но ветер не унимался. В конце концов и они уступили борею.
8
Дорога не так уж длинна, если считать в локтях и саженях. Можно мерить и по-иному. Вроде бы недалеко, но как посмотреть. С плохо скрытым раздражением Магнус Ульхольм перебежал Дворцовый взвоз и прошел через арку на огромный внутренний двор. Не успел он в начале прошлого года заступить на должность и начать обживать дом Индебету, сразу почувствовал царящий там дух неустойчивости и временности. Полиция для власти всегда была чем-то вроде падчерицы. Но и дворец мало чем отличался. Модель всего королевства: угасшее величие. Упадок, растерянность, глупость и несообразность, воплощенные в граните и мраморе и застывшие в виде огромного каменного параллелепипеда с бесконечными залами, переходами и коридорами, будто прорытыми жуками-древоточцами. Многочисленная челядь, у которой, как кажется, и других обязанностей нет, кроме как из года в год следить, чтобы коридоры эти использовались в строгом соответствии с рангом проходящих и принятыми правилами.
Каждый раз, приходя во дворец, он блуждал, словно в лабиринте, хотя изо всех сил и не раз старался запомнить расположение многочисленных служб. Готов был поклясться – все эти помещения от месяца к месяцу менялись местами. Камергер с презрительной миной проводил его до дверей нужной конторы. Еле сдержав ярость, полицеймейстер сухо кивнул, постучал и, открыв дверь, с облегчением увидел именно того, кого искал: за столом сидел Юхан Эрик Эдман. Краем уха услышал, как подальше по коридору монотонно диктует секретарю министр юстиции Луде, и тут же отметил, что и там обнаружили его присутствие: дверь поспешно захлопнули.
– Юхан Эрик… как дела?
Эдман развел руками над заваленным бумагами столом.
– Кончаем с густавианцами. С последними. Граф Руут предстанет перед судом еще до конца месяца. По обвинению в растрате.
– И в самом деле что-то растратил?
Эдман добродушно рассмеялся. От этого смеха у Ульхольма побежали мурашки по коже.
– А какое это имеет значение? Тот, кто ставит подобные вопросы, ничего не смыслит в приоритетах. Но он и вправду сильно облегчил нам задачу: то ли потерял, то ли не смог найти счета нашего усопшего… святейшего монарха. А если нет расписок, поди докажи, что ты не отправил золото в собственный карман. Если не сможет выплатить, будет сидеть в крепости. А даже если сможет – уже сломан. А у тебя что?
Приподнятая бровь Эдмана заставила Ульхольма поторопиться. Он достал из кармана сложенное вдвое письмо, положил на кучу бумаг на столе и присел на стул для случайных посетителей.
– Депеша от Дюлитца. Принес один из его подручных, весь в поту. Прикормленный пальт видел девицу Кнапп.
Эдман начал было читать письмо, но быстро потерял терпение.
– Почему он ее не схватил на месте?
– Парня еще при Уттисмальме ткнули штыком в колено. Он мало за кем способен угнаться. Зато любовался на нее довольно долго в театре и даже нарисовал портрет углем. И ее, и какого-то мальчишки, который с ней был.
– И что дальше?
– Дюлитц далеко не дурак. Он сразу поставил людей у всех мостов. Ясно одно: Кнапп в городе. Я велел размножить рисунки. Начнем все сначала.
Эдман поднялся с кресла и подошел к высоченному окну. Посмотрел на конюшни на острове Святого Духа, на Стрёммен[6], все еще не признавший безнадежность весеннего штурма опор недостроенного моста.
– Будем надеяться, что письмо Руденшёльд по-прежнему у нее… Готов сожрать собственные сапоги, если там не найдется имя графа Руута. Судебная волокита сократится на много недель, а его сообщники попадут за решетку без досадных промедлений. Густавианский заговор можно разгромить за одну ночь.
В дверь постучали. На пороге появился слуга.
– Прошу прощения, но господин Эдман повелел, чтобы я незамедлительно сообщал о важных событиях. Говорят, весь Копенгаген в огне.
9
С одного постоялого двора на другой – все его путешествие укладывается в это короткое описание. На выезде из города коляска катила по широким, мощеным трактам, два экипажа разъезжаются без труда. Но чем дальше в глубь страны, тем уже дороги. Уже и хуже. Разбитая тяжелыми колесами и копытами колея в раскисшей глине. Если попадется хоть раз в час отмечающий каждую милю[7] придорожный камень с намалеванной цифрой – считай, повезло. Кучера это нисколько не раздражало: он никуда не торопился и напевал что-то под нос, стараясь, не всегда, впрочем, удачно, попасть в такт шагу своей лошадки.
Изредка попадались встречные экипажи. Тут же начинались ругань и споры – кому уступать дорогу, сдавать назад или съезжать в чавкающую грязь по обочинам. Винге пребывал в несколько меланхолическом расположении духа, чего не скажешь о его попутчиках. Те ввязывались в каждую ссору, предлагали свои способы разъезда, отчего продвижение замедлялось дополнительно. В конце концов кое-как, задев друг друга осями, разъезжались. Эмилю ничего не оставалось, как молча наблюдать за этими баталиями и поплотнее заворачиваться в свое пальто. На рыбьем меху, как говорит Кардель. Ему еще повезло: коляска попалась крытая, дождь не страшен, а от пронизывающего ветра можно защититься, пристегнув на окно специально выкроенный прямоугольник ветхой кожи.
Первую ночь он провел на придорожном постоялом дворе на полпути к Упсале. А дальше начались трудности. Выправленное Блумом дорожное удостоверение давало право на бесплатный ночлег, но чем дальше от Стокгольма, тем яснее он понимал: длинные руки закона намного короче, чем можно было бы ожидать. Хозяева постоялых дворов качали головой – у них оказывалось множество давно отрепетированных пояснений, почему постоялец должен платить. Кто-то скромно выказывал подозрения, что бумаги, возможно, фальшивые, что без подписи уездного исправника они недействительны. Другие привычно ссылались на неграмотность – а уж против такого аргумента и вовсе нечего возразить, особенно если говорят с добродушнейшим и даже несколько виноватым видом. Раз за разом Винге ставили перед выбором: выкладывать монеты или ночевать на сеновале. Как-то раз он ради принципа выбрал сеновал, но уже к полуночи было очевидно: битва проиграна. К тому же Эмиль в душе понимал трактирщиков: вряд ли его внешность внушает им доверие. Чересчур экзотична для полицейского.
С каждым днем он продвигался все дальше на север. От уезда к уезду, от постоялого двора к постоялому двору. Часто не находилось лошадей. За ними посылали на ближайшие хутора, и упрямые фермеры после долгих уговоров выделяли за приличную плату измочаленных непосильной работой одров. Винге уже привык ждать часами. Прислониться к печи и ждать. Обмуровка еле теплая – дрова подкидывают регулярно, но очень скупо. Могли бы класть и поменьше, но не позволяет стыд.
Коляски чаще открытые, то и дело приходилось самому садиться в корявое деревенское седло, увешанное к тому же торбами и пакетами. Очень страшно. Он никогда не ездил верхом и никогда не предполагал, что лошади такие высоченные – если сверзиться, пиши пропало. Шею сломать – пара пустяков. Тем более что неторопливый, с помахиванием головой лошадиный шаг – как пение сирен. Если подчиниться этому убаюкивающему ритму и задремать – свалишься наверняка.
Он прибыл в чужую страну. Совершенно чужую, хотя язык почти тот же. Не совсем, но почти. Здесь люди пустили корни раз и навсегда. Живут и умирают на том же клочке земли, поэтому на путешественников смотрят с неодобрительным подозрением. Не могут понять – что это им на месте не сидится? Наверняка безбожники и распутники. Но от денег не отказываются. Он называет свое имя – они пожимают плечами. Разве это имя? Пустой, ничего не значащий звук, сотрясение воздуха. Имя, никак не связанное ни с местом, ни с каким-то известным им родом. Он здесь чужак. Подозрительный чужак. Здесь край поверий, край, населенный лешими, лесовичками и хульдрами[8]. Край болотных огней и говорящих филинов, а уж с ними-то встреча и вовсе ничего хорошего не сулит. Здесь кладут на порог чугунную чушку – чтобы крепко спать. Под подушку суют катехизис – отпугнуть троллей.
Все это поначалу пугало Эмиля, но ведь почти невозможно полностью отгородиться от окружающего. А лес вокруг и вправду темен и бесконечен. Даже солнце в зените не в силах разогнать царящий в нем вечный мрак. А по ночам лес поет. Наполняется таинственными стонами и воплями. Происхождение их он, как ни силится, определить не может. То ли лисы, то ли косули. А может, росомахи или другие, неизвестные науке звери.
Быть проводником – задача нелегкая. Калеки, дети слишком слабы для такой работы. Разве что в паре. Чтобы проехать по угодьям, приходилось постоянно открывать и закрывать тяжелые ворота. Иногда и самому надо спрыгивать с коляски и снимать неподъемные засовы. Если встречаются вспаханные поля, тут уж выбора нет, кроме длинных извилистых объездов – результат постоянных распрей хуторян. К тому же то и дело на дороге валяются камни – нелегкое испытание для подков и деревянных колес. Земля еще не впитала весенний паводок. Если повезет – кто-то успел перебросить через огромные лужи скользкие сосновые стволы, а так – делать нечего, надо искать брод.
Большой кусок пришлось идти пешком. Лошадей не нашлось. Дело было утром, до темноты далеко, весь день впереди, но он скоро пожалел о своем решении. Дождливая весна и еще не сошедшие талые воды превратили дорогу в играющую в догонялки стайку журчащих ручейков. Каждая попытка обогнуть сопряжена с риском поскользнуться и грохнуться в жидкую грязь. На хуторах люди звали друг друга полюбоваться на редкое зрелище. С нескрываемым злорадством наблюдали за необычным канатоходцем, подбадривали насмешливыми выкриками и даже принимались аплодировать, когда ему удавался особо виртуозный пируэт. В конце концов Винге надоело доставлять им удовольствие, и он двинулся напрямую. Уже через пару саженей панталоны промокли выше коленей.
По обе стороны так называемого проселка – полусгнившие заборы. Стоят по пояс в воде, как мачты затопленных кораблей. Время бежит быстро. Когда Эмиль добрался до более или менее сухого холмика в лесу, было уже далеко за полдень, солнце начало свой путь к закату – необычно торопливый. Тревога не понимает хода времени, для истинной тревоги время не движется, стоит на месте, поэтому Винге засомневался в показаниях карманных часов. Тех самых, когда-то принадлежащих Сесилу, – Бьюрлинга. Внезапно его охватил страх – не привычный, а иной: давно, возможно с младенчества, забытый страх. В обществе он научился справляться с приступами беспокойства, научился уговаривать себя – повод надуманный, тревожиться нечего, все обойдется… но тут-то совсем другое дело! Лес дик и беспощаден, и с каждым шажком надвигающейся тьмы растет понимание его, леса, доисторической, равнодушной к человеческим резонам опасной сущности. Он, лес, не замечает человека, а если и замечает, то как одну из пешек в вечном сражении жизни и смерти. Смерть одного обитателя леса – возможность жизни другого, только и всего.
Глупости. Не делай из себя посмешище.
Опять Сесил. Но в голосе нет обычной непререкаемости, похоже, сам не уверен в своих словах. В не столько опускающихся, сколько быстро поднимающихся от влажной земли сумерках становится труднее различать тропу. Быстро темнеет еще недавно огненно-оранжевая грубая кора сосен, все больше напоминает бронзовые рыцарские доспехи. В просветах между ними то и дело опасно блеснет болото, как черная рана в теле покрытой рыжей прошлогодней хвоей и призрачной зеленью мха земли. Если заблудиться – конец.
Мысл о возможной ночевке в лесу заставляет прибавить шаг, а потом и перейти на бег.
Сначала Эмиль почувствовал запах дыма и только потом увидел хижину. Ее тоже не пощадил вездесущий мох. Окна между балками фахверка заколочены досками. Чуть поодаль – сарай и конюшня. Все же бывают в этом мире и удачи. Можно высушить одежду, согреться. Тревога еще не прошла, но теперь он вооружился терпением и пониманием: упаси Бог от таких походов. Главная доблесть – терпение. Дождаться лошадей, проводника, сторговаться о плате. Завтра его ждет тощий, как былинка, паренек, и они двинутся в путь как можно раньше. Ему предстоит еще немало таких походов.
10
Какой-то шум на нижнем этаже. Шум, тут же отозвавшийся взрывом памяти.
Польша, детство, преследования, погромы, необходимость постоянно скрываться. В короткие секунды между сном и явью Дюлитц вновь чувствует себя ребенком, завернутым во влажную простыню, с колотящимся от ужаса сердцем. Но и медленно возвращающееся сознание ничего хорошего не сулит. Стареющее тело тоже дает о себе знать. Пока работает более или менее исправно, но жалобы предъявляет все чаще. Если раньше любая болячка не вызывала никаких чувств, кроме «а, ерунда, пройдет», то теперь все по-иному: «А вдруг не пройдет? А вдруг навсегда?» Шею во сне запирает так, что трудно повернуть голову, спина разгибается все хуже.
Шум переместился на улицу. Потирая затекшую руку, дохромал до окна – как раз вовремя, чтобы увидеть Оттоссона – тот бежал вверх по взвозу такими прыжками, что каждый из них мог закончиться сальто-мортале. Дюлитц успел заметить: слуга зажимает рукой окровавленный нос. Он мысленно перебрал перерасчеты и деловые конфликты – интересно, который из них мог повести к столь драматическим последствиям. Кряхтя, накинул поверх ночной рубашки халат, отодвинул засов и приоткрыл дверь. И первое, что услышал, – стоны Эрлинга, своего слуги.
Дело серьезное. Потер тыльной стороной ладони глаза, вычистил карикатурные остатки сна и начал спускаться по лестнице. Рассвет набирает силу, самые усердные уже спешат на работу.
Эрлинг лежит у стены, съежившись настолько, насколько может съежиться здоровенный мужик. Чуть ли не в позе плода. Прижимает к груди странно согнутую, по-видимому, сломанную или вывихнутую руку. Дышит с присвистом. Стол перевернут, причем довольно странно: на торцевую сторону. На обоях потеки чернил. Стулья разбросаны по стенам – все, кроме одного. И на нем, как на троне, торжественно восседает победитель.
– Жан Мишель Кардель. Должен признаться – помучился, пока вспомнил вашу фамилию. Но все же вспомнил – и вот он я.
Дышит с трудом, со лба стекает пот. Дюлитц ощутил слабое удовлетворение: все же его верные слуги без борьбы не сдались, не дали себя унизить окончательно.
– Ваше имя… – Дюлитц приложил все силы, чтобы выглядеть спокойным. – Мне кажется, я от кого-то его слышал.
– От Анны Стины Кнапп. Или Бликс, уж не знаю, как она представилась.
Незваный гость поднял руку и показал на один из упавших стульев. Дюлитц поднял один, хотел было сесть и тут же обрадовался, что не сел: ножка подломилась сама по себе. Стул рухнул на пол. Со вторым повезло больше. Он сел и вгляделся. Постепенно проявились черты сидящего против света взломщика. Обгоревшие волосы, лицо даже лицом назвать трудно – сплошные шрамы и бугры. Дюлитца даже передернуло – представил себе страдания, оставившие подобные следы.
– Вы позволите моему слуге нас покинуть, чтобы поговорить без помех? Не беспокойтесь: была бы возможность вызвать подкрепление, Оттоссон уже нашел бы способ. А сам я стар и сопротивления вам оказать не могу.
Гость пробурчал что-то невнятное. Дюлитц предпочел истолковать это бурчание как согласие и кивнул Эрлингу. Тот не заставил повторять – переполз через порог и исчез. Дюлитц использовал эти несколько мгновений, чтобы привести в порядок разбегающиеся мысли и взвесить свои козыри в переговорах.
– Значит, вам угодно повидаться с этой девушкой… а знаете ли вы, что не у вас одного такое желание?
Гостю понадобилась пара секунд, чтобы скрыть удивление, – вполне достаточно для Дюлитца. Что-что, а мысли читать он умел.
– Осенью прошлого года мне нанес визит не кто иной, как полицеймейстер, собственной персоной. Да еще в сопровождении не кого-нибудь, а самого Юхана Эрика Эдмана. И знаете, какова был цель их визита? Та же, что и у вас.
– Давайте-ка с самого начала. Я не настолько… вернее, я настолько же умен, насколько хорош собой. Не Декарт, одним словом.
– Кристофер Бликс… имя знакомо?
– Знакомо.
– Так вот… эта девушка, про которую вы спрашиваете, обратилась ко мне, потому что нуждалась в деньгах. Вернее, женщина. Вдова того самого Кристофера, если верить ее словам. Единственный товар, что она могла предложить, – свою незаурядную гибкость. Два года назад ей удалось бежать из Прядильного дома на Лонгхольмене. Через подземный туннель для паводковых вод, про который забыли и строители, и хозяева. Такой узкий… змея не проползет. Ну, змея, положим, проползет, но человек – представить трудно. И надо же такому случиться: в прошлом году в Прядильный дом поместили знаменитую узницу – всего на несколько дней, пока золотили другую клетку. По заказу одного из моих клиентов я дал вашей знакомой задание: тем же путем проникнуть в Прядильный дом. И, представьте, она это сделала. Ночью, в новолуние, под защитой темноты…
Человек напротив поднял левую руку, и Дюлитц осекся. Он впервые заметил, что огромный кулак черен, как уголь, с коралловыми следами крови его слуг. А пальцев и вовсе нет. Человек ли это?
– А дальше? Вы послали ее в Прядильный дом, это я понял. В Прядильный дом… А дальше? Дальше что?
– Думаете, я не понимаю, как ужасно это звучит? Но вы ошибаетесь. Поверьте, я не хотел ей зла. Большинство моих клиентов приходят ко мне сами, когда наделают кучу глупостей, в которых сами и повинны. Между прочим, и ее бывший муж тоже из таких. Но она пришла сама и попросила о помощи. Двести риксдалеров, чтобы спасти своих детей. За такие деньги многие мои работодатели покупают чесалки для спины из слоновой кости. А этот был готов заплатить и вдвое, и втрое, а может, и больше. Я предложил провести от ее имени переговоры с заказчиком, увеличить сумму, но она отказалась. Представьте: она отказалась!
– А сколько из этих денег вы собирались оставить себе?
Дюлитц решил говорить правду. Возможно, искренность хотя бы частично уравновесит презрение, которое звучит в каждом слове этого получеловека.
– Десятую часть. Обычно я беру половину, а то и больше.
– И, значит, вы полагаете, она так и лежит там, под стеной? Застряла и умерла?
– Нет. – Дюлитц затряс головой. – Нет.
– Откуда вам знать?
– Мы нашли пальта, который рассказал, как было дело. В Прядильном доме, я хочу сказать, – неохотно пояснил Дюлитц. – Стоило большого труда заставить его сообразить, что наше недовольство намного опаснее гнева надсмотрщика Петтерссона, которого он боится, как огня. Ее схватили на утренней поверке. Петтерссон занимался ею сам. Говорил довольно долго, а потом сам проводил к проходной и выпустил на волю. Тот же пальт поклялся, что узнает ее даже ночью. Что мы и попросили его сделать – быть начеку. И он клянется, что видел ее после этого. Правда, всего один раз. Ее спутник, мальчишка, заметил его и увел так быстро, что наш пальт и глазом не успел моргнуть.
– Когда? Где?
– Вам и в голову не придет. В театре! На премьере «Смирившегося отца» Линдегрена, если вы, конечно, следите за театральным сезоном. Он видел ее в толпе в партере.
Урод задумался. Глаза забегали. Он начал грызть ногти, сплевывая отгрызенные чешуйки прямо на пол.
Дюлитц решил воспользоваться моментом.
– Представьте – у меня в кармане стилет. Дамасская сталь, перламутровая рукоять. Он лежит там постоянно. Для безопасности. Мои занятия связаны, знаете ли… с определенным риском. Мой девиз вот какой: надо иметь оружие, но не надо им пользоваться. Стилет небольшой, но, заверяю вас, весьма острый. Может, я и не такой достойный соперник – старческой слабости пока никто не отменил, но мальчиком я весьма недурно владел кинжалом. Так что кое-какой вред нанести могу. Может, и скромный, но достаточный, чтобы отложить ваши поиски… задача, которую, как сказано, пытается решить еще кое-кто. И очень легко может вас опередить.
– И?..
– У меня есть кое-какие соображения насчет того, что именно могло произойти. Возможно, они вам пригодятся. И я охотно ими поделюсь, особенно если после этого вы окажете старику уважение и оставите меня одного. Мне надо позаботиться о приборке после вашего… э-э-э… визита.
Гость промолчал. Дюлитц принял его молчание за знак согласия. Пригнулся и заговорил шепотом, словно желая подчеркнуть важность и абсолютную секретность сообщаемых сведений:
– Девушку я послал за секретным посланием Магдалены Руденшёльд. Депеша своего рода, адресованная заговорщикам, сторонникам Армфельта. А возможно, она так и не сумела проникнуть в камеру Магдалены. Возможно, письмо она все же получила и потом каким-то образом лишилась его – ни та, ни другая стороны с таким риском смириться не могут. Ни заговорщики, ни подручные Ройтерхольма. Все, сбившись с ног, ищут эту бумажку. И я их понимаю – заложенная под королевство пороховая бочка. Каждую неделю – новые слухи о готовящемся покушении на герцога. Заговорщики мечтают убрать его с дороги, и не только его – и Ройтерхольма, и весь опекунский совет. Сеть раскинута как на салаку, ячея – мельче не бывает. Большая загадка – как девушке удается в эту сеть не попасться. А есть загадка еще загадочней: почему она не найдет способ назначить цену? Ведь может, поверьте, назвать любую сумму. Наверняка сообразила – она отнюдь не глупа. Боюсь, с ней что-то случилось.
Последнее предположение Дюлитца испугало Карделя куда больше, чем угроза пустить в ход кинжал. И жажда мести словно испарилась – все, чего можно было достичь в это утро, уже достигнуто. Он встал и вытер окровавленный деревянный кулак о гобелен на стене. На пастушеской идиллии остались безобразные ржавые следы.
– В следующий раз обязательно загляну в ваш карман.
– Что ж… может, случай и представится.
И Дюлитц остался один. Он никогда в жизни так не осознавал свою немощь. Ему уже не нужно защищаться, напряжение отпустило, и страх взял верх. Он с удивлением заметил, как все более крупной дрожью дрожат руки. Ничего нет хуже – на старости лет заводить новых врагов.
Никакого кинжала у него в кармане не было. В последний раз. Теперь он не расстанется с ним до могилы. Тяжелая ноша, хотя дамасский стилет почти ничего не весит.
Спустился в подвал, развел огонь в горне и начал плавить стекло.
11
– А над головами-то нашими, мальчик, высоко-высоко, отсюда не видно, – весы. Нынче одна чаша вниз поползет, завтра – другая. Но скоро, скоро все переменится и сложится, и тогда уравняются они, весы-то, успокоятся, запомни мои слова.
Тут нам и конец придет, мысленно закончил за нее Винге. Вряд ли он правильно истолковал загадочно-философские фразы старухи. Северный выговор, странные, чужие выражения. Возраст угадать трудно – стара, как само время. Может, сто лет, а может, все двести. Крошечная, сгорбленная, ни единого зуба, глубокие морщины с навечно въевшейся печной сажей. Глаза посажены очень глубоко, об их наличии можно судить разве что по заблудившемуся лучу света, которому повезло проникнуть под набрякшие веки.
Понять невозможно: то ли впала в детство, то ли предпочитает отвечать на его вопросы загадками.
– Пересядь-ка, сынок.
За стеной хижины сначала тихо, потом все громче слышался молитвенный шепот дождя. Впрочем, дом ее и хижиной-то назвать трудно. Конура. Покосившиеся стены вот-вот свалятся на очаг, потолок протекает как раз над ним. Она подбрасывает в печь кривые сучья. Не сразу, по одному. И говорит не переставая, но не с ним. С огнем.
Сакснес расположен очень живописно, даже красиво, дома словно плывут к небольшой площади на волнах невысоких холмов в междуречье. Церковь совсем рядом. Но и здесь его ждет неудача. На вопросы никто не отвечает. Не то что не хотят – попросту не знают, что ответить. Он, заикаясь и подбирая слова, пытается объяснить свое дело, но настороженность обитателей села преодолеть не удается. Любопытство южан никогда и ни к чему хорошему не приводит, этому их научили с детства. Весь интерес южан ограничен простым вопросом: а не слишком ли тут хорошо живут? Нельзя ли обложить еще каким-нибудь налогом?
Пастор в уезде, неприветливо сообщила служанка. Эмиль не стал спрашивать, нет ли свободной комнаты, – постеснялся. Если он вызывает у людей неприязнь, дело в нем самом. Возможно, другого гостя она встретила бы более радушно.
Остается постоялый двор, вряд ли соответствующий своему названию: выстуженная хижина с грубой деревянной лавкой вместо постели. Правда, есть возможность купить молоко и копченую свинину на соседнем хуторе. По дороге туда он и приметил старушку – та, поминутно оглядываясь, как хульдра, украдкой пробиралась к своей лесной лачуге.
Внезапно осенило: до этого он ни разу не видел старых людей в этом краю. Остальные гораздо моложе.
Она осторожно взяла в руки воробья, сняла петлю силков и начала ощипывать перья с крошечного тельца. Голая птичка совершенно неузнаваема и поразительно мала. Можно проглотить целиком. Старуха аккуратно насадила воробья на заостренный сук и начала терпеливо крутить самодельный вертел над углями, время от времени поднося лакомство чуть не к самому носу. Наконец посчитала, что результат достигнут, и протянула вертел Эмилю. Глянула остро и тут же опустила глаза; этого было достаточно, чтобы он сообразил: его испытывают. Осторожно принял угощение, оторвал игрушечное крылышко и сунул в рот. Старушка кивнула и оторвала второе крыло – на этот раз для себя.
– Ты насчет нашего села спрашивал… Я-то совсем девчонка была, когда это в первый раз случилось, меня тогда даже козы не слушались. Мать с отцом послали на летний выпас. Говорят, иди. Уже не маленькая. Не одну, понятно, с девицами постарше. И вдруг мужчина… еле идет, лихорадка – горит весь. Ну, уложили мы его – мечется, лопочет что-то в бреду. Через пару дней появилась сыпь, потом пузыри по всему телу – глядеть страшно. Один хуторянин из наших пришел, припасы нам принес… как поглядел на него – побросал все и бежать. А этому-то, чужаку, все хуже и хуже. На следующий день пришли другие, те вообще к нам не подходили, с опушки кричали. Дескать, оставайтесь, где вы есть, в село – ни ногой. И лопату оставили. Мы только потом сообразили зачем. Помер он, гость наш. Потом и Черстин свалилась, за ней – Эльза. К осени на выпасе остались только козы да я. Потом-то меня на руках носили – дескать, спасли вы деревню, девушки, честь вам и хвала. Если б не вы, не успели бы мостик разобрать на речке, а из досок построить забор на берегу – не пройти. Как это у вас в городе называется? – Она неожиданно улыбнулась. – Баррикады? Никто больше в Сакснес черную оспу не приносил. И как принесешь – на нашей реке брод не найти. Глубокая. А мы… только потом узнали: богатые хуторяне приказали конюху засесть с ружьем. Если девки появятся, сказали, поджигай запал. Черт их, дур, знает, вдруг по мамкам соскучились. Все знали, кроме нас. Все. Никто и слова против не сказал – как же, мол, по своим дочкам из ружья?
На зубах хрустнула косточка. Эмиль поморщился, быстро прожевал и проглотил – он терпеть не мог этот терпкий вкус дичи. Ему всегда казалось, что дичь отдает тухлятиной. Постарался скрыть отвращение.