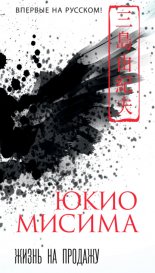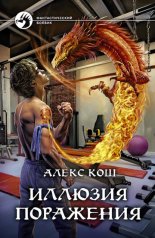Глаша Ланитова Лана
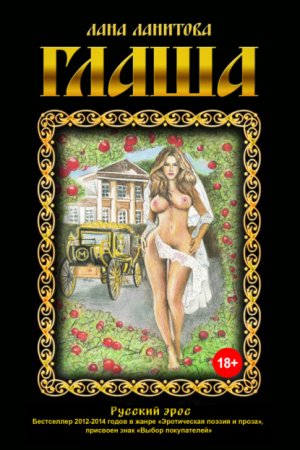
Глава 1
Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем.
Новый завет. От Матфея. Глава 5. (27, 28).
– Мужики!
– Чаво, тебе?
– Не подскажете, по кой дороге проехать к энтому… дай бог, памяти. Забыл! – приказчик хлопнул себя по узкому лбу. Неказистое веснушчатое лицо выражало крайнюю степень досады. Он спрыгнул с облучка грязной брички, обошел вокруг, носок стоптанного, похожего на жабу сапога, постучал по ободу расхлябанного колеса. Подошел к лошади, обветренные красные руки коснулись упряжи. Нагнулся, схватил лошадь за копыто. Толстоногая пегая лошадка нервно махнула хвостом. – Тпру! Стой, милая, стой! Дай-ко, я подковку посмотрю. Ну ладно, кажись, доедем. Ничаго… – глаза повеселели. Сдвинув картуз на затылок, шагнул к трем, стоящим у обочины мужикам. – Мужики, вот я – ушат дырявый: запамятовал, как поместье-то называется.
– Можа, Луднево?
– Нет, не Луднево…
– Можа, Никольское?
– Нее, не тако название. Тпфу, дурень! И надо же, было так оплошать, – картуз съехал на потный лоб, рука чесала мохнатый, русый затылок. – Тама барин ишо живет – казистый такой, высокий, важный. Второго такого – точно нет.
– А… ну, так бы и сказывал, – осклабясь, ответствовал один из мужичков, – это – Махнево. Как свернешь в сторону, проедешь пару верст – там и увидишь: стоит на пригорке. Только там барин важный шибко, да видный. Он всей округе наружностью приметен. Бабам его красота покоя не дает. По мне: так с лица воду не пить. Меньше красы – меньше грехов бесовских.
– Точно, Махнево! – засмеялся приказчик и проворно заскочил на облучок. – А меня хозяин послал к нему: сверток с мануфактурой аглицкой доставить. Карета посыльного нашего изломалась на Астраханском тракте. Так он, горемычный на перекладных к хозяину добрался, а карету с лошадью на постоялом дворе бросил. Такие дела! – словоохотливый возница хлопнул себя по коленям и усмехнулся. – А хозяин изругал его примерно, чуть не поколотил: «Ах, ты колоброд сиволапый. Где лошадь оставил, свиное, ты, рыло? Пошлю туда, куда Макар телят не гонял. Тудыть растудыть».
Что ты будешь делать? А на что вам Степан? Вот он я… Как штык нарисовался. «А езжай-ка ты, Степан, в Махнево. Там живет один барин красавец-молодец. Я хотел бы заполучить его в покупатели. Свези-ка ему, для начала, посылочку в подарок от нашего магазина. Доставишь, каналья? Да смотри, чтобы все чин чином сладилось. Как не доставить? Обижаете, барин…» Я уж умолчал, что свою-то кобылу хотел аккурат в кузню вести. Думал: заикнись об энтом, он и меня со свету сживет. Хошь, не хошь, а вынь, да положь. Поехал. Но вот беда – я ж, не здешний – дорог не знаю. Как выехал – еще помнил название, опосля задумался о своем – и враз запамятовал! – мужичок тронул поводья. – Кабы не вы, заплутал бы. Как пить дать – заплутал. Счастливо оставаться, братцы! Спасииибоооо за помоооощь…
Мужики смотрели вслед удаляющейся бричке, клубы пыли закрывали ее полностью, пока она и вовсе не пропала из виду.
– Ишь, егоза пустобрех! Барин, говорит, видный, – мужичок сплюнул себе под ноги. – Черт он, а не барин! Люди зря хаять не будут… Раз, говорят – черт, значит – черт!
– И то – правда! – осмелев, добавил другой. – Девок по головам не пересчитать: сколько перепортил, Ирод окаянный. Оно, вроде, как и не жалко – девка, на то и рОждена, чтобы бабой стать. А все же – не порядок, не по-людски оно как-то, не по закону божьему…
– Тпфу, бисово отродье! – вступил в разговор третий. – Гляди-ка, мануфактуру аглицкую в подарок ему везут. Фу-ты, ну-ты. Даром, что барин благородный, а креста на нем нет! Кабы не барин был, а простой человек – изловили бы пакостника и мудя с удом оторвали!
С постороннего взгляду Махнево было богатым и знатным поместьем. Все, как положено: господа важные, благородные, сами собой – гладкие. Чаи на террасе попивают, разговоры ученые ведут. И все-то у них ладно, да лепо: дома крепкие, сады и цветники ухожены, скотина кормлена, лошади крупастые. Да и мало ли еще, каких приятностей и безделиц для услады глаз хозяйских имеется. Всего не перечислишь…
Только слава дурная за имением водилась, и не-то, чтобы слава, а так – слухи ползли, один нелепее другого. А слухи эти душком серным попахивали. Но, кто у нас слухи-то пускает? Ясное дело: бабы глупые, а им набрехать – раз плюнуть. Они любого ославят, сплетен до небес насочиняют.
Говорили, что барин Владимир Иванович во Христа праведного не верит, в церкву не ходит, а ведет себя, как отродье бесовское… Говорили, что он – то ли сектант, то ли молокан, то ли отступник. Потому, как без чести и совести завел у себя гарем, словно султан иноземный. Говорили, что много девок и баб со свету спровадил, иные брюхатые от него ходют, во чревах отродья бесовские носют… Говорили, что бесы наградили его удом огромным – почти до колен, и что удище энтот окаянный покоя барину ни днем, ни ночью не дает: во все тяжкие с головой уводит. Тычет он им кажну бабенку, а сытости не знает. Оттого барин люто воет, хуже волка серого. Говорили даже, что младенцев новорожденных по ночам кушает. Ну, кто в эту-то брехню поверит?
Слухи, они и есть слухи. Бабы глупые от безделья и зависти сочинили. Мало сочинили – по уезду разнесли. А мужики-холопы подхватили. Мужики-то нынче – мелковаты пошли, не те – что в старые времена. Хуже баб, порой, горазды языком чесать – говоруны языкатые! А отчего бы им не болтать попусту? – Лишь бы повод найти: от работы увильнуть. Распустили их донельзя, а еще «вольность» грозятся дать. И какая дураку воля? Языки бы поганые всем вырвать! А по-правде говоря, ну кто холопам поверит? На то он и холоп, чтобы молчать и волю барина прилежно исполнять. У глупых холопов и мыслей-то своих отродясь быть не может. Не их, собачье дело – о прихотях барских рассуждать!
Ну, обо все по порядку:
Господская усадьба находилась в приветливом и уединенном месте Н-ского уезда, Нижегородской губернии. Два, отдельно стоящих друг от друга, каменных дома, уютно расположились на небольшом зеленом пригорке, ниже домов шла небольшая рощица, а за ней довольно большой и глубокий пруд с чистой проточной водой. Упругие столбики коричневых камышей с острыми, как лезвия, высокими листьями и колючая, уходящая корнями в ледяную воду осока, обрамляли пруд с одного берега. Летом здесь цвели зеленая ряска и желто-белые кувшинки. Множество больших жаб и маленьких головастиков устраивали ночные концерты, прыгая дрожащими, скользкими лапками по огромным водяным листьям.
Пологим песчаным дном заканчивался другой берег. Кустарники душистого жасмина и много старых, наклоненных к воде плакучих ив, создавали приятный пасторальный пейзаж. В этом месте господа возвели довольно удобную купальню с деревянными мостками, ступеньками, уходящими в воду, резной беседкой, увитой глянцевым плющом и диким, лиловым вьюнком. Справа от купальни возвышался основательный двухэтажный лиственничный сруб – господская баня.
Несмотря на летний зной, вплоть до начала июля, вода оставалась холодной из-за обилия подводных ключей. Она была настолько прозрачна, что в тихую погоду, любой, кто доплывал на лодке до середины пруда, мог увидеть стайки серебристых рыбешек и рыб крупнее, стоящих неподвижно и шевелящих красными плавниками и жирными плёсами.
Белые и серые откормленные гуси, пестрые, с перламутровым отливом утки, важно скользили по светлой глади пруда. Шумно гогоча и крякая, перебирая красными кожистыми лапками, они заплывали и прятались в ту часть, где росли высокие камыши.
Вокруг барских домов весной бурно цвела сирень, и кипели молодым белым цветом душистые яблони. За домами шел парк, в котором старые липы перемежались с толстоствольными, раскидистыми дубами, резные кусты орешника с березками и рябинами. Слева от парка был разбит фруктовый сад – гордость хозяйки. Он не только радовал глаза и господский стол обильными и щедрыми дарами, но и приносил вполне ощутимый денежный доход. Сразу за садом дорога поворачивала в темный густой ельник, где заматерелые сосны с бледно-желтыми стволами походили на великанов с лохматыми угрюмыми головами, а разлапистые ели на их гигантских подруг. Хитрые белки с рыжими пушистыми хвостами перелетали с ветки на ветку. С утра и до позднего вечера в саду и в парке слышалось многоголосое птичье пение.
Крупные лепные колоны подпирали острые фронтоны двух, аккуратно побеленных, домов. Переднюю часть каждого дома огибала круглая терраса, на которой господа часто пили чай со сливками и свежей сдобой. Это было довольно богатое поместье. Хозяином его считался некий Владимир Иванович Махнев. За ним числилось около двух тысяч ревизских душ крепостных крестьян. Это был молодой человек, двадцати семи лет отроду. Будучи умным и хорошо образованным, он производил на собеседников весьма приятное впечатление, но, зачастую, поражал необыкновенной циничностью собственных суждений. В свободное время он любил почитать, отдавая предпочтение древнегреческой и немецкой философии, газетам и общественным журналам. За завтраком пробегал глазами «Северную пчелу» и подшучивал над светскими новостями и частными объявлениями.
Случалось, почитывал и стихи. И хоть не любил в этом признаваться, однако знал наизусть отрывки из «Евгения Онегина» и Байроновского «Дон Жуана», часто и сам сочинял «лирические столбики». Его секретер был забит исписанными клочками бумаги. Капризная Муза частенько заглядывала к нашему герою, но не всегда дарила удачную рифму для его «виршей»… Посещал он театры и оперу: но не часто – Махнев не слыл завзятым театралом. В обществе держал себя спокойно и немного высокомерно.
Внешне Владимир Иванович был высок и строен, черты лица имел приятные. Пожалуй, его можно было назвать даже красавцем: скульптурные линии фигуры и римский профиль имели удивительное сходство со статуей Аполлона из сада Бельведер в Ватикане. Выражение красивого лица почти не менялось, глаза глядели всегда одним и тем же холодным взором. Когда ему становилось скучно – набегала зевота, взор делался пустым и бесстрастным, реже грустным. И как он оживлялся, когда в поле зрения попадал предмет временной страсти – в глазах появлялся «охотничий» огонек. Но этот огонек горел недолго – ровно столько, сколько требовалось для «приманки» очередной жертвы его летучей и недолгой любви.
Вежливая холодная улыбка редко покидала его губы. Часто улыбка переходила в откровенную усмешку, делавшую серые глаза особенно холодными и жестокими. Темно-русые, густые волосы немного вились. Одевался он всегда изящно – своеобразно и просто, однако, его вкусу могли бы позавидовать некоторые завсегдатаи модных столичных домов. В своем поместье он позволял себе ходить в узких жокейских брюках, заправленных в высокие черные щегольские сапоги и в батистовой тончайшей белой сорочке с расстегнутым кружевным воротом. Молодая, слегка смуглая грудь, покрытая темными курчавыми волосами, виднелась из-за ворота расстегнутой рубашки. Владимир Иванович знал о себе, что он хорош и необыкновенно нравится почти всем, без исключения, женщинам. За его спиной было несколько петербургских романов и куча оставленных барышень с разбитыми сердцами.
Петербургские романы быстро наскучили молодому барину. В них, в силу определенных общественных рамок и устоев светской морали, он не мог дать воли бушевавшим плотским страстям и адскому пламени похоти, терзавшему его изощренное воображение. Поэтому, Владимир Иванович поскорее выхлопотал себе отставку и перебрался в фамильное имение.
В этом имении он проживал со своей матерью, не молодой, но ухоженной дамой. Внешне довольно приятная, Анна Федоровна имела репутацию избалованной и взбалмошной особы. Частая меланхолия, доводившая ее до головной боли, чередовалась с приступами неоправданного гнева. Ностальгируя по старорежимным «дедовским порядкам», Анна Федоровна могла безжалостно оттаскать за косу нерасторопную горничную, дать ей пощечину или велеть высечь розгами нерадивого работника.
Одевалась барыня вычурно и дорого, однако, изысканные, по ее мнению туалеты, к слову сказать, были слишком далеки от веяний капризной петербургской моды. Получив весьма скромное домашнее образование, Анна Федоровна не отличалась здравостью суждений и не блистала тонким интеллектом. Не смотря на это, она держала себя очень высокомерно, давая понять окружающим «свое место». В слугах более всего ценила преданность и лесть. Те крепостные, кто были похитрее, сразу смекали: что, к чему, и начинали безмерно раболепствовать пред барыней, делая нарочито дурашливые морды.
Рано овдовев, Анна Федоровна не пожелала более связывать себя узами брака. Зато долго и упорно мечтала женить своего Володеньку на богатой невесте и прочила ему в жены дочерей крупных помещиков. До явного сватовства так и не дошло, так как Владимир наотрез отказался жениться и попросил матушку повременить с поиском невесты, дабы он смог «пожить в холостяках».
Матушка на время оставила его в покое. Владимир же не тратил времени даром. Как не бывает дыма без огня, так и людская молва на пустом месте не появится. Природа наградила Владимира Махнева необычайной мужской силой, мощным, почти демоническим темпераментом и развитым воображением – все перечисленное, шаг за шагом, толкало владельца этих качеств на дно жесточайшего порока и разврата. Зорким похотливым взглядом высматривал Владимир Иванович девок и женщин на покосе, и на поденной работе в усадьбе – всюду, где ступала женская нога. Ни одна деревенская красавица не ушла от взгляда молодого жеребца. А как он умел соблазнять! Лишь знаменитый Дон Жуан мог соперничать с нашим героем в этом тонком ремесле. Про его мужскую силу и размеры детородного органа ходили легенды среди женского населения не только этого поместья, но и далеко за его пределами. Такие славные образчики мужской силы, каким был фаллос Владимира, после смерти владельца, должны сразу же, с почетом выставляться в Анатомическом музее или на полках Кунсткамеры.
Детство Владимира прошло в окружении множественной прислуги женского пола. Мамушки, нянюшки, гувернантки не оставляли его без чрезмерной опеки и ласки. Маленький барчук имел ангелоподобную внешность – охи, ахи и комплименты сопровождали каждый его шаг.
Когда завернутого в батистовые кружевные пеленки, обвязанного голубыми ленточками, в окружении восторженной свиты из родственников и домашней прислуги маленького Владимира принесли в церковь для проведения обряда Крещения, он закатил там чудовищную истерику. Младенец плакал так истошно, что от крика в старенькой деревенской церкви дребезжали стекла, и гасли восковые свечи. Батюшка поспешил наскоро завершить обряд, чтобы младенец не задохнулся от плача – розовое тельце посинело от натуги, глаза закатились, недетский хрип рвался из маленькой груди. Молодая мать услышала позади себя нестройный людской гул и легкий шепот осуждения.
Мальчик рос крепким и сильным, поражая окружающих ловкостью движений и смелостью, и неординарностью суждений.
Ему легко давались грамота и науки, учителя и гувернантки наперебой хвалили его успехи. Пытливый ум Владимира входил в противоборство с непостоянством натуры: он быстро увлекался и столь же быстро терял всяческий интерес к предмету страсти.
Когда мальчику было девять лет от роду, он все пристальнее стал разглядывать женские фигуры: волновали округлые формы, запахи, нежные голоса. Маленькому Володе было приятно, когда нянюшки мыли его в ванне: терли спинку, прикасаясь заботливыми руками к телу. Однажды одна из молодых горничных, звали ее Наташа, как всегда купала Владимира, рука нечаянно коснулась низа его живота. Мальчик встал во весь рост, между ног качался довольно развитый член, размеры коего были несоизмеримы с нежным возрастом отрока. Такой размер сделал бы честь любому взрослому мужчине.
– Наташа, голубушка, ты должна непременно потрогать меня, – пролепетал, слегка смущенный Володя. – Возьмись за него, я решительно настаиваю! – добавил он, в голосе звучали повелительные нотки.
– Что это вам в голову пришло, месье Вольдемар? Прекратите, проказничать! Хорошим мальчикам негоже так себя вести! – Наташа смущенно смотрела на барина, краска стыда заливала миловидное, круглое лицо.
– Наташа, возьми его в руки! Я твой барин, и ты должна слушаться меня. И потом, я совсем не желаю быть хорошим мальчиком, если ты отказываешься приласкать меня, – от негодования он даже притопнул, мыльная вода выплеснулась на каменный мозаичный пол.
– Что вы, месье Вольдемар, когда же я отказывалась вас ласкать? Дайте, мне свою щечку, я расцелую ее с превеликим удовольствием.
– Наташа, ты глупая баба, раз отказываешься сделать то, что я прошу. А впрочем, целуй меня, только целуй не щечку… а его… – пальчик указывал на эрегированный орган.
Наташа закрыла лицо руками и с плачем выбежала из купальной комнаты.
Став чуть постарше, Владимир не сильно церемонился со своей прислугой. Впервые он сблизился с женщиной, когда ему было двенадцать лет.
Произошло это в конце лета, на покосе. Юный Вольдемар засмотрелся на молодую крестьянку: она косила траву возле небольшой рощицы. Женщина наклонилась к земле: красные от работы ладони обматывали перевяслом сноп, узкая спина, одетая в пеструю ситцевую блузу, темнела от пота.
Широко и твердо выпирали круглые бедра, облаченные в шерстяную клетчатую паневу. Завидев издали барчука, она выпрямилась, ловко отбросила сноп, пальцы стянули белый платок, обнажив русую голову, толстая коса упала на грудь. Долгий насмешливый взгляд блуждал по фигуре подростка, тонкая бровь лукаво приподнялась, полные губы расползлись в улыбке, обнажив ровные крепкие зубы.
– Что, барчук, гуляете? – глаза еще больше повеселели.
– Гуляю, а тебе какое дело? – важно отвечал Владимир, все ближе подходя к крестьянке.
– Да мне-то, што? Мне и прям делу нет до ваших прогулок, барин. Только, я гляжу: у вас, кажись, дело до меня есть… – запрокинув назад голову, она хохотала во все горло.
Осмелев, Владимир подошел близко, руки неумело охватили стройную талию. Она выгнулась, но не отстранилась, зеленоватые в крапинку глаза продолжали лукаво рассматривать подростка. Лицо мальчика оказалось почти на уровне ее высокой груди, пахнуло женским потом, смешанным с горячим запахом травы и молока. Торопясь, он стал расстегивать пуговицы на блузке, неумело целуя обнажающиеся участки молочно-белой кожи, рука полезла под широкую юбку – заголилась полная нога.
– Тихо… тихо… барин. Какой, вы, прыткий. Погодьте малость, тут нас увидют. Пошли в рощицу, по кусток лягем, – она потянула его за руку.
Он смутно помнил этот первый в его жизни опыт общения с женщиной.
Помнил то, что новые ощущения вначале слегка ошеломили его, а потом немного разочаровали.
Огромными и ослепительно белыми казались ее груди, язык помнил солоноватый вкус ярких упругих сосков. Они пролежали под кустом до самых сумерек, она ушла, еле перебирая негнущимися ногами. С лица женщины не сходило глупое, удивленное выражение. Долго стоял в ушах жаркий шепот: «Миленький мой, да, какой же, ты… Да, откудо же тако выросло? Да, как, же так? Ты, же молод ешо…» Он встретился с ней еще несколько раз, потом в его жизни стали появляться все новые и новые любовницы.
Когда Владимир учился в старших классах гимназии, он мог позволить себе вызывающе откровенно рассматривать молодых женщин. Те, не выдержав взгляда красивых серых глаз гимназиста, смущались и теряли нить разговора. К счастью, в гимназии преподавали, в основном, одни мужчины. У Владимира было немного товарищей: он не любил близких сближений, держался от всех на небольшом вежливом расстоянии, тем паче, не выносил беспардонного панибратства. Многие однокурсники считали его гордецом, тем не менее, уважали и даже побаивались.
Уважения добавил один интересный случай. Как известно, в юношеской среде добрая половина разговоров посвящена женщинам и всему, что с ними связано. Молодые отроки наперебой рассказывают друг другу вымышленные истории об амурных похождениях и почти геройских подвигах, связанных с ними. Товарищи Владимира также были замечены в этом грехе. Он слушал их внимательно: ироничная усмешка скользила по его красивым губам.
– Вольдемар, чему ты, улыбаешься? Ты, будто не веришь мне?! – вскричал кареглазый и круглолицый Афанасьев. Он живо и красочно изложил историю соблазнения им молодой кухаркиной дочки, снабдив ее пикантными подробностями. Все мальчики слушали его, затаив дыхание, один Махнев нагло усмехался, весь его вид говорил о том, что он не верит ни единому слову рассказчика.
– Да, полно, тебе, Афанасьев, сказки нам сказывать. А, уж если бахвалишься, то будет тебе повод это доказать, – проговорил спокойно Махнев, глаза все так же лукаво поблескивали.
Гимназисты зашумели, одобряя слова Владимира. Они долго совещались, как привести в исполнение намеченный план. Наконец, черноволосый Слепцов, придя как-то утром на занятия, сообщил товарищам, что встретил по дороге полненькую, рыженькую прачку: в белом передничке и чепчике.
– Она, такая милая: ручки маленькие, попа большая, грудя прыгают! – радостно сообщил Слепцов, он даже чуть пританцовывал от удовольствия. – Вот, только не знаю, согласится ли она.
– Прачка говорила с тобой? – спросил Махнев.
– Нет…
– Улыбалась? Смотрела на тебя?
– Да! – Слепцов кивнул, глаза горели от радости. – Она и смотрела и улыбалась и смеялась даже.
– Charmant! Ну, тогда дело слажено, я полагаю. Как поговаривают англичане: девушка, которая смеется, наполовину уже завоевана. – спокойно рассудил Владимир. – Надо будет дать ей пару целковых и конфет купить.
На следующий день четверо гимназистов выследили вожделенную молодую прачку. Она шла по мостовой пружинящей походкой, полные ручки держали бельевую корзинку. Завернув за угол, девушка наткнулась на ватагу разгоряченных гимназистов. Беседу повел опытный Владимир, другие мальчики настолько растерялись, увидев девочку на таком близком расстоянии, что не могли проронить ни слова.
– Сударыня, как вы хороши! Любой, кто увидит вас – лишиться дара речи! Вы похожи на красный мак или гвоздику… Вы, какие цветы более любите? – галантно спросил Владимир.
– Ну… Это, вы, чего? – прачка удивленно смотрела на мальчиков, зеленые глаза радостно моргали, красные пятна выступили на белом, покрытом конопушками, лобике. Она немного пятилась назад, но по ее виду было понятно, что ей льстит такое чрезмерное внимание барских отпрысков. – Я совсем цветов не люблю. Я юбки и платки люблю в цветок и конфекты разные.
Владимир, изловчившись, поцеловал ее пухлую, потную ручку.
– Как мило! А не соблаговолите ли, вы, составить нам компанию завтра в этот же час, на месте старых развалин у городской рощи? Мы принесем с собой и конфеты и рубликов.
– Ишь вы, какие, хитрые! – глаза сделались маслеными. – Я не какая-нибудь дурочка. И держу себя строго, – она сделала нарочито важное лицо. Прошла минута, искоса глянув на мальчиков, прачка спросила, – а сколько целковых мне дадите, ежели я с вами погулять пойду?
– Радость, вы, наша – целых два! – засмеялся довольный Владимир.
– Ну, коли два – я согласная. Только побуду с вами чуток и сразу домой. Хорошо?
– Хорошо, хорошо, голубушка. Нам и чуток хватит.
Еле дождались гимназисты следующего дня. Был готов кулек с разноцветными леденцами и два целковых. В назначенное время они ждали прачку в старой роще на развалинах графского дома. В этом месте днем было малолюдно: редкий прохожий отваживался ходить среди серых обломков, поросших высокой травой и кустарником.
Рыженькая прачка, не смотря на юные лета, была далеко не девственна. Пышные формы вызвали необыкновенной силы вожделение у ее хозяина, сорокапятилетнего мужчины, который тайком от своей жены сошелся с хорошенькой работницей и совратил ее. Собираясь на свидание к гимназистам, девушка думала не только о деньгах – было приятно, что такие важные молодые люди, дворянского происхождения желают встретиться с ней. По глупости, она даже не давала отчета в том, что на предстоящем свидании их будет четверо, а она одна… Она считала, что дворяне – люди благородного сословия, не то, что ее хитрый и грубый хозяин, и горазды делать только высокопарные комплименты и угощать конфетами. Как жестоко она просчиталась!
Вначале мальчики, завидев ее, радостно замахали руками, взяли под ручку и прошлись с ней по отдаленной аллее. Один из них поцеловал ее в плечико, другой в ручку, третий неумело мазнул губами по толстенькой щеке. Прачка хохотала, грозила пальчиком, смущалась и розовела от удовольствия, пухлые ручки то и дело оправляли белый передничек и теребили рыжий локон на конце толстой косы. Наконец, инициативу взял на себя Владимир, он незаметно прикоснулся к крепкой талии, прачка томно посмотрела на него.
Он казался намного красивее других мальчиков и выглядел очень взросло. По ее телу пробежала заметная дрожь, перешедшая в сильное сладостное желание. Девушка уже плохо соображала, особенно после того, как Владимир принялся целовать долгим поцелуем пухлые губы, а настойчивая рука ловко пробралась к высокой груди. Она даже не заметила, как оказалась в кустах густой акации, кто-то из барчуков предусмотрительно постелил на траву одеяло, секунда – и девушка уже сидела на нем: сильная рука самого красивого гимназиста клонила ее спину и голову, заставляя прилечь. Сопротивление было недолгим: несколько пар рук тянулись к девочке, гладя и тормоша ручки, плечи, бедра. Дыхание стало прерывистым, она почувствовала, что эта же настойчивая рука откинула синюю юбку с передником: обнажились полные розовые ножки, между ножек пухлым бугорком выступал лобок, густо покрытый рыжими курчавыми волосами, в середине лобка едва виднелась красноватая влажная трещина. Мальчики потрясенно таращились на все это рыжее великолепие, руки держались за причинные места: они не знали, что делать дальше.
Владимир закинул ногу на бедра девушки, опытная ладонь ловко легла на круглый живот, спустилась ниже к рыжим завиткам, лаская и немного дразня. Длинные пальцы проникли в скользкую припухшую сердцевину. Прачка от удовольствия закатила глаза, бедра стали поступательно двигаться, стон удовольствия вырвался из ее груди. Владимир умело ласкал ее влажное лоно, прошло несколько минут, казалось, девушку вот-вот начнут охватывать волны наступающего оргазма. Вдруг, он резко убрал руку и встал на ноги. Прачка охнула от неожиданности.
– Сударыня вполне готова. Готовы ли вы, господин Афанасьев? Прошу вас, приступайте… – проговорил он.
Круглое лицо Афанасьева сильно покраснело, он растерялся, но стараясь не показывать виду, решительно подошел к девочке. Его руки долго возились со штанами, торопясь и путаясь в застежках. Наконец, он скинул их и прилег возле прачки. Все мальчики с любопытством наблюдали за происходящим. Рыжая красавица открыла зеленые глазищи и с наглым любопытством следила за неумелыми действиями высокого гимназиста. Ее губы скривились в презрительной усмешке, когда из-под пиджака отрока выскочил член весьма скромных размеров, никак не гармонирующий с его долговязой фигурой. Послышались возгласы одобрения и призывы к действию: «Афанасьев, ну что ты, медлишь? Вставляй ей! Она ждет! Отходи ее по полной» Гимназист решительно двинулся навстречу: нескладное тело, выпирая белым тощим задом, неуклюже задергалось, маленький гость, не найдя правильный путь, уперся девочке в ножку. Прачка выразила полное неудовольствие, хотела даже соскочить с покрывала. Махнев решительным жестом заставил двух других гимназистов держать ее за руки и плечи. Дернувшись пару раз, Афанасьев замер: семя изверглось на ногу рыжей распутницы. Совершенно оконфуженный он встал с покрывала, пряча карие глаза, подхватил брюки.
– Право и не знаю, друзья: что со мной сегодня такое? У меня никогда не возникало проблем с дамами. Честное слово, просто не мой день… – краснея, оправдывался он.
– Мы вам верим, господин Афанасьев, – лукаво улыбаясь, отвечал ему Махнев. – В следующий раз у вас непременно получится в самом наилучшем виде.
Девочки сунули в рот пару леденцов, чтобы она не говорила лишних слов. Владимир пригласил следующего.
– Теперь, вы, господин Слепцов. Приступайте!
Слепцов оказался ненамного более умелым любовником, чем предыдущий гимназист. Обнажив короткий толстенький член, он все же ввел его в положенное место, вызвав чувство небольшой признательности со стороны сладострастницы. Однако действия его были столь же недолгими, как и у Афанасьева. Прачка лежала мокрая от семени, но совсем не удовлетворенная.
Маленький и робкий гимназист Милов и вовсе отказался показать себя, так как признался, что «грех» с ним случился еще тогда, когда он увидел голый лобок рыжеволосой красотки.
– Я того… я постою немного, а потом приступлю, – ответствовал он скромно.
Желающих полюбить прачку больше не оказалось… На передний план выступил наш красавец Вольдемар. Спокойно сняв брюки, он аккуратно сложил их и повесил на куст. Глазам удивленных зрителей предстал такой огромный инструмент, какого невозможно представить… Ошеломленные мальчишки не могли отвести глаза от такого внушительного орудия. А девочка чуть не подавилась леденцом, к голу подступил внезапный кашель. Не мешкая и не говоря лишних слов, Владимир велел ей перевернуться и встать на колени, приподняв круглый зад. Затем, он немного пощекотал срамные губки и маленькую горошину, таящуюся внутри влажных лепестков плоти. Убедившись, что девочка снова достаточно возбуждена, не медля, загнал свое орудие в скользкую упругую норку. От таких огромных размеров девочка вскрикнула, закусив нижнюю губу, по щекам потекли слезы.
Он довольно долго занимался любовной игрой, сильные руки нежно и властно поворачивали прачку то передом, то задом. Девочка стонала от возбуждения: рыжие волосы выбились из косы; из расстегнутого ворота выпали круглые спелые груди; запахло потом – тем сладким и едким потом, который присущ только рыжеволосым женщинам. Она наморщила лобик, рот судорожно ловил воздух, красный язычок выскочил наружу. Мгновение – и ее лицо скорчилось в мучительной гримасе: оргазм сотрясал полное тело.
– Она спустила! – крикнул гимназист Милов.
В эти минуты Владимир ощущал себя самым главным самцом, самым главным повелителем, самым могущественным мужчиной. Согласитесь, у него были достаточно веские причины, считать себя таковым.
С этих пор ему стали по вкусу именно групповые проявления плотских отношений. Именно оргии, впоследствии стали его излюбленным занятием.
Он испытывал огромное удовольствие не только от самого занятия любовью, но более ему нравилось, когда несколько пар возбужденных глаз наблюдают за ним и восхищаются его силой и могуществом.
Гимназисты смотрели на эту потрясающую сцену и, не стесняясь, онанировали рядом. Когда все закончилось, девочку подняли на ноги, вручили ей деньги и оставшиеся в кульке конфеты. Часть конфет потихоньку скушал Милов.
После этого случая, авторитет Владимира вознесся буквально до небес.
Глава 2
Шли годы, Владимир взрослел, набирался опыта. Его яркая личность и раскованное поведение имели ошеломительный успех в светском обществе. Он был только студентом, а про него ходили целые легенды – их пересказывали друг другу молодые девушки и зрелые дамы. Каждая мечтала о том, чтобы этот необыкновенный красавец и щеголь обратил на нее свое пристальное внимание. Но не каждая красотка получала желаемое. Порой, Владимир вел себя слишком вызывающе, фраппировал, давая понять той или иной светской львице, что он не нуждается в излишней опеке, либо откровенно и холодно ее игнорировал. Такое поведение интриговало, создавало нашему герою тот флер таинственности, который необычайно притягателен для женского пола. В кругу близких приятелей он не раз давал оценку дамам высшего общества.
– Что, нынешние дамы? Mille pardons[1], господа, – иная сидит вся бледная, словно мукой с головы до ног обсыпана. А уж как в корсет затянута: того и гляди – переломится. Нет, если говорить откровенно, то я в женщинах не люблю худобы излишней, да бледности, – с иронией говорил он, – вы, знаете, господа, что я слыву эпикурейцем и гурманом? И мне, как гурману, более по душе аппетитная ножка жареной индюшки, нежели обглоданная кость.
– Знаем, Вольдемар, о каких гастрономиях вы речь ведете, – со смехом возражали ему товарищи.
– Именно о тех и веду-с. Я полную ножку с маленькой ступней ценю превыше всех достоинств. А румяные щечки и полные груди мне милее булочек с кремом.
– Так вам, Вольдемар, надобно не со светскими цирцеями романы водить, а ехать к матушке в имение. Там Дуни, да Параши вполне удовлетворят ваши гастрономические изыски.
– Полно вам, господа, смеяться, – говорил он лукаво. – Я еще тут немного порезвлюсь. Набедокурю чуток. А, как надоест – поеду домой в деревню. Там девки ждут меня, не дождутся, слезы льют.
– Махнев, да ты только в деревню-то сунешься, – матушка тебе быстро хомут на шею приладит. Не успеешь оглянуться, как женит на какой-нибудь соседской дочке. И… Adieu… Пиши – пропало!
– Типун вам на язык! Женит! Как же! С женитьбой я повременю, и то ежели миллионы в приданое дадут, и жена, чтобы глухонемая была. А так – увольте. C'est impossible[2] – легко пикировался он. – А знаете, господа, я тут на раунде у Дубоносовых был третьего дня, там такой бутончик у генерала расцвел. J’ai une insomnie[3], как увидел ее груди.
Надо бы сойтись с ней поближе.
Наш герой с головой уходил в светские романы. Они порой тяготили, в них нельзя было дать воли разгулу страсти и похоти. Общество навязывало ему свои моральные законы и стиль поведения. Владимир, будучи откровенным бунтарем, циником и нигилистом, более всего мечтал сокрушить эти самые законы.
Известно, что со своим уставом в чужой монастырь нечего и нос совать. Так и бунтарские взгляды Махнева приводили его лишь к кутежам и попойкам в дружной компании молодых повес и долгим философским излияниям. Именно на этих попойках, которые длились порой неделями, «золотая молодежь» отводила душу. Часто на эти гульбища приглашались дамы полусвета, либо откровенные шлюхи. Последние, особенно пользовались успехом на подобных мероприятиях.
Владимир хорошо помнил один случай, как на вечеринку подвыпивших студентов, а их было пятеро, включая Вольдемара, пригласили девушку легкого поведения. Она была очень молода, заняться этим нелегким и гибельным ремеслом ее принудили тяжелые жизненные обстоятельства. Девушка выглядела справной, но не полной: плотный корсет охватывал гибкую талию, выставляя напоказ аппетитные груди. Темно-русые локоны спускались на плечи, на голове красовалась голубая шляпка с искусственными цветами, черная вуалетка закрывала карие с длинными ресницами глаза. Она сильно робела от неопытности, смущалась под наглыми взглядами выпивших студентов. Бросалось в глаза то обстоятельство, что, это был едва ли не первый случай ее вынужденного грехопадения, это же и немилосердно притягивало, давая ей высокую оценку. Девушка старалась улыбаться, но улыбка получалась жалкой, натянутой и вымученной. Хотелось отбросить все условности и взять смущенную «жрицу любви» под опеку, заботиться о ней, как о ребенке. Владимира в глубине души посетила эта внезапная мысль, но он тут, же отмахнулся от нее, как от назойливой мухи и подавил в себе неуместный приступ жалости.
Выпив бокал вина, он осмелел еще сильнее. Друзья везде и всюду смотрели на него, как на вожака. Он велел раздеть красавицу, невзирая на слезы и молящие взгляды последней.
– Mademoiselle, к чему все эти слезы? Вы знали, зачем вас пригласили сюда. Вам хорошо заплатят, Mon Cher. Расслабьтесь, и выполняйте свою работу.
После он положил ее на стол, раздвинул длинные ноги и приступил… Эти минуты нравились Владимиру более всего, страсть к групповым оргиям входила в его кровь, как змеиный яд, отравляя весь организм. Девушка воспринимала все, как должное, отвернув гордое лицо и крепко зажмурив глаза. Лишь изредка с губ срывался слабый стон, руки лихорадочно теребили лайковую перчатку – она покусывала ее белыми мелкими зубами… После того, как Вольдемар всласть наигрался с девицей, он освободил место товарищам. Они по очереди воспользовались своим правом… Ушла она под утро, еле живая и наспех одетая: темные локоны растрепались и висели по плечам длинными прядями, шляпка смялась, лицо осунулось, маленькие ручки прижимали к груди увесистый кошелек с деньгами – студенты заплатили тройную цену. Впоследствии, совершенно случайно, до Владимира дошел слух, что один из его товарищей, участвовавший в этой оргии, некто господин Григорьев разыскал бедную девушку и выкупил ее из борделя. Он позаботился о ней и забрал к себе в имение.
Бывало и так, что в оргиях участвовали две или три женщины, соотношение партнеров менялось согласно барским прихотям.
Прошло еще несколько лет, Владимир Иванович Махнев давно служил в чине «коллежского асессора» при Сенате, получал сто тридцать пять рублей серебром ежемесячное жалование, и обращались к нему как: «Ваше Высокоблагородие». Он снимал шикарную меблированную квартиру, вел светский образ жизни, ездил по театрам, но… неимоверная скука терзала его тонкую балованную натуру. Наконец, он решился подать в отставку и переехал в фамильное имение в Нижегородскую губернию.
Матушка Анна Федоровна вначале не очень одобрительно отнеслась к поступку сына, ей хотелось, чтобы Владимир поднялся еще выше по карьерной лестнице. Но вскоре она смирилась с его решением, тем паче, что сильно скучала во время его долгого отсутствия. Владимир стал осваиваться и привыкать к вольной деревенской жизни.
Себе в помощники он взял молодого приказчика Игната Петрова, тридцатилетнего смуглого красавца казацких кровей, которого знал с раннего детства. У приказчика были черные, как смоль волосы, резко очерченные скулы. Его темно-карие, чуть диковатые глаза многих смущали, а иных и в трепет приводили. Ходил он в красной шелковой косоворотке, темных брюках и черных кожаных сапогах. Поверх косоворотки надевал отороченную мехом тужурку, на голове носил картуз, из-под которого выбивался черный кудрявый чуб. Сильные, смуглые руки поигрывали кожаным канчуком. Игнат был выходцем из крепостных дворовых людей семейства Махневых. Отец его при жизни служил камердинером у матери Владимира. В детстве, воспитываясь и часто играя с барским сыном, он неплохо усвоил грамоту, немного французский и слегка научился правильным манерам. И все же, в усадьбе Махневых к нему все относились как к мужику, а не как к барину, зная о его происхождении, и видя его хозяйственную смекалку и любовь к лошадям. Дворовые побаивались Игната за суровый и горячий нрав, который достался ему от смуглой, похожей на цыганку матери, и уважали, отчасти потому, что Владимир обращался с ним как с товарищем и благоволил ему во всем.
Необходимо сказать, что Владимир Махнев, будучи человеком гордым, заносчивым и тщеславным, в глубине души нуждался в постоянной поддержке единомышленника. Многие душевные сомнения и трусливые наклонности рассыпались в прах при молчаливом поощрении такого брутального товарища, коим был Игнат. Последний с огромным восхищением и пониманием относился к смелым и безрассудным идеям своего барина. Владимир Иванович служил кумиром для Игната. Гулять и пакостить в одиночку Владимиру было: ох, как не с руки… Да и потом, фантазии его и склонность к оргиям требовали не приватного интимного участия, а присутствия нескольких персонажей. Одним из любимых персонажей оргий, его главным сотоварищем и являлся смуглый красавец Игнат Петров.
Одним погожим июньским утром к поместью Махневых подъехал легкий экипаж. Распахнулась дверка, пропустив изящную ножку в летней туфельке и край пышной юбки. Затем на свет божий показалась хорошенькая молодая барышня. На вид ей было не более восемнадцати лет. Одета она была скромно, но со вкусом: серое шерстяной платье мило обтягивало стройную фигуру, белый кружевной воротничок и манжетки придавали платью девичью трогательность и обаяние. Небольшая шляпка прикрывала раскрасневшееся на солнце лицо. Роста она была высокого, не худая и очень статная. Это была племянница покойного отца Владимира Ивановича, его троюродная кузина. Все ее родственники умерли, и крестная мать девушки написала письмо Анне Федоровне с просьбой приютить племянницу, и возможно, дать ей место гувернантки в доме, чтобы «даром не есть хлеб». Девушка сильно смущалась, стоя на террасе, пока Анна Федоровна читала письмо.
В это время Владимир смог хорошенько рассмотреть свою бедную дальнюю родственницу. Она была необычайно хороша собой и по-девичьи чиста. Матовый тон кожи поражал свежестью и здоровьем, блестящие, словно промытые фиалковые глаза, обрамленные длинными темными ресницами, смотрели на мир смущенно и по-детски непосредственно. Русые волосы, цвета пшеницы были заплетены в длинную косу, перекинутую через плечо. Высокая пышная грудь притягивала взгляды… Казалось, девушка даже не догадывается о том, что она настоящая красавица: в ней не было и тени кокетства. Движения, мимика, звуки голоса – все было естественно и гармонично. Звали ее Глафира Сергеевна.
Владимир без стеснения, разглядывал Глашу, она же смущаясь, краснела и прятала глаза от наглого красавца. Забегая вперед, скажем, что Глафира Сергеевна окончила Петербургский Екатерининский институт, неплохо говорила по-французски, была достаточно образована для своих юных лет и очень романтична по своей природе.
– Это в какой же оранжерее, сей дивный цветок произрастал-с? – присвистнул Владимир, серые глаза рассматривали девушку с нескрываемым восхищением. – Mille pardons, сударыня, позвольте-с поцеловать вашу ручку. Je suis tres heureux de faire votre connaissance.[4]
Глафира Сергеевна смутилась еще сильнее, робкие глаза смотрели в сторону.
– Maman, а почему вы ранее не говорили мне, что в нашей немногочисленной родне такие вот девушки – красавицы существуют? – не унимался он.
– Вольдемар, полно тебе шутить. Займись, лучше делом. Ты, кажется, ехать куда-то собирался? – раздраженно отвечала мать.
– Да, какие уж тут, шутки! – игриво продолжал Владимир. – Стрела амура сердце насмерть пронзила… Не видите, Maman, я чуть живой стою.
Прочитав письмо, Анна Федоровна пристально оглядела девушку, ее лицо помрачнело.
– Ну, что ж, дорогуша, я, конечно, дам вам приют в моем доме, как просит за вас крестная. Но, ума не могу приложить, какое бы вам найти достойное занятие… Ведь вы, пожалуй, что воспитаны, как барышня, и вам не знакома грубая работа по дому. Вон, я смотрю, что и ручки-то у вас слишком изнежены, – недовольным голосом произнесла Анна Федоровна.
– Ну, Maman, не стоит так уж смущать нашу дорогую гостью, – заметил Владимир, – пусть она пока располагается в доме и отдохнет с дороги.
– О, Madame, вы так добры, что даете мне приют, – пролепетала Глафира Сергеевна, – я вовсе не белоручка, и смогу исправно помогать по хозяйству. Кроме наук в институте нас многому обучали. Мы шили рубашки для солдат, кисеты, рвали корпию[5]. Я умею хорошо вышивать, штопать белье и…
– Довольно с вас и этого, – надменно прервала ее Анна Федоровна, – поживете пока, а там – посмотрим. Может, я вас выдам замуж, коли найду подходящего жениха, хотя, без приданного – это будет сделать непросто.
Глаша была сильно смущена и подавлена этим коротким разговором, тяжелые предчувствия стали закрадываться в светлую девичью душу. Она понимала: тетка не так добра, как про нее говорили родственники, а кузен Вольдемар смотрит столь пристально, что ей становилось волнительно и одновременно тревожно.
Глафире Сергеевне отвели небольшую комнатку на первом этаже в одном из господских домов. В комнатке стояла небольшая кровать, покрытая светлым пикейным покрывалом. Строгие образа взирали со стены из-под белой льняной, с вышивкой шторки, под ними теплилась маленькая лампадка. Старый, обшарпанный комод с медными ручками, стол и пара стульев с круглыми деревянными спинками – таковым было скромное убранство комнаты.
Вопреки тяжелым ожиданиям, дни в поместье Махневых потянулись спокойно, своим чередом. Анна Федоровна не сильно утруждала племянницу работой, скорее барыня присматривалась к ней. Бывало, выйдет Глафира утром на террасу, присядет для поклона.
– Bonjour Madame[6], – и дальше по-французски.
Тетка кивнет в ответ, сморщится как от клюквы, сделает вид, что поняла. Глаша вызывала у нее женскую зависть и легкое раздражение. Глафира старалась изо всех сил, чтобы понравиться тетке: говорила вежливо и часто по-французски, делала книксены. Все напрасно… Наоборот, будь девушка опытней, то поняла бы, что все ее старания выглядеть ученой и воспитанной вызывают в тетке лишь тайную злобу. Прикинься она простой и недалекой, глядишь – быстрее бы добилась теткиного расположения.
Анна Федоровна любила всегда и везде чувствовать себя самой умной, образованной и авторитетной особой. Раздражало ее и то, что сын Владимир буквально не сводил глаз с новой родственницы.
Глаша гуляла по саду, читала романы, и подолгу о чем-то мечтала. Иногда она ходила к пруду, снимала легкие, летние туфельки, ноги с удовольствием окунались в прохладную воду. Из домашней прислуги с ней мало, кто пока разговаривал, видя в ней не ровню себе, а все-таки барышню. Она пару раз встречала с утра девушек-горничных с заплаканными лицами, но боялась спросить о причине слез.
Глаша и сама частенько плакала. Она скучала по дому, институтской жизни, по той особой атмосфере чистой и непорочной девичьей дружбы, о классной даме, о директрисе. Вспоминался и выпускной бал, а после прощание с подругами, с которыми пролетело шесть незабываемых лет… Потом возвращение домой, и как гром среди ясного неба, новость о смерти папеньки. Ей не сообщили об этом трагическом событии, дабы не расстраивать ее накануне выпускных экзаменов. Дома ее ждала больная мать, слабеющая день ото дня, после похорон любимого супруга. Словно горячка, Глашей овладело желание сделать для несчастной все возможное, дабы облегчить ее невыносимые страдания. Она и делала, но получалось все нескладно. Она поправляла подушку, поила мать горячим декоктом[7], но та давилась и кашляла. Бледная кисть матери делала в воздухе слабые движения, словно она пыталась отмахнуться от назойливой сиделки.
Именно в то время Глаша поняла, как отодвинула ее институтская жизнь от жизни реальной, в которой случалась нужда и умирали близкие. Ей было странно взирать на потускневшее и состарившееся от горя лицо матери, которая в молодости слыла записной красавицей и блистала на балах. Мама умирала, а душу Глафиры разрывало на части от тяжкого несоответствия ее мечтаний и грубой правды жизни, коя замешана на нестиранных, влажных от пота простынях, запахе лекарств, грубости прислуги и презрительного взгляда лекаря, которому нечем заплатить за визит. Молодость жаждала радости, веселья, мужского внимания, нарядов, танцев и летних вечеров. А были похороны. Обычные среднерусские похороны, на которых присутствовал старый пьяненький и шепелявый дьяк и несколько близких к maman подруг.
Далее память все время выкидывала тот отрезок воспоминаний, когда Глаша осознала свое полное сиротство. Месяц безутешных рыданий. Хождение в церковь и на могилу родителей. Долги, неоплаченные счета, продажа имения. Лихорадка. Приезд крестной. Долгое выздоровление. Письмо.
Дорога. И вот она здесь…
Глаша любыми средствами старалась гнать от себя меланхолию. Иногда она нарочно декламировала стихи Державина или Пушкина. Бодрилась, принималась вальсировать сама с собой и невидимым кавалером. Слезы высыхали, и она предавалась мечтаниям, кои по младости лет кажутся важными, возвышенными и имеющими большую надежду, что сбудутся в реальности. Спустя годы, воспоминания об этих мечтах вызывают в лучшем случае, лишь улыбку. Она мечтала о том, что, несмотря на все невзгоды, будет у нее жених, непременно красавец, la Byron[8], или, как кузен Владимир. И что будут они гулять вместе и говорить о поэзии… Он возьмет ее за руку, поцелует и скажет, глядя в глаза: «Сударыня, я люблю вас безумно! Станьте, моею женой». О дальнейших событиях Глафира имела весьма туманное и поверхностное представление: его рука притянет талию; губы сольются в поцелуе; а потом, почему-то хотелось, чтобы он прижал ее сильнее и непременно к стене, да так, чтобы стало горячо и тесно полным грудям… Тот, кто прижимал к стене, как не странно, имел лицо Владимира, его фигуру, руки, запах. В этом месте Глафире становилось жарко: мучило телесное томление. Бывало, она гладила свое нагое тело, руки касались плотных сосков, скользили по бедрам – дальше этого дело не шло…
Владимир Иванович часто наблюдал за кузиной. Она безумно нравилась ему. Но так, как она была слишком целомудренна, чиста и невинна, он решил немного сдержать «огонь страсти». Он захотел потихоньку влюбить в себя неопытную девушку, бывшую институтку и принялся за ней ухаживать. Когда все собирались на террасе к фриштику[9], Владимир спускался чуть позже. С утра вдоволь накупавшись в специально обустроенной купальне, чисто выбритый и вкуснопахнущий, в белоснежной рубашке с открытым воротом, он производил божественное впечатление на Глафиру Сергеевну. Его изящные манеры, дерзкий взгляд холодных серых глаз, красивые, но по-мужски сильные руки буквально завораживали бедную девушку. Кузен был необычайно остроумен за столм, вежливо говорил: «Bon appetit!»[10], и умел галантно ухаживать. Словом, Глаша все сильнее влюблялась в этого жестокого демона. Выходя на террасу, особенно, когда не было поблизости матери, Владимир рассыпался в комплиментах:
– Ах, Глашенька, divine[11], как вы, сегодня хороши! Ваши ангельские глазки похожи на яркие цветочки. Губки у вас, словно кораллы, а зубки – чистый жемчуг. Пальчики… О, ваши пальчики я съел бы, как спелый виноград. Не прячьтесь от меня, цветик мой.
Глаша, не выдерживала столь лестных для нее, но погибельных слов и убегала, закрыв лицо руками.
Часто во время прогулок по саду или вдоль берега большого пруда Владимир сопровождал Глафиру. Он развлекал ее потешными историями, читал стихи и тем самым все сильнее входил к ней в доверие. Долгие разговоры о поэзии позволяли Глаше увидеть в кузене человека образованного, тонкого и думающего. Владимир легко мог уболтать и более опытного собеседника, не то, что наивную и доверчивую девушку. Глаша слушала его, затаив дыхание – восхищению не было предела. Невольно идеализируя этого красивого мужчину, она мысленно приписывала ему те достоинства благородной натуры, о коих он даже не подозревал.
А он – шельма, зная хорошо свое кобелиное дело, играл с ней, как кошка с мышкой: то посмотрит строго; то рассмешит и сам смеется, выставляя напоказ белые ровные зубы; то днями и взгляда не удостоит – словно, и нет ее… Потом вдруг опять становился нежным и внимательным без меры. Оконфузит ее, а сам уйдет по делам. Бедная Глафира весь остаток дня себе места не находит, лишь о нем мечтает: чтобы вниманием своим осчастливил.
Когда они были наедине, Глафира замечала на себе пылкие взгляды, сильные руки искали повод обхватить талию. Вместе они качались на качелях: от высоты перехватывало дыхание, натягивались веревки, подол платья развевался на ветру. В эти минуты она чувствовала себя необычайно счастливой, глаза видели его глаза, пальцы нечаянно касались его пальцев: от прикосновения кидало в жар. Прощаясь, он брал ее запястье, поворачивал к себе внутренней стороной: ручка девушки покрывалась цепочкой нежных и страстных поцелуев. Глаша в смущении отдергивала ладонь, от поцелуев шла кругом голова.
Теперь, лежа вечерами в кровати, она постоянно думала о Владимире, душа томилась, мысли путались, плохо спалось. Она садилась, руки обхватывали круглые колени, мечтательный взгляд устремлялся в темное звездное небо. Воображение уносило ее далеко, приподнимало над земной суетой, уводя в невиданные дали. Грезила Глаша о средневековых замках и доблестных рыцарях. Один из рыцарей мчался на белом коне, длинная шелковая грива колыхалась на ветру, копыта лошади летели высоко над землей, желтая луна скользила средь туманных облаков, Млечный путь указывал дорогу. Рыцарские доспехи серебрились от лунного света. Он казался необыкновенно мужественным: плечи, облаченные в гладкие кованые наплечники, поражали широтой и размахом, узкий торс, затянутый в латы, гибко покачивался над седлом, сильные, обутые в железные сапоги ноги, крепко сжимали белые крутые бока лошади. Присмотревшись внимательнее, она увидела знакомый взгляд, рыцарь смотрел глазами Вольдемара. Спрыгнув с коня, он подошел к Глафире и встал на одно колено, рука, закованная в латы, трепетно протягивала алую розу… Потом пошли другие видения: пестрая толпа, церковь, многоголосый хор, туман от кадила, сияние свечей… и она – Глафира в белом подвенечном платье. Поворот головы, глаза находят знакомый профиль, волнистые волосы, широкие плечи, его улыбка, радость захватывает, как водопад, слышится звонкий смех… Гулко поет церковный хор, пение сливается с колокольным звоном, звон идет по всей земле, заливаясь медом в Глашины уши… Она засыпает… и снова грезит: вот стоит кровать, она убрана белыми лилиями, вокруг кровати плещется вода. Глаша падает: она обнажена, тело горит и плавает, словно на волнах. Подходит он, ложится рядом, сильные руки обнимают, губы ищут ее губы, долгий поцелуй, он прижимает ее сильнее, ей хорошо и тепло. Пальцы проводят по мужественному подбородку, погружаются в темные кудри. Но, что это? Под руками уже не волосы любимого, а мягкий комок… Он растет и ширится, и вот перед ней на кровати сидит огромный серый кот: глаза полыхают желтым огнем: то не глаза – а две луны, плывущие по темному бездонному небу. «Котик, откуда, ты, здесь взялся? Иди ко мне. Кис-кис!» – силится сказать Глаша, но губы не слушаются, язык распух, из горла рвется хрип. Наглый котяра, запрыгнув на грудь, оскалил белые зубы: душно и тяжело дышать. Глаша схватила кота и сбросила на пол, кот выпустил острый, как бритва коготь, и полоснул им по рукам и груди: тонкими струйками побежала кровь, крупные пухлые капли застучали по деревянному полу. Глаша проснулась: рубашка была мокрой от пота. «Прочь ночь, прочь сон…» – прошептала она в темноте, – «Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое…» Не дочитав молитвы, она снова погрузилась в глубокий сон, теперь без сновидений.
Владимир Махнев настолько взбудоражил и спутал мысли неискушенной Глафире Сергеевне, что она грезила о нем во сне и наяву. Он, вглядываясь в ее томные глаза, отчетливо понял: ему удалось осуществить первый этап своего плана – девушка была безумно влюблена.
Решив, что достаточно уже быть просто порядочным джентльменом и пылким воздыхателем, Вольдемар пошел на решительные действия. Улучив прекрасный момент, когда мать уехала погостить к подруге в соседнее поместье, поздно вечером Владимир, искупавшись в купальне, опрыскал себя французским, специально привезенным из Парижа одеколоном, и, надев шелковый турецкий шлафрок поверх тонкой ночной сорочки, взял свечу и спустился в коридор, который вел к комнате Глаши.
Глава 3
Было около часу ночи, когда уши Глафиры Сергеевны уловили едва слышный стук в дверь: словно кошачья лапка поскреблась по дереву. Через минуту стук усилился. Она оторвала голову от подушки, рука нашарила в темноте свечу, ровный спокойный огонек осветил маленькую комнатку. Накинув халат, Глаша тихонько подошла к двери.
– Кто там? – испуганно прошелестел голос.
– Это я, Глашенька. Сделайте милость, откройте, пожалуйста? – прошептал он в замочную скважину.
– Что случилось, Вольдемар? Уже слишком поздно.
– Не гневайтесь, друг мой. У меня к вам важный разговор.
– Побойтесь бога, Владимир, неужто этот разговор не подождет до утра?
– Нет, радость моя. Промедление может оборвать течение моей жизни.
– О, Господи!
Рука нашарила щеколду, послышался легкий скрип, дверь приоткрылась, пропустив темную высокую фигуру. Желтое пламя свечи снизу освещало лицо Владимира, искажая черты красивого лица: нос выглядел длинным и крючковатым, глаза смотрели как два бездонных колодца, уголки рта хищно спускались к подбородку. Но вот он поднял огонь повыше, мелькнули длинные тени и рассыпались по углам, все встало на свои места: мистически страшное лицо вдруг приобрело знакомые родные черты. Он стоял к ней так близко, что она отчетливо слышала стук его сердца, чувствовала теплое дыхание. Запах одеколона безумно понравился Глафире: он придавал особую торжественность и мужественность его владельцу. Никогда в жизни она не нюхала ничего подобного.
– Владимир, что случилось? Что вас привело ко мне в такое позднее время?
– Не сердитесь, цветик мой. И не прогоняйте меня. Я просто сильно соскучился, – вальяжно ответил он. Рука потянулась к Глафире.
– Я не понимаю вас, сударь. К чему все эти уловки? Вы пользуетесь моим к вам пристрастным расположением. Не губите мою репутацию. Покиньте, пожалуйста, комнату, – отпрянув, возмущенно проговорила она.
– Ну вот, я еще ничего-с не сказал вам, а вы гоните меня, – обиженно протянул он. В голосе послышалась плохо скрываемая ирония. Он решительно прошел вглубь комнаты и сел на стул.
– Я не смею вас гнать, тем более что это ваш собственный дом, а я лишь из милости у вас проживаю. Но все же, я девушка порядочная и потому, прошу вас покинуть меня в столь компрометирующий час. Тем паче, вы, милостивый государь, не считаете нужным объяснить свой поступок.
– Да полно, вам, Глафира Сергеевна. Вот я из Володи сразу же в «милостивого государя» превратился. Стыдно вам, должно быть. Я со всей душой, а вы… Да и не шумите так громко. В доме все спят, матушка уехали-с. Чего же вам бояться? Да и я – не серый волк: чай, не съем такую красавицу. Начнете громко говорить – сами себе компрометацию и устроите.
Глаша совладала с испугом и присела на другой стул, в тишине послышалось пение сверчка.
– Ну?.. Успокоились? Вам в детстве сказок, что ли про злодеев много читали? Или классные дамы внушили опасность любого мужчины? Глашенька, разве похож я на злодея?
– Вы знаете, Володя, как я к вам отношусь, – она смущенно опустила голову.
– А разве вы, не видите, что я тоже вас полюбил? Полюбил с самого первого взгляда, – в голосе прозвучала неподдельная страсть. Он пересел на кровать, рука потянулась к ее руке.
– Иди, ко мне, – прошептал он.
– Володя, не губите меня, – проговорила она, – если любите, проявите снисхождение.
Рука Махнева, как хищный зверек, цапнула добычу и потянула к себе: девушка быстро оказалась на кровати подле своего кузена. Мягкая перина утопила обоих в удобной колыбели: Глаша старалась отодвинуться от своего искусителя, но все время соскальзывала ближе и ближе. Наконец, она почувствовала, что лежит рядом: его широкий торс в шелковом шлафроке чуть нависал над ней. Сердце стучало где-то у горла. Прекрасный аромат Фарины[12] сводил с ума. Одурманенная и вмиг поглупевшая от новых ощущений, она спросила без обиняков.
– Володя, вы, обещаете, что… женитесь на мне?
– Угу…
– А вдруг ваша матушка будет против? Она ведь не любит меня – я чувствую.
– Перестань, любовь, моя. Это все пустяки. Я сам себе хозяин. Не позволит – я украду тебя, и мы уедем далеко-далеко….
После этих слов он принялся сначала дурашливо рычать и кусаться. Затем, плохо владея игрой, перешел на страстные, долгие поцелуи. Эти смертельные поцелуи доводили Глашу до обморочного состояния: она, не владея собой, вся поддалась навстречу страстному натиску. «Что я делаю? Он ведь погубит меня», – пронеслось в голове.
Казалось, она падает в глубокий колодец, у которого нет конца. Понимала, что ничего нельзя изменить: ее судьба решена. Если это злой рок – она умрет, но в эту минуту не было силы, которая могла бы оторвать ее от любимого… Глаза Создателя мрачно и скорбно взирали с потемневшей от времени иконы: они будто оплакивали заблудшую Глафирину душу. Создатель знал наперед: сколько страданий принесет этот красивый демон юной и неопытной Глафире.
Тем временем, Владимир не спеша раздел девушку. Она слабо сопротивлялась, но он был настойчив. Его взору предстала потрясающая картина: стройное, в меру полное тело было настолько аппетитным, что захватывало дух. Ровные, чуть загорелые плечи матово поблескивали в неровном пламени свечи. Ниже – белыми полусферами круглились большие упругие груди. Они были настолько совершенны, что казалось: написаны искусным художником на полотне, изображающем саму Афродиту. Розовые твердые соски венчали сие пышное великолепие. Ниже шла узкая гибкая талия и чашеобразный девичий живот. Широкие бедра наводили на мысль, что в будущем эта женщина свободно родит несколько здоровых детей. Стройные полные ножки казались удивительно длинными, глаза слепли от их потрясающей ровности и белизны. Тонкие щиколотки переходили в узкие и легкие ступни с нежными розовыми ногтями и кругленькими пятками. О, как высоко оценивал Вольдемар такие женские ноги! Великий знаток красивых лошадей и женщин, он знал: тонкая щиколотка присуща лишь породистым экземплярам.
В устье шикарных ножек прятался девственный пухлый лобок, темные мягкие волоски покрывали его, словно молодая травка свежий лужок. Длинные пряди русых волос живописно разметались по подушке, алые раскрытые губы темным пятном выделялись на белом лице. Владимир хотел было тут же овладеть вожделенной красавицей, но сдерживая с огромным трудом свой пыл, решил немного повременить: он знал по опыту, что с такой ранимой женщиной надо быть чуть терпеливее и нежнее. Чтобы не испугать ее огромными размерами детородного органа – не стал до конца раздеваться. Халат прикрывал вздыбленную плоть, натянутую сверх всякой меры от адского вожделения.
Он решительно погрузил руку в пухлый лобок, пальцы почувствовали хорошо знакомую, скользкую влагу. Пожалуй, ее было слишком много: это многообещающе давало надежду на то, что несравненная кузина должна обладать сильным темпераментом. От дерзкого проникновения ножки сжались – хозяйка не хотела впускать столь решительного и наглого гостя.