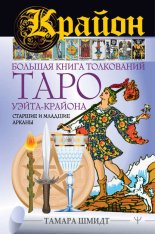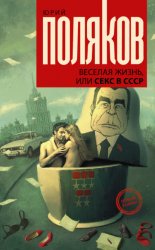Московская сага Аксенов Василий
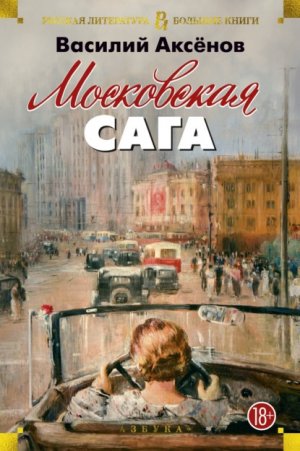
Рядом с хозяином в классической позе молодого послушного пса сидел Пифагор. Его высокие уши тоже улавливали поток непротивных звуков. Иногда неслышно, в шерстяных носках проходила по комнатам Агаша, раскладывала по полкам чистое белье, поглядывала на хозяина, вытирала платочком уголки глаз.
Борис Никитич в щелку между пальцами созерцал вдохновенный профиль жены. «Странно, – думал он, – ее княжеский профиль меня никогда эротически не тревожил. Но вот когда она поворачивалась ко мне лицом, с этими высокими крестьянскими скулами и пухлыми губами… Почему я думаю об этом в прошедшем времени, мы еще молоды, в конце концов, наше либидо еще…»
Молочница Петровна с тяжелыми бидонами, корзиной и ведром шумно размахалась дверьми и увидела утреннюю идиллию. «Ишь ты, – с умилением подумала она, – жив буржуй».
– Господь с тобой, тише, Петровна! – бросилась к ней Агаша. – Пошли, пошли на кухню!
На кухне, выгружая сметану и творог, Петровна поинтересовалась:
– Чего-сь тут у вас такое?
– Профессор музыкой лечится, – значительно пояснила Агаша.
– Простыл, что ли?
– Ах, Петровна, Петровна, – покачала головой утонченная Агаша.
– А мой-то от всего стаканом лечится, – вздохнула Петровна. – Не поможет стакан, второй берет. Тогда порядок.
– Ну, иди-иди, Петровна.
Сунув деньги, Агаша спровадила пышущую здоровьем и чистотой бабу за дверь, а сама остановилась у притолоки – внимать.
Мэри закончила концерт блестящим глиссандо и встала.
– Как ты себя чувствуешь, Бо?
Борис Никитич тоже поднялся из кресла.
– Спасибо, Мэри! Ты же знаешь, мне этот прелюд всегда помогает. – Он подошел к жене и обнял ее за плечи, деликатнейшим образом стараясь повернуть ее к себе лицом. Мэри Вахтанговна уклонилась и показала в окно:
– Смотри, Пулково уже приехал!
От калитки к дому под пролетающими желтыми листьями не торопясь шел Леонид Валентинович Пулково в своем английском «шерлок-холмсовском» пальто.
– При всем своем разгильдяйстве Ленька всегда точен, – улыбнулся профессор.
– Ну, отправляйтесь все гулять, – распорядилась Мэри Вахтанговна. – Пифагор, ты тоже идешь с папочкой.
Пес радостно закружился вокруг, временами, будто заяц, поджимая задние ноги.
Агаша уже стояла в дверях с пальто и шляпой для профессора.
– Позвольте напомнить, Боренька и Мэричка, Никитушка и Вероникочка к ужину прибывают прямо с вокзала, – сказала она.
– Да-да, Бо, ты не забыл? Через два часа у нас полный сбор, – строго, пытаясь сдержать какое-то экстатическое чувство цельности, произнесла Мэри Вахтанговна.
Пес не мог сдержать, очевидно, очень похожего чувства, подпрыгнул и лизнул хозяйку в подбородок.
– Да-да, Пифа, ты не забыл! – восхитилась она. – Я вижу, вижу! Напомни в крайнем случае своему папочке, если он вместо оздоровительной прогулки отправится со своим другом на ипподром.
Весь прошлый год Борис Никитич, невзирая на сильнейшие приступы уныния, работал как оглашенный. За операционным столом он уже, по сути дела, не знал себе равных – то, что называется мастерством, давно ушло, уступив место высочайшему классу, виртуозности. Он и в самом деле ощущал себя с ланцетом и кохером в руках чем-то вроде дирижера и скрипача-солиста одновременно. В минуты вдохновения – да-да, он испытывал иной раз истинное хирургическое вдохновение! – ему казалось, что вся сфера жизни, находящаяся в этот момент под его господством – ассистенты, сестры, инструменты, распростертый пациент, – в эти минуты вся жизнь улавливает не только его слова, хмыканья, покашливанья, малейшие жесты, но и мысли, никак не выраженные, чтобы немедленно им подчиниться, и не ради подчинения, а ради общего согласного звучания, то есть гармонии.
Лекции его всегда собирали «битковую» аудиторию. Врачи из столичных клиник и из провинции ссорились со студентами из-за мест. Говорили, что даже университетские филологи приезжают, якобы для того, чтобы удостовериться на его примере в жизнеспособности и идейной цельности сохранившейся части российской интеллигенции.
Еще большие успехи были достигнуты в теории и создании школы. Статьи, направленные на развитие его оригинальной концепции хирургического вмешательства, вызывали немедленные живые дискуссии на заседаниях Общества и в печати, как отечественной, так и, да-с, зарубежной. Молодые врачи, идущие по его стопам, и среди них прежде всего талантливейший Савва Китайгородский, гордо называли себя «градовцами». Словом… да что там… как бы там ни было… ах, черт возьми…
Кто из этих «градовцев», кроме, может быть, Саввы, когда-либо догадывался, что их кумир время от времени со стоном и скрежетом зубовным валится на диван, набок, скатывается по кожаной наклонности на ковер, стоит там на коленях, дико исподлобья оглядывает углы, умоляюще вскидывает бородку к потолку, будто ищет икону, коих по наследственному позитивизму уж, почитай, столетие Градовы в доме не держат. Еще и еще раз спрашивает он себя: что же тогда произошло в Солдатёнковской больнице? «Ничего не произошло, я просто был отстранен, со мной не посчитались, – говорит он себе сначала в дерзкой гордыне, – как угодно, мол, считайте, Ваша Честь Верховный Судия, но я себя ни лжецом, ни трусом не признаю».
Повыв, однако, немного и подергавшись, если Мэри вовремя не войдет и не ринется к роялю, он начинает понемногу сдавать позиции. Ну, спраздновал труса, да; ну, испугался Чека, но кто ж этих извергов не боится, ну… Ну вот и все, Милосердный! И только уж на третьей фазе, опять же если Мэри умудрится прохлопать развитие кризиса, Борис Никитич позволял себе кое-какое рукоприкладство к своему гардеробу – то рубашку рванет на груди, как кронштадтский матрос, то располосует жилет – и громко выкликает: «Соучастник! Соучастник!»
Да, в эти минуты он себя полагал прямым соучастником убийства главкома Фрунзе, и тут уж Мэри непременно появлялась с настойкой брома, со своей теплой грудью и со спасительным Шопеном.
И не потому, конечно, так казнился Борис Никитич, что убит был нарком, герой, могучий человек государства – ничем он был не лучше их всех, такой же изверг, расстреливал пленных, – а потому, что это был пациент, святое для врачебной совести тело.
К счастью, приступы такой несправедливости, вот именно несправедливости по отношению к самому себе становились все реже. В спокойные же дни если и вспоминал профессор Градов про ту октябрьскую ночь прошлого года, то думал только о том, что же фактически сделали Рагозин и другие, чтобы отправить командарма в нереальные реальности. Даже и сейчас, невзирая на почти неприкрытый цинизм этих людей, коему он был свидетель, он не мог допустить, что кто-нибудь из коллег оказался способен попросту, скажем, пересечь артерию. Ведь не буденновцы все-таки, врачи же все-таки, врачи!
Зазвенел отдаленный трамвай. Счастливые дети проскальзывали на велосипедах. Менее счастливые, но все-таки счастливые донельзя разгоняли самодельные самокаты. С шумом взлетает грай грачей, мгновенно порождая вихрь листопада.
Два друга с гимназических лет, профессор Борис Никитич Градов и Леонид Валентинович Пулково, прогуливаются в классическом стиле московской интеллигенции – шляпы чуть сдвинуты назад, пальто расстегнуты, руки за спиной, лица освещены мыслью и обоюдной симпатией. Они то идут вдоль долгих заборов, то удаляются в рощи, то выходят к трамвайной линии и тогда подзывают Пифагора – тот тут же подскакивает с раскрытой лукавой пастью – и берут его на поводок.
– Да, Бо, – чуть приостановился Пулково, – третьего дня натолкнулся в «Вечерке» на сообщение о тебе. Что же ты не хвастаешься? Назначен главным хирургом РККА! Ну, не гигант ли?
Градов слегка поморщился, однако принял предложенный гимназический тон.
– Да-с, милостисдарь, мы теперь в генеральских чинах, не вам чета. Мое превосходительство! Ты, жалкий физик, не можешь велосипеда себе купить, а у меня «персоналка» с шофером-красноармейцем! Слопал? На здоровье!
Пулково залебезил вокруг с услужливой шляпой подхалима:
– Мы, ваше превосходительство, это дело даже очень понимаем и уважаем, с нашим полным уважением…
Градов вдруг остановился и сердито ткнул тростью в ствол ближайшей сосны:
– Я знаю, что ты имеешь в виду, Лё! Эти мои внезапные выдвижения последнего года! Вчера еще без всяких чинов, а нынче уже и завкафедрой, и главный консультант наркомздрава, вот теперь и РККА… – Он все больше волновался и обращался уже вроде бы не к своему закадычному Лё, а как бы бросал вызов некоей большой аудитории. – Ты, надеюсь, понимаешь, что мне плевать на все эти чины?! Я всего лишь врач, только лишь русский врач, как мой отец, и дед, и прадед! Ничего дурного я не сделал, решительно ничего героического, но я всего лишь врач, а не… не…
Пулково ухватил друга под руку, повлек дальше по пустынной аллее. Слева уже кружил, подпрыгивая и заглядывая в лицо, Пифагор.
– Ну что ты так разволновался, Бо? От тебя не геройства ждут, а добра, помощи…
Градов с благодарностью посмотрел на Пулково: этот всегда найдет нужное слово.
– Вот именно, – сказал он уже мягче. – Вот только оттого я и принимаю эти посты, ради больных. Ради медицины, Лё, ты понимаешь, и, в частности, ради продвижения моей системы местной анестезии при полостных операциях. Ты понимаешь, как это важно?
– Объясни, пожалуйста, – серьезно, как ученый ученому, сказал Пулково.
Градов мгновенно увлекся, в лучших традициях ухватил друга за пуговицу, потащил.
– Понимаешь, общий наркоз, во всяком случае, в том виде, как он сейчас у нас применяется, весьма опасная штука. Малейшая передозировка, и последствия могут быть… – Он вдруг осекся, будто пораженный догадкой… – малейшая передозировка, и… – Он оперся плечом о ствол сосны и тяжело задышал.
«Как это я раньше не догадался, – думал он. – Эфир в смеси с хлороформом. Вогнали в своего командарма лишнюю бутыль проклятущей смеси, и дело было сделано. Да-да, припоминаю, тогда еще мелькнуло, что пахнет эфиром сильнее, чем обычно, но…»
Теперь уже опять Пулково тянул его:
– Ну, пойдем, пойдем, Бо! Давай-ка просто подышим, помаршируем, разомнем старые кости!
Не менее четверти часа они быстро шли по просеке и не разговаривали. Потом свернули в редкий березняк и разошлись среди высоких белых стволов. Пифагор сновал между ними, как бы поддерживая коммуникацию. Вскоре, впрочем, и другая коммуникация возникла, звуковая. Ее завел Леонид Валентинович, явно напоминая Борису Никитичу те времена, когда они, гимназисты, вот так же бродили по лесу, время от времени затевая оперные дуэты.
– Дай руку мне, красотка, – гулким басом запрашивал Пулково.
– Нет, вам не даст красотка, – тенорком ответствовал Градов, ну, сущий Собинов.
Лес вскоре кончился. Оказавшись на обрыве над Москвой-рекой, они пошли по его краю в сторону дома. Пулково, как с чувством выполненного долга – находился, мол, надышался, – теперь раскуривал трубочку.
– Ну а что у тебя, Лё? – спросил Градов.
– Со мной происходят странные вещи, – усмехнулся Пулково. – С некоторого времени стал замечать за собой хвост.
– Хвост женщин, как всегда? – тепло улыбнулся Градов. Вечный холостяк, физик пользовался в их кругу устойчивой репутацией сердцееда, хотя никто не мог бы вспомнить никаких особенных фактов сердцеедства с его стороны.
– Если бы женщины, – усмехнулся снова Пулково. – Пока что за мной ходят мужчины с явным отпечатком Лубянки на лицах. Впрочем, может быть, у них есть и женщины для этой цели.
– Они! Опять они! – воскликнул Градов. – Какого черта им надо от тебя, Лё?
Физик пожал плечами:
– Просто понятия не имею. Неужто моя поездка в Англию, переписка с Резерфордом? Право, смешно. Кого в ГПУ интересуют теоремы атомного ядра?
Борис Никитич посмотрел сбоку на своего всегда такого уверенного в себе и ироничного друга и вдруг подумал, что у того, возможно, нет никого ближе, чем он, на свете.
– Слушай, Лё, хочешь, я поговорю с кем-нибудь там у них, наверху, попытаюсь узнать?
– Нет-нет, Бо, не нужно… Я, собственно, просто так тебе сказал. Ну, на всякий пожарный…
– Слушай, Лё, почему бы тебе к нам не переехать? Скажем, на полгода? Пусть они увидят, что ты не один, что у тебя большая семья.
Леонид Валентинович растроганно положил руку на плечо друга:
– Спасибо, Бо, но это уже лишнее. Сейчас все-таки не военный коммунизм.
Вечером на даче состоялся один из тех ужинов, что становились как бы вехами в жизни маленького клана, – полный сбор. Чаще всего он объявлялся в связи с приездом из Минска комбрига Никиты и Вероники; однако возможность всем увидеться была только внешним поводом. Каждый понимал, что главная ценность полного сбора состоит в проверке прочности основ, в оживлении того чувства цельности, от которого у мамы Мэри иногда просто перехватывало дыхание.
Итак, все уже, или почти все, собрались вокруг стола, нет только Нинки; егоза, разумеется, опаздывает.
– Где же эта чертова Нинка? – надувает губы капризная Вероника.
Красавица за истекший год весьма раздулась, еле помещается в широченном, специально сшитом полесском платье. Губы и нос у нее припухли, каждую минуту она готова заплакать.
«Я старше Нинки на каких-нибудь несколько лет, – думает она, – а вот сижу тут брюхатая, как деревенская дура, а Нинка небось где-нибудь слушает Пастернака или у Мейерхольда крутится… И все Никита, это все он, эгоист противный…»
Борис Никитич, сияя, потянулся к невестке, кольнул бороденкой в щеку, поднял бокал, обращаясь к ее огромному животу:
– Уважаемый сэр Борис Четвертый! Надеюсь, вы меня слышите и готовы подтвердить, что в отличие от нынешнего поколения революционеров вы собираетесь восстановить и продолжить градовскую династию врачей!
Вероника скривила рот – шутка тестя показалась ей тошнотворней всей расставленной на столе великолепной кулинарии. Никита встревоженно к ней повернулся, но она все же преодолела отвращение и вдруг неожиданно для себя ответила тестю вполне сносной, в позитивном ключе, шуткой же:
– Он спрашивает, в какой медицинский институт поступать, в Московский или Ленинградский?
Все вокруг замечательно захохотали.
– Что за вопрос?! – грозно взревел Борис III, то есть профессор Градов. – В мой институт, конечно, к деду под крыло!
Все стали шумно чокаться и закусывать, а Вероника, опять же к полному собственному изумлению, вдруг взалкала маринованных помидоров и придвинула к себе целое блюдо.
Тут захлопали входные двери, протопали быстрые шаги, и в столовую вбежала Нина; темно-каштановые волосы растрепаны, ярко-синие глаза пылают в застойном юношеском вдохновении, воротник пальто поднят, под мышкой портфель, на плече рюкзак с книгами.
– Привет, семейство!
Взвизгнув, бросилась к Веронике, поцелуй в губки и животик, плюхнулась на коленки к брату-командиру, с трагической серьезностью пожала руку брату-партработнику – «Наше вам, товарищи твердокаменные!» – будто английская леди, протянула руку для поцелуя Леониду Валентиновичу Пулково и, наконец, всех остальных одарила поцелуями. Самый нежный поцелуй достался, конечно, Пифочке, Пифагору.
– Хотя бы по случаю приезда брата могла прийти вовремя, – проворчала Мэри Вахтанговна.
Нина, еще не отдышавшись то ли от бега, то ли от буффонады, а может быть, от «исторического возбуждения», вытащила из рюкзака свежий номер «Нового мира», швырнула его на стол – пироги подпрыгнули.
– Ну-с, каково?! В городе дикий скандал! Сталинисты рычат от ярости. Вообразите, ребята, весь тираж «Нового мира» с «Непогашенной луной» конфискован! Совсем с ума посходили! У них почва уходит из-под ног, вот в чем дело!
Все собравшиеся улыбались, глядя на возбужденную девчонку. Даже мама Мэри хмурилась только притворно, с трудом скрывая обожание. Всерьез хмурился лишь Кирилл. Он сурово постукивал пальцами по столу и смотрел на сестру суженными глазами, едва ли не в стиле следователей ГПУ.
Нина же с изумлением вдруг поняла, что присутствующие, что называется, «не в курсе». То, что буквально ярило факультет, да и вообще всю «молодую Москву», здесь, в Серебряном Бору, было лишь каким-то отдаленным звуком вроде погромыхивания трамвая.
– Позвольте узнать, мисс, что это за «Луна», что наделала такого шуму? – поинтересовался Пулково.
– Повесть Пильняка, неужели не слышали?
– А о чем эта повесть, малыш? – спросил отец.
– Ну вы даете, народы! – захохотала Нина. – Помните, прошлой осенью? Смерть командарма Фрунзе в Солдатёнковской больнице? Ну вот, я еще не читала, но повесть именно об этом, Пильняк намекает на подозрительные обстоятельства…
Она осеклась, заметив вдруг, что все лица за столом окаменели.
– Что такое с вами, народы?
За столом воцарилось неуклюжее молчание. Нина переводила взгляд с одного на другого. Отец сидел неподвижно, глаза его были закрыты. Мать тревожно смотрела на него, дрожащим голосом бормотала что-то растерянное, можно было уловить: «…какие, право, неуместные… странные… такой вздор… глупые сплетни…» Пулково застыл с не донесенной до рта рюмочкой водки. Тихо поскуливал Пифагор. Агаша с поджатыми губами терла полотенцем совершенно чистое блюдо. Кирилл углубился в тарелку с винегретом. У Никиты на лице было написано почти открытое страдание. В глазах беременной красавицы быстро скапливалась влага.
Напряжение было прервано звонком в дверь. Агаша просеменила открывать и вернулась с дюжим и румяным военным. Тот стукнул каблуками, прямо по-старорежимному, отдал честь, заорал:
– Младший командир Слабопетуховский! По вашему приказанию, товарищ профессор, машина из Первого военного госпиталя!
Борис Никитич посмотрел на часы, слабо вздохнул:
– Ой, уже половина восьмого, – встал, поцеловал Мэри Вахтанговну. – Я вернусь сразу после операции.
Младший командир Слабопетуховский направился к выходу, на ходу подкрутив карикатурный ус, что-то шепнул тут же зардевшейся старой девушке Агафье. Профессор вышел за ним.
Мэри Вахтанговна, гордо подняв подрагивающий подбородок, демонстративно не смотрела в сторону дочери.
– Какая жестокость, – проговорила она. – Какая самовлюбленность! Так ничего не замечать! Отец жертвует всем ради своих больных, ради своего подвижничества! Не знает ни дня, ни ночи…
– Да что, в конце концов, происходит?! – воскликнула Нина. – Что за МХАТ тут разыгрывается?
Никита положил сестре на плечо свою весомую руку с шевроном:
– Спокойно, Нинка. – Он повернулся к матери и мягко спросил: – Мама, может быть, мы должны объяснить Нинке?..
Мэри Вахтанговна резко встала из-за стола:
– Не вижу никакой необходимости! Нет ничего, что нуждается в объяснении! – Драматически сжав руки на груди, она быстро вышла из столовой.
Никита, шепнув сестре: «Поговорим завтра», пошел вслед за матерью. Весело начавшийся ужин дымился в развалинах.
Кирилл как бы с некоторой брезгливостью кончиками пальцев оттолкнул от себя номер «Нового мира» и исподлобья уставился на Нину:
– Если этот клеветнический номер был запрещен, где ты его достала, позволь спросить?
Нина схватила журнал, выпалила прямо брату в лицо:
– Не твое дело, сталинский подголосок!
Кирилл совсем уже в партийном стиле шарахнул кулаком по столу:
– Ты считаешь себя идейной троцкисткой?! Дура! Пиши лучше свои стишки и не лезь в оппозицию!
Отшвырнув стулья, оба молодых отпрыска Градовых вылетели из столовой в разные стороны.
Агаша, вскрикнув уже даже и не в стиле МХАТа, а прямо в своей природной замосквореченской, то есть Малого театра, манере, скрылась на кухне.
В полной растерянности разъехался четырьмя лапами по паркету Пифагор.
За недавно еще густо населенным столом остались только Пулково и Вероника. Она приложила платок к глазам, стараясь не расплакаться, но потом высморкалась в этот платок и неожиданно рассмеялась.
– Наш Кирка совсем уже очумел по партийной линии, – сказала она.
Пулково налил себе рюмочку и подцепил треугольничек соленого груздя.
– М-да-с, и всюду страсти роковые, – произнес он как раз то, что и должен был произнести холостяк-джентльмен, глядя на ссору в большом семействе.
Вероника улыбнулась ему, показывая, что помнит, как год назад в этом доме они едва ли не флиртовали.
– Вот видите, Леонид Валентинович, еще год назад здесь, помните, Мэричкин день рождения, я крутилась, кокетничала, а сейчас… – Она показала ладонями, будто крылышками, на живот. – Вот видите, как изуродовалась.
– Ваша красота, Вероника Александровна, немедленно восстановится после родов, – сказал он.
– Вы думаете? – совсем по-детски спросила она и тут же накуксилась. – Ох, какая дура!
Пулково глянул на часы, встал прощаться, взял руку Вероники в обе ладони:
– Между прочим, я сейчас часто играю на бильярде с одним интересным военным, комполка Вадимом Георгиевичем Вуйновичем. Он нередко вспоминает вас с Никитой… вас особенно…
– Не говорите ему, что мы приехали! – воскликнула она.
В следующий момент оба вздрогнули: из кабинета начали разноситься бурные драматические пассажи рояля. Пифагор бросился к дверям, ударил в них передними лапами. Выскочила Агаша, схватила его за ошейник:
– Тише, Пифочка, тише! Теперь наша мамочка сами лечатся!
Мэри Вахтанговна музицировала весь остаток вечера. Нине в ее комнате наверху иногда казалось, что рояль обращается прямо к ней, то требует, то просит сойти вниз и объясниться. Она злилась на эти воображаемые призывы: сами что-то скрывают от нее, а потом устраивают сцены. Обвиняют в равнодушии, а самим наплевать на жизнь дочери! Разве хоть раз мать или отец, не говоря уже о братьях, спросили, что происходит в «Синей блузе», в «Лито», в отношениях с друзьями, с Семеном… Все разговаривают с ней только каким-то раз навсегда усвоенным дурашливым тоном, как будто она не взрослеет, не мучается проблемами революции. Да и что для них революция? Они просто счастливы, что она отходит на задний план в жизни страны, что прежняя их комфортная обыденщина так быстро восстанавливается. Чем, по сути дела, мои родители отличаются от нэпачей, от какого-нибудь Нариман-хана из «Московского Восточного общества взаимного кредита», о котором недавно писал Михаил Кольцов? Тот ликует в своем банке под защитой швейцаров в зеленой униформе, здесь – дворянские фортепианные страдания, вечерние туалеты для выездов в оперу… «Нормальная жизнь» возвращается, какое счастье!
Не раздеваясь, она валялась на своей кровати, пытаясь читать «Непогашенную луну», но не читалось никак, строки ускользали, набегали одна за другой досадные мысли: «Как-то не так я живу, что-то не то я делаю, почему я позволяю Семену так себя вести со мной, почему я стесняюсь своей романтики, своих стихов, почему я не откровенна сама с собой и не могу сказать себе, что на ячейке мне скучно, почему…»
Она заснула с открытой книжкой «Нового мира» на животе и очнулась только от шума подъезжающего автомобиля. Хлопнула калитка. Нина выглянула в окно и увидела своего любимого отца. Веселый, в распахнутом пальто, он шел в свете луны по тропинке к дому. Значит, операция прошла удачно. Стукнула дверь, застучали каблучки. Любимая мать побежала навстречу мужу. Слышны их веселые голоса.
Нина погасила лампу, но продолжала сидеть, прижавшись лбом к стеклу. Луна парила в чистом небе над серебряноборскими соснами. По тропинке к дому теперь шествовал, поводя гвардейскими плечами, младший командир Слабопетуховский. Послышался его паровозный голос: «А я гляжу, печка-то у вас на кухне малость дымит, Агафья Власьевна». – «Ой, не говорите, товарищ Слабопетуховский! – отвечал пронзительный от счастья голос Агаши. – Не печь, а чистый бегемот! Сажень дров на неделю!»
Нина вытащила тоненькую книжечку Пастернака, открыла наугад и прочла:
- Представьте дом, где, пятен лишена
- И только шагом схожая с гепардом,
- В одной из крайних комнат тишина,
- Облапив шар, ложится под бильярдом.
Тишина в конце концов действительно улеглась. Сквозь дремоту Нине почудилось, что по соседству, в спальне родителей, кто-то занимается любовью. «Но этого же не может быть», – улыбнулась она и заснула.
Глава IV
Генеральная линия
Северное бабье лето наутро обернулось сильным холодным дождем, лишенным какого-либо поэтического контекста. Кирилл Градов в кургузом пальтишке и рабочей кепочке, спасая книги за пазухой, быстро шел по улице поселка к трамвайному кольцу. На полпути его догнала легковая машина. Рядом с водителем сидел старший брат, Никита, в полной форме комдива. Машина притормозила, Никита открыл дверь и пригласил Кирилла:
– Слушай, я еду в наркомат. Садись, подвезу!
Не замедляя шага, Кирилл махнул рукой:
– Нет, спасибо! Я на трамвае!
Никита сделал знак шоферу, и автомобиль медленно поехал вровень с идущим. Красный командир с улыбкой смотрел на нахохленного партработника:
– Перестань дурить, Кирка! Ты же промокнешь!
– Ничего, ничего, – пробормотал Кирилл и вдруг осерчал: – Езжайте, езжайте, ваше превосходительство! Мы к генеральским авто не приучены!
Никита тогда тоже немного разозлился:
– Ух ты, какие гордые нынче у нас марксисты! Да ведь ты и сам сейчас в ранге градоначальника, шутка ли, второй секретарь Краснопресненского райкома!
Не ответив, Кирилл резко свернул за угол. Шофер посмотрел на комдива: прямо или направо? Никита показал – езжайте за ним! Автомобиль повернул за Кириллом, невзначай пересек большую лужу, обдав идущего мутной водой. Никита не поленился наполовину вылезти и встать правой ногой на подножку.
– Послушай, Кирка, я давно тебе хотел сказать. Зачем ты культивируешь этот псевдопролетарский стиль? Ну где ты откопал этот пальтуган? Дома висят без дела по крайней мере три хороших драповых пальто, а ты ходишь в рогоже! Штаны у тебя на заду так вытерлись, что можно как в зеркало смотреться! Кому и что ты хочешь доказать?
– Ровным счетом ничего и решительно никому! – рявкнул в ответ младший брат. – Оставьте вы все меня в покое! Я получаю партмаксимум сто двадцать три рубля в месяц и должен одеваться и питаться в соответствии с этим. В партии еще сохранился здравый смысл! Мы не пойдем за теми, кто внедряет в РККА дух старорежимного офицерья.
Задетый за живое, Никита вызывающе захохотал. Он даже забыл о присутствии шофера с треугольничками в петлицах.
– Ха-ха, ты думаешь, твои любимые вожди такие же аскеты, как ты?
Кирилл ткнул в его сторону гневным указательным:
– Повторяешь мелкобуржуазные сплетни, комдив!
В этот момент в конце улицы появился трамвай, неся на борту рекламу известного лефовца Александра Родченко: «Не грустили, вкусно ели Макароны-Вермишели!» Не глядя больше на брата, Кирилл опрометью припустил к кольцу. Никита сердито захлопнул дверцу машины. Проезжая мимо остановки, он смотрел, как граждане бросаются в вагон, стремясь захватить сидячие места. Признаться, он уже забыл, как это делается.
В сухую погоду в трамвае, несмотря на давку, все шелестят газетами, умудряются их разворачивать над головами или между ног. Нынче намокшие газеты не шелестели и не спешили разворачиваться, однако граждане все равно хорошо читали. Прогрессивные иностранцы постоянно отмечают, что в СССР самая читающая публика. Кирилл недавно дискутировал вопрос о печати с помощником отца Саввой Китайгородским. Собственно говоря, он даже не дискутировал – что можно дискутировать с типичным буржуазным либералом? – а проверял на Савве правильность партийных установок.
Естественно, мусье Китайгородский недоволен. Чего стоят все послабления нэпа, если печать осталась в руках у правящей партии, если ни одна дореволюционная газета не восстановлена?
Вот чего они хотят: не только нэповских лавок, но разнузданной прессы. Значит, в этом направлении мы держим правильный курс. Никаких поблажек. Пресса – здесь Троцкий прав – острейшее оружие партии!
Кирилл стоял в углу трясущегося вагона, зажатый с трех сторон мокрыми, хмурыми пассажирами такого же, как и у него, пролетарского обличья. Газетные заголовки маячили у него перед глазами. Пресса партии богата событиями. И очень хорошо, что они даются в партийной интерпретации: человека не бросают в одиночку на съедение факту, наоборот, учат потреблять факты, оценивать их с классовых позиций.
Расстрел за растрату; избирательного права лишены кулаки, служители культа, бывшие царские чиновники; увеличивается экспорт леса; за покупку жилплощади – выселение; «Рычи, Китай!»; футбол: сборная сахарников и совторга бьет «Пролетарскую кузницу»; центральный аэродром им. т. Троцкого, новые аэропланы «Наркомвоенмор», «Л. Б. Красин», «Имени тов. Нетте», полет шара, аэронавт – слушатель академии воздухофлота тов. Федоров… Много, много фактов, жизнь в красной республике бурлит; вот еще – отповедь Пилсудскому; а вот вам и реклама – краски, хна-басма, «Тройной» одеколон, вежеталь… на потребу мещанству…
Отвернувшись к окну, Кирилл вытащил свое чтение – толстую книгу. Он делал вид, что не замечает, как две его постоянные попутчицы, девчушки лет двадцати, совсем не противные на вид секретарши-машинистки, поглядывают на него и хихикают.
– Все-таки он очень хорошенький, не находишь? – сказала одна.
– Очень уж серьезный, – сказала другая. – Что же он читает? – Она вполне бесцеремонно заглянула Кириллу под локоть. – Ну и ну, «Учебник хинди»!
Кирилл молчал, стискивал зубы, хиндусские слова мельтешили перед ним без всякого смысла, будто только добавляли вздору в общий вздор вокруг его столь цельной личности: споры с Нинкой и Никиткой, мокрая, гнусная одежда, идиотизм газет, волнение и трусость от близости двух этих девиц.
Трамвай подходил к Песчаным, там пересадка. Пассажиры готовились к еще одной атаке.
Причина, по которой комдива Градова в этот раз вызвали в Москву, была, с его точки зрения, несколько надуманной. Новый наркомвоенмор Климент Ефремович Ворошилов делал большой доклад о современной военной стратегии, что ж, прекрасно, в добрый час, но зачем же отрывать такое количество командиров на местах от неотложных практических дел, в частности от отработки взаимодействия кавалерии и танкеток в условиях наступательных действий на лесостепной равнине? Да и в личном смысле эта поездка была в высшей степени не ко времени – Вероника на последнем месяце беременности. Никита надеялся, что она на этот раз останется в Минске под присмотром привычных и вполне опытных врачей окружного госпиталя, которые к тому же знали все ее «бзики», но она и слышать ничего не хотела: «Упустить поездку в родную Москву, в бурлящую столицу, вырваться хоть на неделю из этого затхлого Минска; даже не думай об этом!»
Провинциальное прозябание, бессмысленная трата «лучших лет» были едва ли не главными темами их домашних разговоров. В лучшие дни он шутил с женой, называя ее «четвертой чеховской сестрой» с этим их вечным журавлиным кличем: «В Москву, в Москву!»; в худшие, когда она впадала в кромешный мрак, Никита иной раз попросту выскакивал из дома и отправлялся без всякого дела в штаб, где часто сидел в темном кабинете и отгонял свои собственные, кронштадтские мраки.
И вот теперь он сидит в большом конференц-зале наркомата, смотрит на лоснящуюся физиономию докладчика, а думает только о жене, о том, что, не дай Бог, это начнется у нее в каких-нибудь Петровских линиях или в Лубянском пассаже, куда она, конечно же, отправилась инспектировать модные лавки.
Ворошилов, похоже, просто наслаждался своей ролью главнокомандующего, военного философа и стратега. Плотненький, цветущий, с маленькими аккуратными усиками, он даже в своей идеальной, явно сшитой на заказ форме выглядел преуспевающим купчиком с Кузнецкого Моста. При внимательном наблюдении в его лице со смышлеными глазками можно было уловить промельки исключительной глупости. Время от времени, как бы напоминая о себе, кто он такой, Климент Ефремович на мгновение застывал, фиксировал монументальность.
После лекции в коридоре Никиту окликнули трое бравых командиров. Одного из них он сразу узнал – Охотников! Они обнялись. Охотников бросил взгляд на его петлицы:
– Ого, ты уже комдив, Никита!
– Вот уж не ожидал тебя увидеть, Яков, – сказал Никита. – Давно из Закавказья?
– Да я сейчас на курсах, в академии. Набираюсь премудрости, – смеялся Охотников. – Знакомься с моими однокашниками. Аркадий Геллер, Володя Петенко.
По манере рукопожатия Никита с удовольствием опознал кадровых крепких бойцов.
– Очень рад. Позвольте, Аркадий, а вам не кажется, что мы уже встречались?
– Конечно, – сказал Геллер. – На Польском фронте, в октябре двадцатого. Бронепоезд «Гроза Октября».
– Совершенно верно! – воскликнул Никита.
Из конференц-зала в этот момент вышел в сопровождении высших чинов Ворошилов. Под мышкой у него была папка с только что прочитанным докладом. Круглая физиономия поворачивалась, очевидно ожидая восторженных взглядов со стороны курящих в коридоре командиров. Охотников довольно небрежно махнул головой в сторону наркома:
– Ну как тебе доклад нового командующего?
Никита дипломатически пожал плечами.
– Ну не новый ли Карл Клаузевиц? – насмешливо процедил Геллер.
– Бо-о-льшой теоретик! – хохотнул Петенко.
Никита засмеялся:
– Я вижу, друзья, Москва и на вас действует своей крамолой.
Охотников взял его под руку, заглянул в лицо:
– А что же? Оппозиция, конечно, слишком горлопанит, но во многом она права. Армия лучше других знает хватку бюрократов.
Вспоминая потом этот короткий разговор, Никита пришел к выводу, что он открыл ему сразу несколько важных тем, которые бередили столицу. «Бюрократами» здесь называли сталинистов, то есть большинство существующего Политбюро. Слушатели Военной академии имени М. В. Фрунзе близки к высшим военным кругам. Высказывания Охотникова, Геллера и Петенко явно показывают, что в этих кругах зреет раздражение против навязывания РККА «бюрократического» стиля руководства. Если эти круги еще не стали союзниками оппозиции, то, во всяком случае, они симпатизируют ей, хотя бы уж по тому, что она выступает против тех, кто после двух блестящих личностей, Троцкого и Фрунзе, продвинул на высший военный пост страны бездарного Ворошилова. Ну а симпатии армии – это всегда достаточно серьезно.
По сути дела, разговор прервался в самом интересном месте, сожалел потом Никита. Он увидел проходящего мимо по коридору комполка Вуйновича. Он даже столкнулся с ним взглядом, но тот немедленно отвернулся, не проявляя ни малейшего желания останавливаться.
– Вадим! – крикнул Никита.
Вуйнович, не оборачиваясь, прошел по коридору и свернул за угол.
– Вадим, черт тебя дери!
Оставив «академиков», Никита побежал по коридору, тоже повернул за угол и остановился. Теперь они были одни в пустом крыле здания. По паркету четко стучали удаляющиеся шаги Вуйновича.
«Как это глупо, – думал Никита, – порвать с лучшим другом из-за какой-то двусмысленной ситуации, в которую попал отец друга. Даже если бы он был замешан в то темное дело, то я тут при чем? А он к тому же и не замешан вовсе, а просто, просто… Эх, как это глупо!»
– Вадим, это глупо! Давай поговорим!
Не оборачиваясь, Вуйнович открыл дверь на лестницу и исчез.
Секретарши, делопроизводители и охрана Московского городского комитета ВКП(б) без излишнего восторга, мягко говоря, взирали на вторжение рабочих партийных масс в кожанках и коротайках, кепках и красных косынках. В учреждении давно уже все было доведено до вполне приличного уровня – паркеты натерты, ковровые дорожки расстелены и на мраморных лестницах закреплены медными прутьями, буфетчицы в белых наколках разносили по кабинетам чай и свежайшие бутерброды, разговоры велись приглушенно, пепельницы немедленно очищались, бюсты великого Ленина протирались самым тщательным образом, может быть, даже лучше, чем предшествовавшие им мраморные нимфы Коммерческого общества, и вдруг явился пролетариат, как еще иначе скажешь, громко окликают друг друга, топают, сморкаются, с подошв сметают ошметки грязи, распространяется запах недомытости и махры; как будто военный коммунизм вернулся.
Конференц-зал на третьем этаже забит работниками горкома и райкомов, партактивом крупнейших предприятий. Кирилл Градов в своей вечной затрапезе, люстриновом «спинжаке» и ситцевой косовороточке, по внешнему виду гораздо ближе к людям окраин, чем к холеным людям центра, и этим он чрезвычайно доволен. Впрочем, старшие товарищи высоко ценят его теоретическую подкованность, а к маленьким псевдодемократическим чудачествам относятся снисходительно: у молодого человека впереди достаточно времени, чтобы постичь неписаные правила партийного этикета. Державший речь секретарь МК как раз являл собой идеальный тип растущего партийца середины двадцатых годов: сталинского фасона френч, рыковская бородка, бухаринская всезнающая усмешечка.
– Товарищи, – говорил он, – оппозиция предпринимает отчаянные усилия обратиться к рабочим через голову партии. Группа их лидеров явилась в ячейку завода «Авиаприбор», была предпринята попытка прямого срыва партийных решений. Другие организовали собрание ячейки группы тяги Рязанской железной дороги, и рабочие вынуждены были принять председательство таких сомнительных товарищей, как Ткачев и Сопронов! Там выступал член Политбюро Троцкий. В ячейке Наркомфина выступал Рейнгольд.