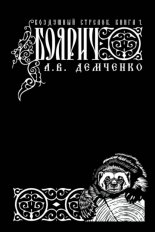Человек из красного дерева Рубанов Андрей
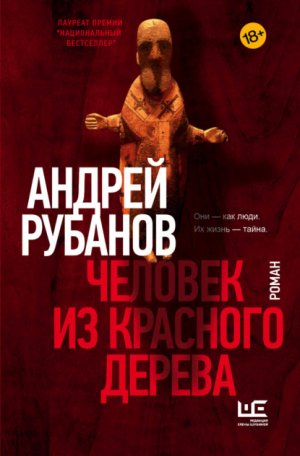
Спрос на нашу мебель небольшой, и предприятие не богатеет. Ходят слухи, хозяин собирается продать бизнес, но не может, из-за долгов. Мэр и его люди тоже против закрытия фабрики: жалко терять сотню рабочих мест с белой зарплатой.
Однако и без работы мы не сидим. Павловский “Большевик” – известная торговая марка, реклама по всей стране.
Столы и кровати наши – действительно хороши; я сам их делаю, руками, и свою работу уважаю, как говорят в нашем цеху.
Охранник на проходной кивает мне и пропускает за высокий забор.
Меня тут все знают. Я старейший работник, мой портрет висит в главном коридоре на доске почёта, в левом верхнем углу, – долго висит, и наполовину уже выгорел, и моя физиономия там обрела жёлто-серый цвет, как у сухой сосны, словно я чем-то болен и вот-вот скончаюсь.
А я ничем никогда не болел.
Невелика фабрика: склад, сушилка, пилорама, сборочный цех, столярный, токарный, а на втором этаже – кабинет хозяина с огромными стёклами на две стороны; через одно стекло хозяин наблюдает за токарями, через другое – за сборщиками; стекло толстое, звуконепроницаемое, чтоб хозяин не оглох, потому что шумно очень.
Зачем хозяину надсматривать за сборщиками – неизвестно; сборщик если крадёт – то по мелочи, десяток шурупов в ботинок затолкает и пошёл. Основное воровство всегда на складе. Там – самые ухватистые ребята, там каждый месяц кого-то с треском увольняют за недостачи и пропажи.
Невелика фабрика – но мне нравится. Вообще такие фабрики большими не бывают, мы всё-таки не чугун льём, а только делаем паркет и кровати.
И, между прочим, на большом производстве я никогда не хотел работать. “Большевик” идеально мне подходит. Семьдесят пролетариев, два десятка инженеров, всех знаешь. От цеха до склада – две минуты спокойным шагом.
В раздевалке – сюрприз: на верхней крышке каждого шкафчика лежат, аккуратно сложенные, новые рабочие комбинезоны, у большинства – синие; мне и другим токарям – ярко-жёлтые. Нам положена особенная одежда, на наших комбинезонах рукава застёгиваются не на пуговицы, а на “липучки”. И, конечно, никаких завязок, ничего свисающего. Любую завязку, край рукава, нитку пуговичную может мгновенно затянуть во вращающуюся пасть станка, – можно без руки остаться.
Травмы бывают, да, и довольно часто. За то время, что я работаю, – считай, у каждого хоть раз я видел кровь. У всех руки в шрамах.
Вдобавок к новенькому комбинезону на крышке моего ящика лежит так называемый “защит-комплект”: респиратор, пластмассовые очки и шумозащитные наушники, и ещё отдельно – две запаянных в пакетик затычки для ушей, нежно-розового поросячьего цвета.
И затычки, и очки, и респиратор обеспечивает фабрика, бесплатно.
Одетый в жёлтое – выхожу из раздевалки в общий коридор, здесь мимо меня проходят такие же рабочие, заступающие в первую смену, они – в ярко-синем; всё напоминает сцену из американского фильма, где события происходят в тюрьме и преступники одеты в разноцветные робы.
Цех мой маленький, три станка. Один не работает.
Двое нас, токарей: Твердоклинов и я.
Твердоклинову сорок лет, он у нас старший по цеху.
Он смотрится очень круто: новый комбинезон, на голове массивные наушники, нос и рот защищает респиратор, выше – пластиковые очки.
Я предпочитаю работать без очков и респиратора.
Мы пожимаем друг другу руки; станок Твердоклинова гудит, объясняться можно только знаками.
Твердоклинов ниже среднего роста, но жилистый, лицо недовольное, голова обычно опущена, взгляд направлен под ноги.
Шумно, шумно.
У Твердоклинова станок с числовым программным управлением, достаточно нажать клавиши на экране – дальше машина сама точит деталь любой конфигурации; но и отходить от станка нельзя – Твердоклинов стоит рядом и контролирует. Он работает быстрее меня, но и дольше отдыхает. Он может выключить станок и уйти шляться по территории, у него кореша есть и на складе, и на пилораме; он подолгу с ними шепчется; скорее всего, примеривается организовать кражу.
Наш материал – дерево ценных пород. Это как если бы на фабрике гранили бриллианты; теоретически нет никакой разницы. И в том, и в другом случае – сырьё дорого стоит. Соблазн украсть велик, противостоять ему способны единицы, самые честные, почти сумасшедшие. Остальные – подавляющее большинство – хоть раз да пытались вытащить доску, или брусок, или хотя бы спилок.
От некоторой древесины и щепки пригодятся. Все знают, что пиво “Будвайзер” варят на буковых щепках. А стружка красного дерева продаётся отдельно, как декоративный материал.
Мы с Твердоклиновым – не друзья меж собой. Коллегами нас тоже нельзя назвать: слишком интеллигентно звучит. Мы – “с одного цеха”. Примерно как однополчане. То есть, ты можешь знать человека только по имени, но, если ему на голову будет падать дубовый брус весом в двести килограммов – ты оттолкнёшь, вытащишь, и спасёшь ему жизнь, и он потом каждый день будет с тобой здороваться, хотя вы друг другу – никто, всего только работники одной фабрики.
Зажимаю заготовку в станке, – это ножка для кровати, сверху будет львиная морда, под ней – шар, и внизу возле пола ещё один шар. Вот эти вот шары я и вытачиваю.
Львиные морды я не делаю, они будут заказаны на стороне – резчику, мастеру на дому. Мастера-надомники берут недорого и делают хорошо.
Можно сколько угодно усмехаться, но крепкая кровать не скрипит, когда вы ложитесь на неё вдвоём, для известного занятия.
Плохая кровать – скрипит, делая соседей и просто посторонних людей невольными свидетелями вашего интимного действа.
А хорошая кровать молчит. Хранит ваше ощущение отъединённости.
Ближе к обеду что-то происходит: за стеклом кабинета хозяина появляются двое незнакомцев, мужчин в костюмах и галстуках; один пузатый, пожилой, второй – моложе и суетливее. Пахан рядом с ними. Все трое – в белых касках.
За стеклом видно, как Пахан жестикулирует, вскидывая подбородок, и показывает пальцами то туда, то сюда, а белые каски вяло кивают. Даже с расстояния в пятнадцать метров мне заметно, что им не очень интересно, они слушают хозяина по обязанности.
Хозяина фабрики зовут Паша Пуханов, Павел Борисович, он местный, павловский уроженец, отец троих детей, 55-летний, тяжко движущийся, багроволицый, похожий на огромный кирпич. В начале девяностых, в молодые лета, он был известен как влиятельный бандит, отсидел три года за нанесение тяжких телесных повреждений, и со времён отсидки к нему намертво приклеилась кликуха, произведённая от фамилии: Пахан. Мы, рабочие, только так его и называем. Неизвестно, как велик был и остаётся его авторитет в криминальных кругах города; неизвестно, когда он получил своё прозвище, в тюрьме или после неё. Так или иначе, отсидка и криминальная молодость ушли в прошлое, а увесистая формула осталась: Пахан сказал, Пахан разрешил, Пахан недоволен.
Они спускаются к нам в цех: Пахан в новом тёмно-синем костюме, хмурый, за ним – пузатый, осанистый, с утомлённым пористым лицом и алкогольными мешками в подглазьях, и третий, помоложе, подвижный, без живота, с телефоном в руке – помощник, референт.
Пахан жестом велит нам вырубить станки, и спустя три минуты наступает относительная тишина.
Твердоклинов сдёргивает респиратор и очки; наушники сдвигает на шею, открыв ярко-красное, мокрое от пота лицо.
– Что, мужики? Какие проблемы? – бодро спрашивает пузатый начальник.
Твердоклинов смотрит на меня беспомощно, и чуть подаётся к пузатому.
– А? – громко спрашивает он. – Чего?
Пузатый удивлён.
– Никаких проблем, – быстро говорю я, пытаясь сгладить неловкость. – Всё нормально. Работаем.
При подобных разговорах – когда высокое руководство снисходит для беседы с народом – работяги почему-то начинают говорить на особом примитивном наречии, состоящем из десятка полуфраз-полумычаний. Это рабское наречие не имеет отношения к рабству, на самом деле работяги презирают начальство. Между пролетарием и хозяином фабрики – непреодолимая пропасть. Если начальник приходит, да вдобавок приводит ещё таких же, важных, – рядовой рабочий пытается отделаться от них самыми простыми словами.
Твердоклинов кивает:
– Нормально! Ничего! Не жалуемся!
В раздевалке можно подслушать разговоры, где звучат слова “геополитика”, “дизайн”, “разница температур” или “экономически нецелесообразно”.
Те же люди, когда предстают перед своими руководителями, специально изображают тёмных морлоков: “ничего”, “нормально”, “зарплату платят вовремя”.
Пузатый одобрительно посмотрел на Пахана.
В возникшей паузе молодой референт просочился сбоку и предложил:
– Игорь Анатольевич… тут бы хорошо сделать снимочек…
Пузатый кивнул и развернулся к нам спиной.
Референт бросился к Твердоклинову.
– Можно вас вот сюда? И наденьте, пожалуйста, всё. Очки, наушники, респиратор.
Твердоклинов сделал, как просили, и встал рядом с пузатым. Референт посмотрел на меня.
– А у вас очков нет?
– Нет, – сказал я.
Референт сделал мягкий жест рукой с зажатым в ней телефоном.
– Тогда можно вас попросить отойти в сторону?
Я отодвинулся – и поймал испепеляющий взгляд Пахана. Он незаметно показал мне огромный кулак.
Наконец, суетливый референт срежиссировал кадр: грузный, но харизматичный, осанистый начальник в белой каске, справа от него – рабочий токарного цеха Твердоклинов в новеньком жёлтом комбинезоне, в маске и очках, выглядящий как человек, собравшийся зайти в ядерный реактор, а на заднем фоне – отливают сталью токарные станки, блестят боками, словно породистые кони.
Дух пузатого начальника был силён, но здесь не присутствовал. Духом своим начальник был на рыбалке: удочка, костёр, бутылочка опущена в холодную воду; тишина первозданная; хорошо.
Я не могу сдержаться и улыбаюсь до ушей.
Обмен рукопожатиями; гости прощаются с пролетариями и сваливают. Ладони у обоих – почти младенческой мягкости, это умиляет, я опять улыбаюсь.
После ухода делегации Твердоклинов не включил свой станок; снял очки и респиратор, уселся на табурет у стены, вытянул ноги.
Наша работа – весь день стоймя стоять, и при всякой возможности мы привыкли давать ногам отдых.
– Видел демона? – спросил меня Твердоклинов.
Я кивнул.
– Новый губернатор области, – сказал Твердоклинов. – Демон конченый, с ним рядом даже стоять страшно.
Твердоклинов произнёс это с ненавистью и одновременно торжественно.
Высокие делегации в белых касках приходят к нам на фабрику часто. И обязательно – в токарный цех: он самый новый, и станки все новые. Визитёры задают одни и те же вопросы. Почти всегда фотографируются. Даже иностранцы бывают. Фабрика считается образцовой. Пахан создал предприятие с нуля, фабрика “Большевик” много лет символизировала нашу местную частную инициативу, была примером успешного бизнеса, каким он должен быть в идеале. Экологически чистое безотходное производство: и опилки идут в дело. Сотня рабочих мест, почти все – высокой квалификации. Фабрика готовит для себя новых специалистов: в городском техникуме есть набор в группу по специальности “деревянное мебельное производство”.
– Губернатор области? – спросил я.
Твердоклинов кивнул.
– Да и хер с ним, – равнодушно сказал я.
– Да, – ответил Твердоклинов. – В принципе, верно. Какая разница? Один демон другого не лучше. Я пойду покурю.
В цеху сигареты были строго запрещены, нарушителей штрафовали.
Меня это не касалось: я никогда не притрагивался к табаку.
6
Твердоклинов вернулся. Вынул телефон и повертел его в руках.
– Надо было селфи сделать, – сказал он, – с губернатором.
– Зачем? – спросил я. – Он же – демон.
– Ну, – сказал Твердоклинов, – допустим, я еду на машине бухой, и меня тормозят менты. А я – бухой. Что я делаю? Я показываю фотку с губернатором и говорю, что я его друг. Меня отпускают. Бухого.
– Не сработает, – сказал я. – Менты не знают в лицо губернатора. Как и мы с тобой. Для всех это просто какой-то серьёзный мужик в галстуке. Ты можешь сфотографироваться с Паханом, вообще с любым солидным мужиком пятидесяти лет, а ментам говорить, что это губернатор. Не поверят менты, нет.
– Верно, – ответил Твердоклинов, подумав. – Не бьётся тема.
– Лучше никогда не фотографироваться ни со знаменитостями, ни с начальством, – сказал я. – Это плохо для твоего духа. Это умаляет его. Кормит твоё тщеславие.
Твердоклинов махнул рукой.
– Не грузи меня этим, – раздражённо сказал он.
Я замолчал. Твердоклинов включил телефон и стал просматривать входящие.
Дух его был неустойчив, сказать прямо – слаб. Твердоклинов во всём сомневался, рассудок его не знал покоя. Последнее время у Твердоклинова развилась глухота, обычное профессиональное заболевание. Это его очень расстроило и озаботило – вплоть до раздумий о смене профессии.
На самом же деле проблемы со здоровьем начались у Твердоклинова вовсе не от производственного шума, а от внутренних сомнений.
Он всё переживал: достаточно ли зарабатывает, вкусна ли его еда, крепка ли выпивка, не прогадал ли он, выбрав свой путь – фабрику и станок?
Можно было предположить, что Твердоклинов, даже уйдя с фабрики, будет и дальше страдать, и не только глухотой, но и другими болезнями, и в конце концов от них умрёт.
Мы с ним мало общались.
В цеху появляется Пахан, теперь – без каски и в расстёгнутом пиджаке, вроде бы довольный, глаза блестят.
Он находит меня взглядом и молча показывает пальцем вверх, на окно кабинета.
Я киваю.
В цеху, когда работают станки, все мы общаемся знаками, и наша жестикуляция бывает не менее выразительна, чем знаменитая итальянская.
Следом за хозяином я поднимаюсь по стальным ступеням и вхожу в контору.
Здесь пахнет коньяком. Контора – мы прозвали её “аквариум” – выглядит фантастично, круто, здесь приятно находиться. Две стены – панорамные окна. На третьей стене – экран едва не в рост человека, на экране – виды с камер наблюдения: склад, сушилка, гараж, циркулярные пилы, въездные ворота – десятки камер, Пахан видит и контролирует всё.
А в центре – круглый стол и кресла.
Сейчас Пахан в кресло не сел – без предисловий толкает меня в плечо, достаточно злобно, как будто предлагает драться.
– Антип, – говорит он с ненавистью, – какого хера ты творишь?
– Извини, – отвечаю я. – Если бы знал – всё надел.
– Это был губернатор области! Они обещают мне кредит! И заказы! А тут – ты, со своими фокусами!
– Извини, – повторяю я. – Случайно вышло. Предупредил бы.
Пахан хмурится.
– С завтрашнего дня, – говорит он, – ты работаешь как все. В полной защите.
– Не могу, – отвечаю я. – Мне же нужно видеть, что я делаю. В очках я ничего не вижу.
– Другие видят.
– Пусть видят. Я не вижу.
– Хорошо, – говорит Пахан, – без очков, но в маске.
– В маске тоже не могу: запаха не чувствую.
Он всё-таки садится в кресло. Я вижу: на самом деле у него отличное настроение. Губернатор сказал ему что-то важное. Денег посулил, поддержку, – что там ещё может наобещать высокий чиновник? Теперь Пахан, довольный успехом, весёлый, хочет по-быстрому решить мою проблему.
Это не первый наш разговор, и не второй.
– Мне понять надо, – продолжает он, – кто ты всё-таки такой. Дурак – или прикидываешься? Ты знаешь, что такое рак лёгких?
– Знаю.
– Антип, – говорит Пахан печально, – чего ты включаешь дебила? Ты всё понимаешь! Ты вдыхаешь летучие вещества! Опилки! Микрочастицы! Они остаются в лёгких, в бронхах! Ты работаешь на вредном производстве, это официальный термин! Сколько можно перетирать одно и то же?
Разогревшись, он переходит на язык своей молодости: околокриминальный жаргон девяностых.
Я молчу.
Всё сказанное – правда. Я действительно ненавижу очки, а уж респиратор, пахнущий ядовитой пластмассой, – особенно.
– Наушники могу носить, – говорю я. – А очки и маску – не могу.
– Договорились, – отрубает Пахан; ему надоел этот спор. – Но я ещё раз предупреждаю: если заболеешь, я платить за тебя не буду. Иначе прогорю до жопы. У меня таких, как ты, немерено. Один без маски работает, другой голую руку в пилу засунул, третьему на ногу ящик упал! Так не пойдёт, – продолжает он резко. – Никому платить не буду! Копейки не дам! Я технику безопасности вам обеспечил. Маски выдал. В медицинский фонд официально отчисляю…
– Павел Борисович, – говорю я. – Рак лёгких – распространённое заболевание, у него десятки видов. Есть виды, которые поражают только некурящих людей. Если я вдыхаю опилки, это вовсе не гарантирует мне болезни. Кочегары вдыхают угольную пыль. Сталевары – горячий пар. Шофёры – угарный газ. Парикмахеры – мелкие волосы. Штукатуры – известь. Мы все дышим ядом. А маски носим для самоуспокоения.
– Иди отсюда, – велит Пахан с отвращением. – Ты охренеть какой умный, а простых вещей от тебя добиться невозможно. Ещё раз говорю: заболеешь – ко мне не обращайся.
– Добро, – говорю я.
– А за выходку, – сухо добавляет он, – ты оштрафован на три тысячи рублей. До свидания.
И дух его умягчается; я знаю, что, когда он останется один – достанет бутылку из нижнего ящика шкафа и махнёт полстакана. Хороший человек.
7
После работы – опять на маршрутку, на этот раз в центр города.
Своё оружие – шабер – переместил из-за спины вперёд, под живот. Всегда так делаю, когда иду в банк. Однажды, десять лет назад, меня пытались ограбить, и даже ножом ткнули. Думали, при мне деньги есть. А не было их – я, наоборот, пришёл тогда пополнить ячейку.
Теперь еду тоже без денег: просто проверить. Привык, приобрёл рефлекс, раз в неделю объезжаю все три наших банка и проверяю деньги в ячейках.
Сейчас ячейки пусты, всё выгреб.
Девушка в белой блузочке улыбается мне и провожает, красивая, по ступеням вниз, в хранилище. Они теперь все улыбаются, их этому специально учат, борьба за клиента, конкуренция.
Я против этой девочки, свежей, словно яблоко, стройной, выгляжу бедняком-деревенщиной, по-английски сказать – реднек: на мне стоптанные ботинки и старые джинсы, и растянутая фуфайка, а сверху куртка без цвета.
Отмыкаю ключиком, выдвигаю плоский ящик. Ещё недавно он был полон доверху, едва закрывался, рядами лежали разноцветные пачки. Сейчас на дне единственная бумажка: сто долларов. Когда всё вынимал – оставил одну специально, согласно примете, “на развод”. Люди верят, что кошелёк (или сейф) нельзя оставлять пустым: хоть мятую десятку, а положи, тогда к ней другие добавятся.
Собственно, ячейка мне больше не нужна, и я думаю: не закрыть ли мне договор с банком, чтоб не платить лишнего за аренду сейфа?
Решаю оставить как есть.
Уж больно приятно сюда приходить, видеть улыбки красивых девушек, сидеть в широком кресле, нога на ногу. Мало ли что, ячейка может вновь пригодиться.
Из банка шагаю на почту.
Тут меня тоже все знают. И женщина в синем пиджаке, к концу дня замотанная, нервная, охотно отгружает мне всю корреспонденцию, предназначенную для деревни Чёрные Столбы.
Два извещения на получение посылок – для деда Козыря и бабки Лабызиной.
Той же бабке – уведомление из пенсионного фонда.
А мне – дали конверт, длинный, с множеством марок. Я тут же вскрыл, развернул и прочитал, жадно скользя глазами: то было официальное уведомление о прибытии моего груза на городскую железнодорожную станцию.
Грузовое отправление я мог получить уже завтра с девяти утра, имея при себе паспорт.
От возбуждения я задрожал, кое-как засунул пенсионные стариковские бумажки в сумку; свой конверт, уже пустой, – смял и выкинул в урну, и пошёл, забыв попрощаться, потом почему-то испугался, что напрасно выбросил конверт от столь важного документа, бегом вернулся на почту, извлёк мятый конверт из урны и тоже пихнул в сумку.
Всё изменилось, мир зацвёл.
Осталось потерпеть всего один день.
Апрельское солнце сверкало на небе, горели стёкла домов и автомобилей, глаза прохожих, золотые кольца на женских пальцах, спицы детских велосипедов.
Картина мира стала неполной, я видел только то, что излучает свет, и то, что его отражает. С этой точки зрения мир выглядел как паутина, переплетение световых лучей и потоков.
Чтобы успокоиться, я решил пройтись пешком, и быстро обнаружил, что ноги сами несут меня по улице Осо- авиахима на окраину, в сторону так называемых “богатых домов”.
В своё время обеспеченные люди и верхние чины городской администрации выгородили в красивом месте большой кусок земли и построили два десятка каменных коттеджей. Впоследствии появились другие обеспеченные и верхние, они продолжили улицу, поставив новые дома в ряд к уже имеющимся. Здесь пахло свежим асфальтом, везде – видеокамеры, а дорожные знаки предупреждали о возможном появлении детей, велосипедистов и животных, и что скорость возможна только самая малая, и что за выброшенный мусор – штраф.
Дети действительно бегали повсюду, катались на роликах и великах. Редкие проезжающие автомобили останавливались и терпеливо ждали, пока очередной сорванец не свернёт в сторону.
Я втайне надеялся, что мимо проедет и Гера Ворошилова на своей маленькой машинке.
Я ведь искал её дом, а какой ещё?
Дом её отца, а теперь её дом.
Прошагал вдоль забора, мимо ворот и калитки; всё заперто, с той стороны ни звука. Но я знал, что она там.
Чтобы не выглядеть подозрительно, я дошёл до конца улицы и купил в магазине пакет семечек.
Почти месяц, как она там живёт.
Я приходил сюда по выходным, всегда во второй половине дня. Она ведь – художник, свободный человек. Ей не нужно, как мне, бежать на фабрику к девяти утра. Она – богема, человек искусства, она спит допоздна, а из дома выходит в середине дня. Потому что ей так или иначе нужно покупать еду, стиральный порошок и всё то, без чего человек не обходится.
И вот – по субботам и воскресеньям я шагал мимо, иногда в три часа дня, иногда в восемь вечера. Но ни разу её не встретил, не видел её машины, не заметил, чтобы были открыты ворота.
Из социальной сети Newernet я скачал на телефон несколько её фотографий; в той, виртуальной, жизни она представала блестящей, молодой и беспредельно дерзкой.
Фотографии нужны мне были не для того, чтоб любоваться; не по любви я искал Геру Ворошилову, а чтоб наверняка узнать, если увижу её изменившейся, с волосами другого цвета или, допустим, в очках.
Иногда сомневался, думал: может, бес меня под локоть толкает искать встречи с этой девушкой?
И сам себе отвечал: нет, я во всём прав. Нет на мне за это греха.
8
Возвращаюсь назад. Та же маршрутка, тот же запах выхлопных газов. От мужиков пахнет водкой. Ещё не доехали до Беляево – пассажиры попросили остановить, для малой нужды. Сразу трое побежали в кусты – все, кроме меня. А оставшиеся две женщины рассмеялись.
От остановки иду пешком. Здесь не город, света нет. Чёрные Столбы – они и есть Чёрные Столбы. Надо достать телефон, включить фонарик и глядеть под ноги.
Вот и мой дом. Он не такой, как те, богатые, в городе. Он гораздо меньше: как раз для одного. И двор меньше, и забор ниже.
Первым делом я включаю свет. У меня его много: во дворе два фонаря, и лампа над крыльцом.
Потом набираю номер, выученный наизусть. На том конце сбрасывают входящий. Я перезваниваю.
Это наша конспирация.
– Здорово, Читарь.
Это мой брат и единомышленник. Читарь – его настоящая фамилия.
– Здорово, – отвечает он.
Голос у него необычный: сухой скрип, как будто трещит сломанная ветка.
Я объявляю Читарю, что контейнер приехал, надо забирать. Нужна машина, и сам он, Читарь, нужен тоже. И чтоб взял пистолет с резиновыми пулями, мало ли что. И полный бак чтобы залил, и машину проверил: мы не должны застрять где-нибудь между Беляево и Косяево с грузом стоимостью в двести тысяч долларов.
Читарь всегда закрыт, разговоры не любит. Мы разъединяемся, я откладываю телефон и иду в подвал.
Его стены выложены частично из камня, частично из кирпича; поверх нашиты доски. В таком виде подвал просуществовал долго. Потом, когда стало можно за деньги купить любой товар, – я купил самый лучший звуконепроницаемый материал и закрыл все стены и потолок.
Я много раз проверял: включал в подвале музыку, на полную громкость, так, что внутри нельзя было находиться, – затем выходил из дома и шагал к ближайшим домам, за сто пятьдесят метров, ложился ухом к земле, и пытался уловить; ничего не расслышал.
В своём подвале я мог делать всё, что заблагорассудится.
Пять на пять метров, посреди – рабочий стол из дубовой доски. Стены приятного коричневого цвета.
На освещении я не экономлю, ставлю самое лучшее. То же касается и вентиляции: в двух противоположных углах две принудительных вытяжки. В моём подвале всегда очень сухо, никогда не бывает плесени.
Над рабочим столом – отдельный светильник.
В ближнем углу на стене – приборы: два на уровне головы, измеряют температуру и влажность, два таких же на уровне пола.
Огнетушители, ящик с песком: ничего я так не боюсь, как пожара. Пожар, безжалостное ревущее пламя – один из моих кошмаров, пожизненных.
Пол – каменный: прямоугольные плиты из гранитной крошки на цементном основании. Все материалы в подвале – негорючие, полки и стеллажи – алюминиевые и стальные, лестница также стальная.
Горючие химикаты, пропитки, лаки и краски стоят в отдельном стальном шкафу.
У дальней стены – верстак, там у меня весь инструментарий.
Над верстаком – планшетный компьютер, подсоединённый к системе видеонаблюдения. Восемь камер, спрятанных в стенах дома, обозревают периметр, забор, калитку, крыльцо, подъездной путь. Система работает от общей электросети, но при необходимости переключается в автономный режим, питаясь от аккумуляторов. Не выходя из подвала, я могу видеть всё, что происходит наверху.
Под лестницей – четыре канистры, бок о бок, в каждой по двадцать литров бензина.
Проникни в мой подвал посторонний человек – я бы отшутился, сказал, что построил бункер на случай ядерной войны. Хохма известная, и всегда в ней есть правда; в нашем народе до сих пор живёт страх всеобщей гибели под ударами нейтронных боеголовок.
Есть ещё малый рабочий стол, и на нём лежит укрытая тряпкой деревянная фигура, чуть больше метра длиной, – но я к ней пока не подхожу и про неё не думаю.
У третьей стены – стальной стеллаж, тоже заваленный инструментом, там у меня лежат старые сточенные напильники. За годы работы руки так привыкли к их рукоятям, что выбрасывать жалко.
На верхней полке этого стеллажа стоит картонная коробка из-под кофеварки “Тефаль”, я снимаю её и открываю, и достаю деревянную голову женщины, святой Параскевы.
Наверное, уже понятно, что я и есть грабитель, похитивший ценную вещь из дома искусствоведа Ворошилова.
Я был тот, кто перелез через забор, вынес топором стекло, вломился в комнату и забрал голову.
На мне – несмываемый грех, смерть человека.
И вечером я долго молюсь, поклоны кладу, стучу лбом об пол.
Это помогает. Дух постепенно смиряется; смирение есть благодать, оно лечит.
Когда умру – на Божьем суде, каков бы он ни был, – я много чего скажу в своё оправдание.
Пётр Ворошилов сам украл эту голову, и ещё много чего украл, что ему никогда не принадлежало.
Он украл иконы XV века, и деревянную голову Параскевы XII века, и ростовую храмовую скульптуру, предположительно святого Дионисия, неизвестно какого века. Он украл ещё несколько дорогостоящих и редких артефактов, и либо их присвоил, либо продал.
Никаких прав на иконы и скульптуры у него никогда не было. А я – имел все права, и по людскому закону, и по божьему, хоть по тёмному языческому, хоть по светлому христианскому.