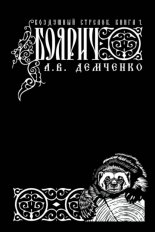Человек из красного дерева Рубанов Андрей
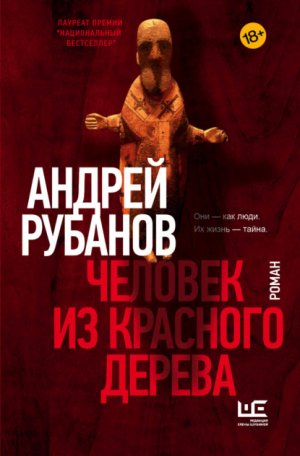
© Рубанов А.В.
© Бондаренко А.Л., оформление
© ООО “Издательство АСТ”
Часть первая
1
В начале весны, в последний день масленичной недели, в нашем городе произошло ограбление и убийство.
Трагически кончил жизнь известный, уважаемый человек, историк – искусствовед Пётр Георгиевич Ворошилов, 65-летний обладатель коллекции старых икон и других редкостей, имеющих отношение к религии.
Одинокий житель благополучного района, хозяин собственного большого дома.
Крепкий, без признаков стариковской дряблости, в прошлом – перспективный московский учёный, кандидат наук. Затем – конец карьеры, переезд из Москвы сюда, на родину, в город Павлово – и вот: смерть.
Поздним вечером преступник разбил окно, влез в дом и похитил редкий предмет: часть деревянной статуи, голову женщины.
Деревянная голова хранилась в особой стеклянной витрине, которую злоумышленник также разбил.
На шум из спальни выбежал хозяин дома.
Что произошло дальше – никто не знал. Петра Ворошилова нашли мёртвым возле разбитой витрины.
На пульте дежурного по городу был отмечен звонок: Ворошилов успел сообщить о вторжении то ли непосредственно перед встречей с похитителем, то ли сразу после неё.
Следов насилия на теле не отыскали; по официальному заключению, несчастный умер от обширного инфаркта.
Таким образом, юридически случай не попадал под определение убийства – но городская молва постановила по-другому.
Учёного искусствоведа ограбили и убили – так решили люди.
Многие в городе интересовались этим происшествием. И я тоже.
Ворошилов был местный, н а ш е н с к и й. В своё время он считался небольшим столичным светилом, несильно, но полезно согревающим издалека свою малую родину. Искусствовед Ворошилов много лет разнообразно помогал городскому краеведческому музею. Он был одним из тех, кто добился сохранения исторической части городской набережной: ходил по инстанциям, по высоким кабинетам. Известно было, что Ворошилов персонально помог нескольким молодым людям, выходцам из нашего захолустья, действительно талантливым ребятам, поступить в лучшие московские университеты.
Однако широкая публика почти ничего не знала про Ворошилова.
Он выглядел просто как благополучный пожилой дядька, владелец кирпичного коттеджа. Он походил на чиновника средне-высокого уровня, ушедшего на заслуженный отдых, или на полковника в отставке.
Сверкнув в столице, сделав судьбу – человек вернулся домой, изнурённый житейскими бурями, – чтобы, может быть, прожить ещё одну жизнь.
Но не прожил.
Делом об ограблении занялся самый опытный следователь городской полиции Вострин, а в помощь ему дали оперативника Застырова, также – мастера в своём деле.
Что касается меня – я оказался замешан случайно.
Меня зовут Антип Ильин.
Я простой человек, деревянных дел мастер, столяр-краснодеревщик, и меня вовлекли в расследование гибели историка Ворошилова по причине профессиональной принадлежности.
Мне, как и другим жителям города, было важно, чтобы преступника нашли и наказали.
Никому не нравится, когда рядом происходит грабёж, наглый и беззаконный поступок; если сегодня вломились к соседу – завтра могут вломиться к тебе.
Я знал погибшего Петра Ворошилова, но не близко. Видел несколько раз – на городском рынке, в кинотеатре, на набережной.
Два года назад Ворошилов прочитал в нашей городской библиотеке лекцию о древнерусском храмовом искусстве, и так вышло, что я посетил ту лекцию, и она произвела на меня большое впечатление. Ворошилов показался мне талантливым специалистом, говорил интересно, видно было, что он увлечён, любит свой предмет всерьёз; его глаза горели. Послушать лекцию собралось немного желающих, в основном – пенсионеры из рядом стоящих домов, но зато приехало местное городское телевидение и показало сюжет про Ворошилова в вечерних новостях.
Тогда, два года назад, после лекции, я отыскал профиль Ворошилова в популярной социальной сети Newernet. Ворошилов редко обновлял информацию на своей странице, никаких записей не оставлял, только ссылки на свои статьи и редкие фотографии; среди них я увидел фотопортрет дочери Ворошилова.
Из любопытства я отыскал профиль дочери.
Её звали Гера, полное имя – Георгия, двадцать восемь лет, из Москвы; художник.
Я заинтересовался ею.
Гера Ворошилова активно пользовалась социальными сетями, публиковала фотографии своих работ: галлюциногенные орнаменты, спирали и концентрические круги, а иногда просто нагромождения пятен; картины показались мне образчиками абстрактного искусства и вызывали чувство тревоги, неразрешённой загадки; лично я не любитель такой живописи, не понимаю её. Насколько я понял, Гере Ворошиловой удавалось продавать свои работы, пусть за небольшие деньги, однако на хлеб и краски хватало.
Геру Ворошилову нельзя было назвать красивой. Уж не знаю, сильно ли она правила свои снимки в фотошопе, прежде чем обнародовать. Чуть широко расставлены глаза, узкие губы и крепкий, почти мужской подбородок с прорезанной продольной ямкой. Слабый плечевой пояс, сами плечи – острые, грудь маленькая, ноги стройные, но отнюдь не модельной длины; худенькая, миниатюрная девушка с умными глазами и приятной улыбкой. Одета всегда концептуально, со вкусом и вызовом, но без перебора.
Ни на одном фото, даже на постановочных профессиональных портретах, я не увидел дорогих украшений, бриллиантов в золотых оправах, и вообще, по многим косвенным признакам видно было, что Гера Ворошилова едва сводит концы с концами.
Богема, она принадлежала к богеме, все её следы в Сети, фотографии, тексты, ссылки – всё указывало на её специальный, особенный образ жизни; например, она работала до утра, а затем спала до полудня.
Помимо фотографий картин и фоторепортажей с вечеринок она вывешивала часто и небольшие тексты, записки. Я внимательно прочитал и обдумал все. Из записок следовало, что сама о себе как о художнике она невысокого мнения. Свои картины она считала декоративным искусством, потребным лишь для украшения жилищ. Картины делала специально большие, в рост человека – такие, чтобы можно было повесить на стену большого кабинета директора банка, или в квартире успешного кинопродюсера.
Я наблюдал за жизнью Геры Ворошиловой два года.
У меня никогда не возникало желания написать ей личное сообщение или раздобыть номер её телефона, чтобы позвонить ей и встретиться. Нет, мне нравилась именно позиция Того, Кто Смотрит Издалека.
Из её публикаций было ясно, что у неё нет ни мужа, ни детей.
Не следует думать, что я её обожал, был на ней как-то зафиксирован, был её воздыхателем. Она просто мне понравилась.
Я разглядел прятавшееся в её глазах лёгкое безумие, понятное всем сильным творческим людям; иногда её взгляд был слегка затуманен; она видела не только обычную, явную реальность, но и другие миры: тонкий мир, доступный медиумам и колдунам, и мир тайный, никому не доступный, но лишь предполагаемый.
И вот – оказалось, что отец Геры Ворошиловой погиб при странных обстоятельствах, и Гера Ворошилова – девушка, за которой я наблюдал издалека, – приезжает из Москвы в наш город хоронить отца.
Конечно же, я захотел её увидеть.
Конечно, я захотел помочь ей раскрыть тайну смерти, и стал участвовать в этом так активно, как только мог себе позволить.
Разумеется, я жалел Геру Ворошилову – на неё обрушился серьёзный удар. С другой стороны, я был уверен, что она легко перенесёт смерть отца. Она была умна, а умные легче переносят горе, и чем умнее человек – тем проще ему пережить тяжёлую потерю.
Предмет, похищенный из дома Ворошилова, – голова женщины – датировался примерно XII веком. Голова принадлежала деревянной фигуре, известной как Параскева Пятница, и считалась ценнейшей, уникальной находкой. Её с удовольствием готовы были принять в дар многие музеи. Но реализовать такую вещь за наличные, каким-либо частным коллекционерам, было невозможно. Таких коллекционеров просто не существовало; Ворошилов, судя по всему, был единственным в своём роде.
То есть преступник не собирался похищать голову с целью продажи.
Кроме деревянной головы, в той же комнате в доме Ворошилова хранилась целая деревянная статуя, предположительно святого Дионисия, – она не заинтересовала вора.
Далее, злодей не тронул висевшие на стенах иконы, также – ценные, редчайшие; как раз иконы можно было сбыть задорого и относительно быстро, но преступник иконы не взял, не коснулся даже: отпечатков не нашли.
Наконец, в спальне покойного стоял дорогой компьютер с большим экраном – злодей не взял и компьютер.
Следователь Вострин и оперативник Застыров допросили местных криминалов, барыг, жульё и бандитов, однако все урки в один голос поклялись мамой, что непричастны. Кому нужна отрубленная деревянная голова? Её ни продать, ни пропить, ни проколоть. Вдобавок, по слухам, украдена не простая голова, а конкретно голова статуи христианской святой, а воры в подавляющем большинстве – люди богобоязненные, без веской причины не будут брать грех на душу.
Следователь Вострин поговорил с настоятелем городского храма Святой Троицы отцом Михаилом: что за голова такая? Мог ли её украсть религиозный фанатик? Может, эта голова – святыня?
Отец Михаил – очень практический мужчина – только засмеялся и махнул рукой. Никакая не святыня, наоборот даже. Православные христиане не ставят в храмах деревянные статуи. Их, статуи, давно запретили, аж триста лет назад. Каноническими являются только двухмерные образа Христа, Богородицы и всех святых чинов. Остатки старинных деревянных изваяний для современной церкви представляют только узкий исторический интерес. Мог ли похитить деревянную голову религиозный безумец? Конечно, мог, безумцы бывают всякие, бывают и те, кто подчиняется бесам всецело. Но лично он, отец Михаил, не знает таких людей в своём приходе, и в случае с похищением головы советует следователю Вострину искать подозреваемого в картотеке городского психиатрического диспансера. Ни один нормальный верующий христианин, сказал отец Михаил, не будет красть и хранить куски старых храмовых статуй, никакого практического применения им нет, и место их – в музее, и больше нигде.
На отпевании и на похоронах я не присутствовал, но забежал на поминальный банкет – и там впервые увидел Геру Ворошилову в реальности.
В дорогом ресторане человек пятьдесят сидело за длинным столом. Я заметил главного по культуре из мэрии, и ещё среди прочих скромно маячил оперативник Застыров: делал свою работу, выглядывал подозреваемых.
На стоянке возле кабака сверкали две дорогие машины с московскими номерами: хоронить искусствоведа Ворошилова приехали его коллеги, двое мужчин и красивая женщина, блондинка без возраста; они, кстати, оплатили и полированный гроб, и поминальный стол с блинами и винегретами.
Но я видел москвичей только издалека.
В обычной ситуации Гера Ворошилова казалась бы привлекательной, но сейчас, в шоковом состоянии, с бледными губами, в чёрном свитере, подчёркивающем худобу, со взглядом непонимающим и беспомощным, она просто сливалась с фоном; вокруг неё скользили приблизительно такие же люди в чёрном, с умеренно-скорбным или просто задумчивым выражением одинаковых лиц, как бы разгладившихся от близкого присутствия смерти.
Зашёл помянуть усопшего и отец Михаил, и произнёс тёплую речь: покойный, как теперь все вдруг узнали, жертвовал на храм и был верным прихожанином, регулярно причащался и исповедовался.
Отец Михаил говорил прочувствованно и выглядел искренне расстроенным.
Ни к отцу Михаилу, ни к дочери покойного я подходить не стал; перемялся в дверях и быстро ушёл.
Мне было важно посмотреть на девушку.
Дух её, несмотря на крайнюю подавленность, был огромен и очень силён, подсвечивал лицо и глаза бледно-оранжевым пламенем, какой бывает от горения самого лучшего и сухого дерева.
Потом всё кончилось. Мертвеца почтили тризной – и разошлись, каждый в свою сторону.
Похитителя деревянной головы и саму голову по горячим следам отыскать не смогли.
Спустя три недели в городе произошло другое шумное событие: пьяный чиновник, глава городского отделения пенсионного фонда, на машине сбил старуху. И про деревянную голову забыли.
В интернете есть описание и фотографии головы. Там она называется “деревянная голова святой Параскевы, часть храмовой статуи, XII век”. Также указано, что артефакт “находится в частной коллекции”.
Если верить интернету, деревянная фигура была вырезана из дубового массива, из нижней, комлевой части ствола – самой прочной.
Это дерево было ничуть не слабей железа.
Тому, кто отрубил дубовую голову, пришлось сильно постараться. Чтобы разъять пополам кусок дуба толщиной в ногу, обычный человек будет махать топором полчаса.
Деревянную фигуру разбили предположительно в начале XVIII века, в царствование Петра Первого, во времена гонений на истуканов. Голову отделили от фигуры и бросили в огонь, но дубовый комель разгорается медленно; кто-то, не согласный с огненной казнью святого образа, выхватил голову из пламени, сберёг, передал другому, тот третьему, – через триста лет она оказалась в руках Петра Ворошилова.
До наших дней голова дошла частично обугленная с левой стороны.
Резчик, живший почти тысячу лет назад, изваял голову с изрядным тщанием и любовью, Параскева выглядела красавицей, но не на современный манер, а в соответствии с каноном начала второго тысячелетия; про тот канон мы почти ничего не знаем, только догадываемся. У Параскевы большие печальные глаза, непреклонно сжатые губы, треугольное лицо, выпуклый лоб, полукруглые брови (безусловно, богатые брови считались в те времена признаком совершенства, породы, здоровья). Волосы упрятаны под покров, позади затылка – вогнутый нимб, составляющий единое целое с головой. Брови и глаза подведены углём, щёки – свеклой. Покров, очевидно, окрашен луковым отваром, его цвет светло-жёлтый, от времени совсем потерявший яркость. Всё же статую за девятьсот лет существования подновляли около сотни раз, и красители глубоко въелись в дерево; Параскева навсегда осталась краснощёкой, с подведёнными глазами.
Вторая часть деревянной скульптуры – собственно тело – считалась утраченной; очевидно, тело разрубили на несколько кусков и сожгли.
На той же интернет-страничке есть упоминание, что голова представляет научную ценность, но какова именно эта ценность, в рублях или, скажем, в евро, – сведений нет.
В интернете каждый сможет без усилий найти подробные материалы о кандидате исторических наук П.Г.Ворошилове, с перечнем его научных работ, на YouTube есть видеозаписи лекций. Пётр Ворошилов разрабатывал тему русских деревянных храмовых статуй, сам организовывал экспедиции в разные части и углы страны, и за тридцать лет научной работы нашёл около трёх десятков деревянных изваяний, подробнейше описал их и исследовал, большую часть – отреставрировал и передал российским музеям, меньшую часть – продал в США и во Францию, в частные коллекции, с разрешения министерства культуры. Полученные от западных коллекционеров деньги пошли на финансирование текущей деятельности Института истории искусств и оплату расходов научных проектов самого Петра Ворошилова: он продолжал снаряжать этнографические экспедиции, с привлечением студентов старших курсов, каждый раз собирал богатый материал, выступил научным руководителем у многих учеников. При этом сам Ворошилов так и не защитил докторскую диссертацию, – изучив его публикации, можно было сделать вывод, что Ворошилов сначала сделал быструю, восходящую карьеру, но затем совершенно охладел к ней, а свой уникальный научный материал щедро раздал ученикам.
В конце нулевых Ворошилов получил Государственную премию в области истории искусств, прочитал цикл лекций в американских, французских и итальянских университетах, его книгу перевели на несколько языков, и он вот-вот мог бы стать модным русским учёным, критикующим Россию изнутри, и однажды статьи о талантливом историке вышли почти одновременно в “Guardian” и “Frankfurter Allgemeine Zeitung” – но дальше этих статей дело не пошло; Ворошилов не захотел быть европейской знаменитостью, – да его, честно говоря, таком качестве не особенно и ждали; мода на русских давно прошла в Европе.
Этот человек не зря прожил жизнь. Кафедра Института истории искусств, где работал Пётр Ворошилов, объявила о посмертном издании – в одном томе – всех его трудов.
2
Меня зовут Антип Ильин.
Я живу в деревне Чёрные Столбы, рядом с городом Павлово.
В той же деревне родился Олег Застыров, оперуполномоченный УВД города.
Мы с ним – земляки.
Я помнил его как пацана Олежку с вечно развязанными шнурками, потом – как школьника, хулигана, драчуна и двоечника, курящего с седьмого класса, потом – как участкового милиционера. Из хулиганов часто получаются хорошие участковые милиционеры. Теперь оперуполномоченный Олег Застыров считался грозой павловских преступников. Решительный, с прищуренным злым глазом, с двумя золотыми зубами в нижнем ряду, с боксёрской челюстью, – он и сам походил на бандита.
Распутывая дело о похищении деревянной головы, оперативник Застыров обратился за помощью ко мне.
Ты столяр, краснодеревщик, сказал он, давай консультацию, рассказывай всё, что знаешь, а с меня – три литра нефильтрованного.
В чём ценность деревянной головы, в чём уникальность, действительно ли она такая старая, как утверждают? Застыров хотел знать всё.
Сырым и ветреным мартовским вечером мы устроились пить пиво в спортивном баре на улице Октября, в удобном углу, – и земляк, после второй кружки, под сушёную рыбу, перегнувшись через поцарапанный стол и сверкая золотыми зубами, показал мне большие цветные фотографии украденной деревянной головы. Снимки делал сам покойный Ворошилов. И я, внимательно рассмотрев, сообщил земляку много полезного.
Владелец обходился с головой очень бережно, хранил в музейном контейнере, явно сделанном на заказ, и держал контейнер в тёмном углу, чтобы дерево не выгорало под прямыми солнечными лучами. Владелец явно придавал большое значение голове, любовался ею – иначе спрятал бы в сундук, с глаз долой.
Если держать её всё время в сухом помещении, она будет храниться практически вечно. Если под открытым небом – она тоже продержится долго, десятки лет, но потом понемногу начнёт гнить от сырости.
Фигура была невысокая, примерно метр шестьдесят пять. И очень тяжёлая: одному едва поднять, а перетаскивать – только вдвоём. Соответственно, голова женщины, вырезанная из нижней, прикорневой части дубового ствола, была немного меньше головы среднего человека, и тоже – тяжёлая, килограмма четыре. Но, может, и все восемь. Если этой голове действительно девятьсот лет – так в те времена дубы росли совсем другие, втрое толще нынешних, и плотность их древесины могла быть в два раза выше против современной.
Так или иначе, таскать всё время эту тяжкую голову с собой, в сумке, портфеле или рюкзаке, – неудобно. Её нужно где-то прятать.
Кому могла понадобиться эта голова – бог весть. Сейчас, как и сто лет назад, из дуба и прочего крепкого тяжёлого дерева делают в основном мебель, двери, полы и паркет. Всевозможные декоративные фигуры вырезают, наоборот, из лёгкого, мягкого материала, вроде липы. Но спрос на такие фигуры ограниченный. Любителей, энтузиастов, резчиков по дереву немного. Есть люди, влюблённые в это ремесло, одно из самых древних. Все такие мастера – большие оригиналы, сумасшедшие в хорошем смысле слова; большинство из них религиозны. Резьбой по дереву, кстати, занимаются и многие монахи, чернецы и трудники, в монастырях и окрест монастырей.
Иногда эти мастера для собственного удовольствия вырезают круглые скульптуры. Потом хранят их у себя в домах, в кельях, чаще – дарят музеям. В церквях их ставить нельзя: православная традиция одобряет только иконы, двухмерные, символические изображения, а трёхмерные круглые статуи отвергает как излишне плотские, тварные. Резные фигуры часто используют для украшения иконостаса, но только в декоративных целях.
И тогда, уже примерно на пятой кружке, я дал Застырову совет. А что, если, сказал я, покойный учёный хотел восстановить целостность деревянной фигуры? Что, если Ворошилов собирался изготовить тело и соединить его с имеющейся головой? Что, если он искал умельца, способного вырезать ему тело деревянной женщины? Не следует ли проверить электронную почту Ворошилова и все его бумаги, на предмет поиска адресов и контактов с профессиональными резчиками по дереву?
Застыров поблагодарил меня, обнял мокрой рукой за шею, пьяными губами поцеловал в щёку; достал телефон и всё записал, а потом долго листал на том же телефоне фотографии, нашёл и протянул мне.
На экранчике я увидел серое морщинистое лицо, стёкшее книзу. Глаза были широко раскрыты и выражали смертный страх.
Он спиной вниз лежал, сказал Застыров, и смотрел в потолок. Я много жмуров видел, но такого – никогда. Учёный реально очень испугался. И испугал его – конкретно вор. Он взял голову и сразу ушёл, тем же путём, а этот – лёг на спину и помер. У него ещё руки были согнуты в локтях, и пальцы скрючены (Застыров показал, как именно скрючены), но это часто бывает: предсмертная судорога.
Мне было неприятно рассматривать фотографию покойника, и я отвернулся.
На шестой кружке Застыров пожаловался: следствие движется со скрипом. Первым делом требовалось найти ответы на два главных вопроса. Во-первых, кто последним видел Ворошилова живым? Во-вторых, кому была выгодна его смерть?
Ответ на первый вопрос нашли быстро. Раз в неделю покойного историка навещала женщина, Екатерина Беляева, также известная как Катя Блонда: представительница известной профессии. Город наш невелик, и про Катю все знали, и про то, что она ходит к историку, – тоже знали. Катя давно перемахнула сорокалетие, обрела большой и разно- образный опыт в своём нелёгком деле, и теперь имела отборную клиентуру, немногочисленную, но надёжную и платёжеспособную. В день совершения грабежа Катя провела с Ворошиловым в его доме два часа. Застыров допросил Катю, но ничего полезного не выяснил. Кате нравился красивый мужественный историк Ворошилов; на допросе Катя рыдала. Деревянную голову и прочие редкости видела, но никогда не интересовалась, а Пётр ничего не рассказывал. Он был сильный, обходительный и щедрый, хоть и не такой богатый, каким его считали в городе, – скорее, наоборот. Жил, по всей видимости, на сбережения. Много работал: говорил, что накопил большой архив и теперь приводит его в порядок. К сожалению, злоупотреблял выпивкой. О том, что Катя навела на его дом грабителя, не могло быть и речи: Катя тщательно берегла свою репутацию, насколько это слово применимо к дамам её ремесла, и вообще, хотела бы, в идеальном случае, сойтись с Ворошиловым всерьёз и выйти за него замуж; а почему нет, он был крепкий, спокойный, одинокий, ему не повредило бы иметь рядом взрослую умную подругу – глядишь, она бы его и от выпивки отучила, и хозяйство привела бы в порядок. Застыров объявил Кате, что “взял её на карандаш”, то есть – улик против неё не нашёл, но и подозрений не снял.
Ответ на второй вопрос – кто был заинтересован в смерти историка – тоже лежал на поверхности. Единственная дочь покойного, Георгия Петровна, весёлая столичная девушка-хипстер, унаследовала двухэтажный кирпичный дом с участком в лучшем, самом чистом и дорогом районе нашего города, на машине – десять минут до центра и набережной. Дом стоит больших денег.
А в доме – коллекция, иконы, чтобы оценить их – потребуется время, но вполне может быть так, что коллекция стоит дороже самого дома.
У девчонки есть мотив, сказал Застыров. Официально она нигде не работает, рисует картины. Ездит на маленькой машинке фиолетовой масти. Имеет задолженность по кварплате и по автомобильным штрафам. Яркая, обаятельная девушка, хоть и не красотка. Не замужем, детей нет. Квартиру ей купил отец. На счету в банке – несколько тысяч рублей. Можно предположить, что нуждается в деньгах.
Ещё любопытный факт, продолжал Застыров. Дом покойного мы опечатали, как положено, но девчонка неожиданно изъявила желание переехать и пожить в нём. Следователь Вострин разрешил. Она уже там, в доме, уже заселилась и вставила стекло взамен разбитого. С чего бы вдруг этой звезде перебиратья из Москвы в город Павлово?
И последнее: не далее как вчера Гера Ворошилова сама пришла к Вострину и сказала, что хотела бы принять участие в поимке грабителя, и сообщила некую важную информацию. Говорили вдвоём почти час; после разговора Вострин ничего не поведал своим коллегам и никаких действий не предпринял, хотя ходил задумчивый.
Будем разрабатывать дочь покойного, сказал Застыров. Чутьё подсказывает, что ниточка ведёт в Москву.
Тут я напрягся. И прикусил язык, чтобы Застыров не заметил моего замешательства. Я-то понимал, что Гера Ворошилова не могла замыслить злодейство. Два года я наблюдал за нею – достаточный срок, чтобы узнать, что у человека в голове и в сердце. Нанять киллера для собственного родного папы ради нескольких миллионов рублей мог только очень низкий, очень жадный, а главное – очень ограниченный человек. Дочь искусствоведа Ворошилова вовсе такой не казалась.
Она ни при чём, хотел сказать я, она живёт в своём мире, её интересует только организация своих персональных выставок – художник должен выставляться, иначе какой он художник? Она, эта девушка, далека от мыслей о грабежах со взломом, и про своего отца и его особняк совсем не думала, ни разу за два года про отца не упомянула!
Ничего не сказал, пожал плечами.
Если бы признался, что слежу за Герой Ворошиловой, читаю её посты, разглядываю её фотографии, – Застыров и меня бы взял на карандаш, не посмотрел бы, что земляк и старый товарищ.
Он мог выпить за раз пять или шесть литров пива; после трёх литров становился весел, лез обниматься; после пяти – тяжелел, мрачнел.
В моей деревне все такие: когда пьют – весёлые, когда напиваются – страшные.
Вот моя версия, сказал он. Ворошилов хорошо знал преступника. И они встретились лицом к лицу. Преступник – человек решительный, судя по его действиям – и вовсе безбашенный. Он знал, что в доме есть сигнализация: на заборе висели стикеры охранного агентства. Не испугавшись, он перелез через забор, подтащил к окну перевёрнутую на зиму вверх дном бочку для воды, забрался, вышиб стекло – и пролез в комнату.
Частиц одежды на осколках оконного стекла не нашли.
Когда грабитель уже вторгся в дом – вышел Ворошилов, в пижамных штанах и футболке с надписью “Harvard University”.
Подробность, мало кому известная: в руках искусствовед держал помповое гладкоствольное ружьё, купленное когда-то, в конце девяностых, на законных основаниях. Однако Ворошилов не выстрелил.
Следов драки нет, на теле умершего – никаких повреждений.
То есть обвинить преступника можно только в грабеже, в открытом хищении чужого имущества, согласно действующему кодексу – от шести до двенадцати лет тюрьмы. А вместо убийства злодею – когда поймают его – пришьют только причинение смерти по неосторожности.
Но когда поймают – а его поймают, добавил Застыров, я лично поймаю, – сомневаться не приходится: судья назначит от души, лет десять минимум. Ведь если грабитель забрался в дом, зная, что там есть люди, – значит, был готов к насилию, к пролитию крови.
Вероятнее всего, Ворошилов спал: в его аптечке найдены антидепрессанты и снотворное разных видов. Он проснулся, схватил ружьё и выбежал, когда вор собирался покинуть дом.
Нет, они были знакомы, это ясно.
Преступник мог бы напасть на хозяина и разбить ему череп так же легко, как разбил оконные стёкла, – но не напал.
В свою очередь, хозяин мог застрелить незваного гос- тя – но не поднял оружие.
Они знали друг друга, они о чём-то поговорили; один забрал добычу и ушёл, другой умер от шока, от испуга.
Но учти, земеля, добавил Застыров, я тебе ничего этого не говорил.
Он заплатил за пиво, и мы разошлись в разные стороны: Застыров сел в машину – хоть и пьяный, а точный в движениях; включил музыку и уехал, а я пешим свернул за угол, пересёк улицу и вошёл в здание автовокзала.
Я успевал на последнюю маршрутку.
Мне было хорошо, дух мой – неподвижен, спокоен.
Да, я напоил товарища и выведал у него секреты уголовного дела. Но я и помог тоже, дал совет, высказал соображения. В этой ситуации мы действовали на одной стороне: оба хотели понять, как и где искать преступника.
Это не было обманом и хитростью; нет на мне за это греха.
3
Меня зовут Антип Ильин.
Я взрослый, поживший человек.
Внешность моя – приятная, но не сильно запоминающаяся, глаза тёмно-серые, лицо прямоугольное, нос прямой, ноздри крупные, лоб высокий, надбровные дуги – сильно выраженные, уши – маленькие и прижаты, дёсны довольно слабые, зубы – все до одного целые, средней крупности и отличной белизны, губы – полные и красные, но в меру; волосы – до плеч, ржаного цвета, я их иногда забираю в хвост. Среднего роста, пропорционального сложения, размер одежды – сорок восьмой. Живот впалый. Голос негромкий, низкий. На вид – примерно тридцать пять лет. Ни морщин, ни седины, ни сутулости, никаких физических недостатков никогда не имел. Двигаюсь ловко, подобно спортсмену. Борода и усы не растут. Если одеться модно и причесаться гладко – сойду и за молодого, но незачем.
Грудь немного узкая, и тазовые кости, но и то, и другое крепко, за многие десятилетия привыкло к ходьбе и к разнообразным физическим напряжениям. Спина – сильная, от талии расходится косыми мышцами резко в стороны.
Пониже и левее шеи, поперёк ключицы, тянется длинный шрам – давно получен, ещё при рождении.
У меня хороший крепкий дом, собственноручно собранный из соснового бруса. Маленький одноэтажный дом без затей, без излишеств, комната и кухня – мне одному в самый раз. Узкая кровать, шкаф с одеждой, на столе компьютер, выше – три полки с книгами, в красном углу – образа, лампада горит.
Мою деревню по южному краю огибала речка, когда-то сильная, а теперь напрочь высохшая, только овраг остался. На самой излучине со временем намыло возвышенность, пологий холм, песчаный, не сильно высокий: на нём я и поставил свой дом, наособицу от остальных.
Зато под фундаментом у меня – много метров плотного белого песка: я сделал под домом большой подвал в рост человека; этот замечательный подвал остаётся сухим даже весной.
Чтобы найти мой дом, нужно пройти всю деревню до конца и потом ещё по просёлку через берёзовую рощу.
Ещё месяц назад эта чёрно-белая роща звонко трещала от мороза, а сейчас, в начале апреля, тяжко пахнет набухающими почками.
Хорошо бы радоваться этому благоуханию с кем-нибудь вдвоём, но, к сожалению, я одинок теперь.
Есть друзья, есть родственники – а женщины нет.
Возможно, она появится позже.
Радости семейной жизни, любовь и смех детей, подарки под новогодней ёлкой, горячие объятия в ночной темноте, – всего этого я пока лишён.
Однако взамен меня одарили другими удовольствиями; я не вправе роптать, а наоборот, каждый день возношу Создателю горячие благодарности. Моя долгая жизнь могла бы вовсе не начаться, а начавшись – оборваться в любой миг. Но я цел и невредим.
Я не инвалид, и в плане мужской силы всё у меня хорошо. И связи с женщинами у меня были, иногда – долгими годами. Разные отношения, с разными женщинами. Но единственной, мне подходящей по духу, так и не отыскал.
В сорока километрах от моей деревни находится город Павлово с населением в сто тысяч: раскиданный, малоэтажный, вытянутый с севера на юг вдоль берега реки Игирь, впадающей в Волгу.
Не ищите Павлово на карте. Городов с таким названием в России много.
Город довольно старый, впервые упоминается в летописях времён Василия Тёмного. В более поздние времена известен как одна из неофициальных столиц старообрядчества: тысячи раскольников однажды бежали в наши непроходимые боры, основали общины, колонии, торговые и ремесленные предприятия, дали начало нескольким богатым купеческим фамилиям, – а купцы, как это было принято, подняли в центре города каменные дома, храмы, торговые ряды и уездную больницу. В конце XIX века они же добились строительства железной дороги и перевалочной базы с речных барж – в вагоны, и наоборот; любой непьющий отец семейства мог найти тут работу. Таким образом, город наш трудовой и торговый, мы хоть и не процветаем, но и не загибаемся; впрочем, теперь весь мир так живёт.
Конечно, мы тут все – провинциалы, глупо спорить. Однако же зачем-то и мы нужны. Пусть и дремучие, но не вымираем, уцелеваем, сохранены божьим попущением.
Громадная и важная часть моей жизни связана с Павлово: знаю все его переулки, все тупики, и всех, кто хоть что-то значит, от автослесаря до мэра, и за всеми событиями в родном городе внимательно наблюдаю – из собственной обыкновенной любознательности, которая не даёт мне покоя всю мою жизнь, сколько себя помню.
А за некоторыми событиями – наблюдаю особенно пристально.
4
В стаю в половине седьмого утра.
Внимательно осматриваю себя в большом зеркале.
Подхожу к образам и молюсь. Теперь Великий пост: нельзя не молиться.
Одеваюсь всегда просто: тканевая чёрная куртка с глубокими внутренними карманами (обшлага обмахрились, пора брать новую, такую же), рубаха серая, джинсы – и крепкие ботинки. Для ходьбы по нашим жидким грязищам пригодна только непромокаемая обувь, и притом дешёвая, чтоб не жалеть её.
Были времена – я в это время года ходил в сапогах, и в резиновых, и в кирзовых, и в яловых, но однажды понял, что ходить в сапогах уж совсем неприлично, всё равно что в лаптях; люди смотрят как на дикаря. И с тех пор хожу в ботинках.
Бумажник и телефон – в правый карман, а в левый – старый плеер, дисковый, любимый, привычный. Провода от наушников кидаю на загривок, под воротник.
За брючный ремень, вдоль спины, помещаю своё оружие – шабер, или, по-простому, напильник, с остро отточенным краем; без оружия дом не покидаю.
Тушу резким выдохом лампаду.
Запираю дубовую дверь – сам её делал, не своротишь.
Прохожу березняком до деревни, потом к дороге; четверть часа неспешным шагом; с утра торопиться не люблю.
Выхожу на дорогу: тут ржавый павильончик, крыша в дырах, неприятное место, неухоженное, но приходится терпеть; я стою, жду, один такой.
Маршрутка подъезжает, сажусь, здороваюсь.
После утренней молитвы мне всегда спокойно: мыслей нет, внутренний монолог остановлен.
Весна, апрель, Великий пост: время воздержания и раздумий о смерти.
Пора Великого поста совпадает с голодом, наступающим в народе в конце зимы и в начале весны – когда съедены все припасы, когда мыши разочарованно бегают по пустым полкам погребов.
Сейчас голода нет. В машине сидят, кроме водителя, ещё трое: две женщины и мужик. Все жуют: мужик – шоколадный батончик, женщины – семечки. Почему-то в наших краях семечки популярны. Все лузгают, как в Краснодаре. Хотя подсолнечник у нас не растёт.
Я поздоровался, мне ответили.
Всех попутчиков я знал – день за днём мы двигались одной и той же изъезженной дорогой, из деревни – в город. Маршрутное такси проезжало через Беляево, Косяево и Чёрные Столбы, и везде забирало одного, двух человек, и все мы ехали работать в город. Вечером – примерно тем же составом – возвращались по своим деревням.
Когда-то, тридцать лет назад, здесь курсировал автобус, дребезжащий ПАЗ с дверями-гармошками, всегда неплотно закрытыми, и зимой из этих дверей сквозило немилосердно; автобус набивался битком – и в проходе стояли, и девки молодые сидели на коленях у парней. Но год шёл за годом, наши деревни пустели, народ подвымер, а новый не народился, уехали все.
Сейчас в моих Чёрных Столбах живёт восемь старух и дед, а из рабочего возраста – двое: я и хозяйка сельпо, известная в округе как “Зина-из-магазина”, мы с ней дружим.
Но вместо весёлого, малость облезлого автобуса мимо деревни ходит машина на десять мест, всегда полупустая.
Был ещё Олег Застыров, но он уехал вместе с родителями, и больше не возвращался, осел в городе и жену взял городскую, она заведует магазином обуви.
Летом к нам в Чёрные Столбы наезжают из Павлово, по выходным особенно: с детьми, с собаками, бани топят, шашлыки, музыка, на мотороллерах гоняют, запускают фейерверки даже.
А как похолодает – всё. На полторы улицы – девять пенсионеров, Зина и аз, грешный.
Говорят, что, если б власти протянули в нашу сторону газопровод – деревни восстали бы из уныния, и многие из тех, кто уехал, вернулись бы в свои родовые дома и жили бы круглый год, зимой отапливаясь газом.
Но власти пожалели сил тянуть трубу в наш угол; остались мы без газа. На зиму – купи машину дров, вынь да положь.
По всей стране огромное множество раскидано деревень таких же, как моя, и никто не знает, что делать с этими деревнями. Тянуть трубу к каждой хибаре невозможно. Отправлять “скорую помощь” в каждое отдалённое сельцо, к каждой помирающей бабке, за полсотни вёрст по убитым просёлкам – хлопотно.
Так умирают деревни. К нам уже почтальон даже не приходит: мои бабки ездят за пенсией в город.
Всего пути, от деревни до остановки “Мебельная фабрика”, – тридцать пять километров, по узкой дороге: сначала вроде летим, но на полпути начинается затор, и дальше машина едва ползёт.
Час я добираюсь утром туда, и ещё час вечером назад.
В пути я обычно втыкаю наушники и слушаю свой плеер, иногда читаю, но чаще – просто смотрю в окно, на деревья и холмы: мне уютно в дороге, хорошо. Это человеческое, настоящее чувство: в машине ли, в поезде, а хоть пешком или на лыжах, когда пересекаешь пространство – ты наслаждаешься.
Просторно, свободно у нас.
Холмы красивые, пологие, поросшие сосновым и еловым лесом, но и берёзовые рощи есть, там по весне люди добывают сок и потом на рынке продают трёхлитровыми банками: от всех болезней помогает, и если каждый день пить по два стакана – волосы начинают блестеть. И квас делают на берёзовом соке, и даже гонят веселящий напиток, он так и называется: “берёзовое вино”.
Холмы остаются за спиной, впереди – серое облако; это наш город и его испарения, дымы труб.
И вдруг мимо, навстречу – проезжает маленький автомобиль, нездешнего фиолетового цвета; я вздрагиваю, тяну резиновую ручку, чтоб отодвинуть створку окна, высунуть голову и посмотреть вслед, но окно недостаточно велико, чтобы моя голова пролезла.
Это её, Геры Ворошиловой, автомобиль, микролитражка с небольшими колёсиками. Такого цвета – единственная в городе. Куда поехала московская девушка – непонятно. Я решаю пока об этом не думать.
5
Остановка маршрутки – прямо у проходной. Фабрика называется “Большевик”.
Хозяину фабрики подсказали, что называть свой бизнес лучше каким-нибудь старым словом, восходящим к славной эпохе Советского Союза. Потенциальные клиенты должны думать, что “Большевик” существует сто лет, что фабрика непотопляема; а меж тем она возникла тут, на окраине города, уже в новейшие времена, в нулевые годы, и к большевизму не имеет никакого отношения.
Работающие на фабрике весёлые пролетарии тут же переделали название в “Борщевик”.
Здесь я работаю с первого дня.
Я тут – один из немногих, кто отличает фальцгебель от зензубеля.
На нашей фабрике изготавливают дорогую мебель и паркетную доску из ценных пород дерева, главным образом – из дуба и лиственницы.
Мы делаем столы и кровати, двери, шкафы; всё очень крепко, купил один раз – и на всю жизнь, и ещё детям достанется.
Вообще, мы делаем всё что угодно, из любого дерева, от палисандра до карельской берёзы. Лично я на заказ делаю шахматы и нарды, и сделал их много, но в последние годы заказов нет. Шахматисты теперь сидят перед экранами и играют с машиной.
Основной товар – паркет, конечно. Но и кровати, и двери хорошо идут.