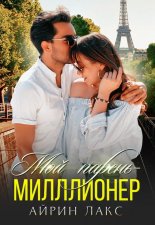Амур-батюшка. Золотая лихорадка Задорнов Николай
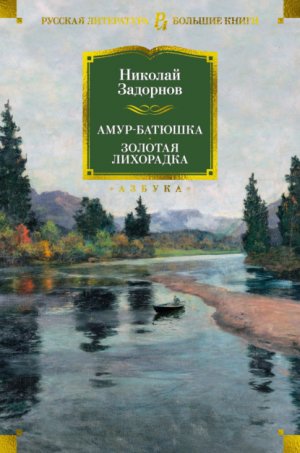
– Садись, сосед, – сказал Родион. – Хлещи.
– У меня пост…
– Гляди, какие у него разговоры! Ты что – писарь? Откуда в тебе такая грамотность, чтобы рассуждать про других? Ты про себя думай. Ну, забудь все. Давай по-братски чокнемся.
– Ну-ка, Петровна, вставай, – разошелся Шишкин. – Танька, созывай девчонок!
– Пост, окаянный ты! – всплеснула руками Петровна.
– Чего же, что пост. А мы будем как господа.
– В праздник гулять всякий дурак сумеет, а вот ты попробуй в пост.
– Дожидать праздников мочи нет. Пускай твари знают… На самом-то деле! Что за издевки? Почему нам часовню, церкву ли не построят? Пусть знают, что мы через это вовсе сопьемся. В пост будем гулеванить. Верно?
– Кто неграмотный, так и не знает, пост ли, – заговорил Сильвестр.
– Верно, вот я, к примеру, – подхватил Спирька, – я и вовсе не знаю, что сегодня вторник, а что в воскресенье пасха. Откуда мне знать? Чего с меня возьмешь, темный – и все тут. Хоть от кого отоврусь.
– Гольдам на Мылке церковь хотят построить, а русским нет, – говорил Родион. – Это что такое? А мы как? Инородцам церкви, а мы в темноте…
– Это же как водится. У гольдов меха, с них попы наживаются, – сказал Спирька.
– Давай нарочно в пост напьемся и гулянку устроим, – сказал Сильвестр, – а попу скажем, что ошиблись, не знали, когда пасха.
– Кхл… кхл… просчитались!
– Верно. Им, может, совестно будет!
– За этим должон поп смотреть, а его нету. Пусть нас господь накажет, зато видно будет, как мы страдаем.
– А то маленько еще поживем и одичаем.
– На Ваньке Бердышове и так уж шерсть растет.
– Уж дивно вылезло.
– Тигра и тигра: пасть позволяет!
– Вот только что пасть поменьше.
– Митька, лови курицу, кабанина надоела. Иди девчонок позови, они хорошо поют, – обратился отец к Тане. – Митька! Наша гармонь у Овчинниковых. Живо! – шумел Родион. – Скажи: ко мне исправник едет.
– Иди Дуньку позови, она хорошо поет, – сказал Спиридон, обращаясь к Тане. – У нас настоящих девок нет, еще не возросли, – повернулся он к Ивану. – Есть новоселки, так те далеко, на том конце деревни.
– Сами еще молодые! – подхватил Шишкин.
Пришла Дуня. Собрались заспанные девчонки и уселись в ряд на лавке. Явился Мишка. Грянула гармонь. Девчонки затянули песню.
– Петровна, у тебя ладный голос, подтягивай.
– Вот поп узнает, проклянет.
– Пущай проклянет. Ванька уж и так давно проклят. Поп – ученый человек, он все поймет…
– Гуляй, Мишка, ее не слушай, баб черти придумали. Дергай шибче, давай забайкальскую! Митька, дуй за Овчинниковыми, пущай принесут спирту, у них в амбаре есть. Э-эх… эх ты… Ну-ка, Дунька!
– Дунька, спляши хорошенько, – пьяно сказал Спиридон, – девчонки еще молоденькие, а славно пляшут.
Девчонки взялись за руки и затопали. Дуня стояла в нерешительности, видимо раздумывая, плясать или нет ей в такой день, да еще при тетке.
– А я про вас все знаю, – вдруг сказал Спирька.
– Врешь, ничего ты не знаешь. Гляди на него, какой выискался!
В избу ввалились великаны братья Овчинниковы.
– А ты, Дунька, чего не пляшешь? – спросил Спирька.
– Куда я в таких валенках?
– Скинь их!
Дунька сбросила валенки и, босая, сутулясь от стеснения, вышла на середину избы.
– Ну что? Гулеваним? Давай, давай, – бубнил Санька Овчинников.
Белобрысая, в белом коротком платье, с белыми ногами, Дунька заплясала посреди избы. Скуластое лицо ее зарделось.
– Ловко, Дунька!
Она от похвал приободрилась, подняла голову и, разводя руками, заплясала смелей.
– Вон Ваньку выбери.
– Гляди, Дунька-то! Молоденькая, молоденькая, а какой змеей вильнула.
– Эх ма-а, забайкальские казаки! – закричал Иван, пускаясь в пляс.
По тому, как ловко и с каким притопом Бердышов прошелся по кругу, видно было, что мужик он еще молодой и бравый. Он надулся, вытаращил глаза, лицо его побагровело.
– Гляди, Ванька чего вытворяет.
– Экий бурхан пляшет!
– Брюхан, истинно брюхан…
Гармонь затихла.
– Вот поп придет, окаянные… Когда гулянку затеяли, – ворчала мать.
Бердышов и Дунька, взявшись за руки, уже после того, как умолкла музыка, сплясали несколько коленцев, как бы не желая уступить друг другу конец танца.
– Ты тигру показывал? – спрашивали за столом Спирьку. – Скажи по совести: кто ей усы выдернул?
Иван вдруг схватился за голову и грузно пошатнулся. Дунька засмеялась и взвизгнула.
– Ты чего это?
– Вы, дяденька, маленечко меня не придавили, – закрывая ладонями грудь, промолвила Дуняша.
– Ты что закрываешься? – грустно усмехнулся Иван. Он взял ее за руки и развел их, наклоняясь к ее шее.
Дуняша вспыхнула.
Иван, покачиваясь, отошел к столу.
– Хоть бы и я тигру показывал, а что? – говорил Спирька.
– Что! Усы повыдергивали! Куда тигра без усов? Ты думаешь, она нам легко досталась?
– Бороду бы тебе выдергать, – пробасил Овчинников, желавший отвести от себя подозрения.
– Скорей всего, что китайцы выдернули, – говорил Сильвестр. – Мы только в шутку об этом говорили, но ничего не делали.
– Родион, встретишь Ваньку Галдафу, повыдергай у него косу: это, наверно, он, – сказал Иван.
– Ну что, весело у нас?
– Как не весело! – засмеялся Иван. – Придется на пасху оставаться.
– Вот приятель! – хлопнул его Родион по спине. – Только без обмана: гулять так гулять.
Иван долго еще гостил в Тамбовке. Тамбовцы радушно принимали его. Кто-то распустил слух, что Иван и Родион нашли в тайге клад. Все наперебой звали их к себе.
В первый день пасхи на широкой, недавно протаявшей лужайке, на берегу, между Горюном и избами, мужики, парни и девушки играли в «беговушку».
Иван, причесанный, в одной рубахе, без картуза, поплевывал на обе ладони, перекладывал с руки на руку длинную жердь и подмигивал белобрысому Терешке Овчинникову, державшему в руках тугой и тяжелый, как камень, маленький кожаный мяч.
Бердышов был трезв, но прикидывался подвыпившим и потешал всех.
Терешка подкинул мяч. Жердь со страшным свистом пронеслась у самого его носа, не задев мяча. Иван, видно, и не собирался бить по мячу, а хотел напугать Терешку. Тот обмер и побледнел. Иван пустился бежать. По нему били мячом, он увернулся, кто-то из бегущих навстречу с силой пустил в него перехваченный мяч. Иван прыгнул, как кошка, схватил черный ком в воздухе и с размаху на бегу врезал им по брюху бежавшего навстречу Родиона так, что слышно было, словно ударил по пустой бочке.
Все захохотали.
Родион пустился за Иваном с кулаками. Все бегали, мяч летал в воздухе.
В другой раз Иван так ударил, что мяч ушел чуть ли не за Тамбовку; пока за ним бегали, Иван успел вернуться на место.
Терешка, когда ему приходилось подавать мяч, теперь отступал подальше, даже если бил и не Иван.
К обеду, раскрасневшиеся, веселой шумной толпой гости вошли в дом Родиона.
– Что в этой книге, дядя Ваня? – спросила Дуня у Бердышова.
– Стихи!
– Видишь ты! О чем же?
– Мне сказали: «Читай». Я купил книги, – говорил Иван. – Буду потеть, вместо тайги… Городские любят, когда складно сложено. Кто влюбится, читает своей… Вот смотри, вырастешь, ищи себе грамотного…
Вечером в избе Родиона собрались все соседи. Женщины – празднично разодетые, в белых кофтах с расшитыми рукавами. Приодетые девчонки в сарафанах.
– Бабы наши осипли на рыбалках, голосу ни у одной не стало, – говорил Родион.
– А девки хорошо поют, – сказал Сильвестр. – Еще рыбу не ловят!
– У нас невесты еще не выросли, – пояснял Родион. – Есть из новоселок, а наши еще маленькие, но поют хорошо.
– А подрастут, можно сватать, – подхватил Спирька. – Находи нам женихов хороших.
– Только бы не бандистов. Ищи загодя!
Плясали бабы, мелькали платочки. Петровна проплыла по избе. Вышла в круг Дуня. Сегодня она в белых рукавах и сарафане, в толстых чулках и ботинках.
– Весело у вас! – смеялся Иван. – И девчонки у вас славные. Я всем женихов найду. А одну, как подрастет, сам просватаю!
– А ты не хотел на праздники оставаться, – хлопнул его Родион по спине.
На прощание Шишкин крепко поцеловал Ивана, просил приезжать еще.
Голубые озера стояли на льду Амура, и похоже было, что уже нет пути. Иван ехал на риск.
– Иван Карпыч, погоди, – окликнул его на дороге полупьяный Спирька.
– Чего тебе?
– Я тебя уважаю. Я все знаю и никому не скажу. Я сон видел, – таинственно заговорил мужик, – будто пошел я ловить калуг, а на прорубях заместо рыбы…
На огороде ходили Спирькины жеребята. Молоденькая кобыленка подошла к перегородке и потянулась к Иванову жеребцу. Буланый задрожал и, раздувая ноздри, стал обнюхивать ее. Кобыленка жадно тянулась трепетными губами к его морде.
– Смотри, кони милуются. Жеребенок, а покрыться хочет, – перебил Иван.
– Это тебе мерещится все! Не покрыться, а жеребенок просто играет… Глупости все на уме…
Иван проворно слез, вспугнул жеребенка, с жестокостью ударил жеребца кнутовищем по морде и опять лег в розвальни.
– Ты шибко пьяный сегодня, – сказал Иван Спирьке. – Чего городишь – я не пойму. В другой раз потолкуем. Ну, будь здоров!
– И тебе не хворать, – снял шапку Шишкин.
Иван погнал коней.
Едва поравнялся он со Спирькиной избой, как из ворот выбежала Дуня. Увидевши коней, она ахнула и замерла.
– Ты чего, плясунья, ахнула?
– Маленечко вам дорогу не перебежала.
– Смотри, а то я бы тебе бичом, – проезжая, весело молвил Иван. «А ведь славная девчонка подрастает», – подумал он.
Через два дня, где верхом, а где вброд, бросив по дороге розвальни и навьючив тюки на коней, Бердышов с трудом добрался к Уральскому.
Глава тридцать вторая
Когда Федор вошел в лавку, на полу лежала такая груда мехов, что ее не обхватить было обеими руками.
– A-а, Федор! – воскликнул Гао. – Ну, как поживаешь? У меня сегодня братка домой пришел, он далеко ездил.
– Здравствуй, здравствуй! – вскочил с кана младший брат.
– Сиди как дома, – сказал старший торговец, усаживая Федора за столик. – Чай пей буду, ешь? Почему не хочу? Зачем напрасно? Чай пей, лапшу кушай, лепешки у нас шибко сладкие, язык проглотить можно! Пожалуйста, сиди, наша мало-мало торгуй.
Такое дружеское, простое обращение богатого китайца было приятно Федору. Его встречали как своего, выказывали радость, угощали и не стеснялись вести при нем свои дела. Как и предполагал Федор, торговец, после того как его поколотил Егор, заметно переменился.
«Эх, вот это богатство! – с восхищением смотрел Барабанов на груду мехов. – Вот как ведут дело! Куда Ванька лезет? Никогда ему за ними не угнаться. Вот это жизнь! Чистое дело – торговля!»
Он вспомнил Додьгу, переселенческие землянки, отощалых земляков, тяжелый их труд на релке… А тут шум, толпа народу, возгласы хозяев и охотников, меха на полу и на канах. Все это было ему по душе. Федор и раньше слыхал, что китайцы вывозят с Амура много мехов, но только сейчас, при виде такого вороха пушнины, он понял, что это означает.
Повсюду лежали и висели вывороченные мездрой кверху желтые, как пергаментная бумага, белки с голубыми и черными пушистыми хвостами. На прилавке высилась грудка соболей. Младший торговец и работник разбирали их, откладывая отдельно черных и желтых, и составляли пачки штук по двадцать в каждой.
«Ловко придется, скажу, что` Ванька против них задумал… Вот схватятся, – со злорадством подумал Федор. – Они у него все расстроят…»
Гао Да-пу опять не церемонился с гольдами. Все равно теперь меха пошли. Он что-то насмешливо говорил старому охотнику Ногдиме. Гольды то и дело качали головами, усмехались и переглядывались друг с другом. Заметно было, что они сочувствуют сородичу, но остроумная речь торговца овладела ими, и они понимают, что вряд ли Ногдима сумеет настоять на своем.
Ногдима лишь изредка что-то тихо и неуверенно возражал. До сих пор он представлялся Федору человеком твердым и решительным. Его плоское черное лицо с острыми глазами в тонко изогнутых косых прорезях, сильные скулы, тонкие, словно крепко сжатые губы – все это, казалось, выражало свирепость, упрямый, крутой нрав, уверенность в себе и в своей силе.
Но перед торгашом Ногдима оробел. Он ворочал мутно-желтыми, в кровавых прожилках белками, стараясь не глядеть на хозяина, как бы чувствуя вину перед ним, и возражал все слабее и слабее.
«Гольды некрепкий народ, – размышлял Федор. – Видно, Ванька Гао, чего захочет, вдолбит им. Это надо знать и мне».
Наконец гольд махнул рукой с таким видом, словно соглашался на все. Он отдал меха, вышел из толпы и уселся в углу.
– Кальдука, иди сюда! – взвизгнул торгаш.
Все засмеялись.
Маленький выбрался из толпы. Голова его дрожала. Улыбаясь трусливо и заискивающе, он кланялся.
Торговец протянул руку под прилавок. Маленький решил, что хозяин ищет палку, чтобы поколотить его, и повалился на пол. Лавочник вытащил пачку табаку. Шутка удалась. Все оживились.
Подскочил младший брат и поднял Кальдуку Маленького.
– Что ты? Наша помирился… Больше ругаться не будем! – смеясь, говорил Гао Да-пу по-русски, а сам косился на Федора. – Кальдука, вот я тебе этот табак дарю! Я тебе ничего не жалею.
Федор сообразил, что это говорилось для него. «Считают меня заодно с Егором. Ну и пусть!»
Торгаш закрыл долговую книгу. Гольды разошлись.
– Ну как, ловко я Кальдуку напугал? Моя так всегда играй. Только играй… Моя никогда настояще не бей. Гольды зря говорят, что моя бей. Моя их не бей. Моя их люби!
– Наша только вот так всегда играй, – подхватил младший брат. – Мало-мало шути, играй. Без пошути как жить? Нельзя!
– Ну, Федора, как думаешь, почему Егор не приходит? – спросил Гао Да-пу. – А? Он разве помириться не хочет? Разве можно так жить? Друг на друга надо сердиться, что ли? Убить, что ли, надо? Так будет хорошо?
Как Федор и предполагал, лавочник искал в нем своего заступника, выговаривая обиды, просил о примирении и о краже соболя уже более не поминал. «Теперь он не упрекнет меня! Отбил ему Егор охоту! Ай да Егорий!»
Приняв вид очень озабоченный, Гао спросил, как живут переселенцы.
– У нас Тереха и Пахом, братки с бородами, – говорил Барабанов, – знаешь, которые муку брали?
– Знаю, знаю.
– Ну вот, чуть не помирают. Цинга их свалила.
Торговец изумился.
– Ну конечно! И сами виноваты. Ведь вот ни у нас, ни у Егора нет цинги. Старик у Кузнецовых прихварывал, да вылечился.
Гао Да-пу о чем-то поговорил с братом.
– Ладно, – обратился он к Федору. – Мужики Пахом и Тереха болеют. Пошли больным людям муку, крупу, у меня чеснок, лук есть. Мужик будет лук кушать, и цинга пройдет. Мы совсем не плохие! Что теперь Егор скажет, а? Зачем его так дрался? Мы правильно торгуем. Людей жалеем, любим. И скажи: денег не надо. Совсем даром! – в волнении и даже со слезой в голосе воскликнул торгаш. – Моя сам русский!
Работник принес луку, чесноку и муки. Несмотря на весеннюю пору, у Гао еще были запасы в амбарах.
– Федор, вот мука. Тимошкиной больной бабе тоже дай. Баба пропадет – русскому человеку тут, на Амуре, жить трудно.
Торговцы приготовили к отправке в Уральское целую груду припасов.
– Только смотри, Федор, это дело не казенное, надо хорошо делать.
– Как это не казенное? – насторожился Барабанов.
– Не знаешь, что ли? Казенное дело такое. Солдаты плот гоняй, там корова, конь для переселенцев. Солдат говорит: «Наша бедный люди: денег нету, давай корову деревню продадим!» Пойдут на берег – корову продают. Деньги есть – водку купят, гуляют. Потом еще одну казенную корову продадут. Еще другую корову убьют, мясо казаку продадут в станицу и сами кушают тоже. Потом плот разобьют, совсем нарочно сломают. Пишут большую бумагу, такую длинную… Так пишут: наша Амур ходила, был шибко ветер, волна кругом ходи, плот ломай, корова утонули, кони пропали, наша не виновата. Это русска казенна дело… Русский начальник в большом городе живет – думай: «Черт знает, как много плотов посылали – все пропало! Переселенцы как-то сами жить могут без корова, что-нибудь кушать тайга нашли». Начальник так думает. Его понимает: солдат машинка есть.
– Что такое машинка?
– Как что? Ну, его правда нету, обмани мало-мало.
– Это мошенник, а не машинка.
– Все равно машинка. Пароходе середка тоже машинка есть. Ветер не работает, люди не работают, его как-то сам ходи! Мало-мало обмани есть! Все равно машинка! Люди тоже такой есть. Начальник машинка тоже есть. Думай: «Разве моя дурак, тоже надо мало-мало мука, корова украли, богатым буду, а переселенцы там как-нибудь не пропадут». Вот такой казенна дело!
– Откуда ты об казне так понимаешь? – обиделся Федор не столько за начальников, сколько за себя, что лавочник смеет подозревать и его в таких же делах.
– Моя, Федор, грамотный. Все понимает, не дурак. Начальников не ругаю. Русские начальники шибко хорошие. Один-два люди плохой, а другой хороший, – поспешил Гао тут же похвалить русские власти, чтобы избавить себя от всяких неприятностей. – Русский царь – самый умный, сильный, хороший: его ума – два фунта. Моя царское дело понимаю. Его птица есть настоящая царская птица, у нее две головы есть, ума шибко много. Когда советоваться надо, царь ее спросит, птица скажет. Русский царь шибко сердитый, людей военных у него много, пушки есть большие, сколько хочешь людей могут убить. Наш пекинский царь тоже есть. Пекинский царь, как бог, силы много.
– Слышь, а вот у меня поясница тоже ломит, ноги мозжат… Как ты полагаешь, не дашь ли и мне луку-то?
– Можно!
– И муки. Ребята тоже прихварывают.
Но уловка Федору не удалась. Торговец отпустил ему муки, леденцов, луку, водки, но все записал в долговую книгу.
Как ни обидно было Федору брать в долг то, что другим давали даром, но он ни словом не обмолвился.
– Федор, помни, – говорил торгаш, – тут только Гао помогает. С нами ссориться нельзя. Если мы помогать не будем – пропадешь. Так всем скажи.
– Это тебя поколотили как следует, вот ты теперь и стараешься, – ответил несколько обиженный Федор. – Все-таки ты, Ваня, русского человека не знаешь! – расставаясь, сказал торговцу Барабанов.
– Ну как не знаю! – самоуверенно ответил Гао Да-пу. – Моя теперь сам русский. Разница нету.
Засветло Федор вернулся в Уральское с твердым намерением передать больным в целости и сохранности все продукты, посланные торговцами.
Глава тридцать третья
Больной, вспухший Тереха лежал на лавке.
– А где Пахом? – спросил Барабанов.
– В стайке, – ответила бледная Аксинья, перебиравшая какие-то грязные тряпки.
– Не хотели должать, да, видно, придется, – сказал Тереха. – Надо куда-то ехать.
Вошел Пахом. Барабанов заговорил с ним:
– Ты, сказывают, в Бельго собрался. Не езди, я тебе и муки и крупы привез, луку. Лавочник прислал. Узнал, что ты хвораешь, и прислал. Без денег, даром…
И Федор стал передавать Бормотовым подробности своего разговора с Гао.
Пахом заробел.
– Нет, не надо нам, – вдруг сказал он, выслушав рассказ Федора, – бог с ним… Уж как-нибудь пробьемся.
– Чудак! Ведь он даром, как помощь голодающим.
– Нет, не надо.
– Не бери, Пахом, – подхватил Тереха. – Не бери! Как-нибудь цингу перетерпим. И не езди… дорога плохая.
– Их обманывали, обманывали… – как бы извиняясь за мужиков, заговорила Аксинья.
Федор рассердился:
– Да ведь ты только что в лавку собирался. Как же так? Сам не лечишься, поднять себя не можешь и другим лечить не даешься? Что ты за человек? Возьми в толк! Мне-то как быть теперь? Куда эту муку? Я для тебя старался, вез, к пасхе тебе желал угождение сделать.
– Убей – не возьму! – стоял на своем Пахом. – Прощения просим.
– Быть не может, чтобы даром! – с уверенностью молвил Тереха.
– Вот тебе крест! Не веришь – съезди в Бельго… Не хочешь даром брать – пусть цену назначит. Мне какое дело? Человек просил передать.
– Не поедем в Бельго: делать там нечего.
– Да ты не бойся.
– Вот луковку возьму. За луковку ничего не станет, – ухмыльнулся Пахом и с видимым удовольствием взял пару луковиц. – А муки не надо.
– Гао обижается, что помощи не принимаем.
– Нам такой помощи не надо. Мы без нее проживем, – твердо ответил Пахом. – Все равно теперь уж скоро весна. Не знаю, сплав вовремя придет, нет ли… Парень-то кормит нас, мясо таскает, – кивнул отец на Илюшку.
– Вот тварь, какой нравный у нас Пахом! – выходя, бормотал Федор. – Никак на его не угодишь, что ни делай, а он как раз поперек угадает.
С тех пор как отец и дядя заболели и перестали вырубать лес, Илюшка целыми днями пропадал в тайге. Казалось, он даже был доволен тем, что мужики заболели.
Ни у кого ничего не расспрашивая, он совершенствовался в охоте. В верховьях Додьги он убил кабана, сделал нарты и привез на себе мясо.
Сильный и выносливый, он ел сырое мясо, сырую рыбу, глодал какую-то кору в тайге и цинге не поддавался.
Илюшка давно поглядывал на Дельдику. Впервые увидев ее, он, словно изумившись, долго смотрел ей вслед. Встретив ее другой раз при ребятах, он поймал девочку и натер ей уши снегом. Маленькая гольдка закричала, рассердилась и полезла царапаться. Илюшке стало стыдно драться с девчонкой – он убежал.
– Она тебе морду маленько покорябала, – насмехались ребята.
Русские девчонки прибежали к Анге жаловаться:
– Тетя, вашу Дуньку мальчишки обижают.
– Тебя обижали? – спросила Анга.
Дельдика молчала. Ее острые черные глаза смотрели твердо и открыто.
Однажды Илюшка наловил рябчиков. Аксинья велела несколько штук отнести Анге. Бердышовой дома не было: она строила балаган в тайге. Илюшка отдал рябчиков Дельдике и засмотрелся на нее. Гольдка вдруг засуетилась, достала крупных кустовых орехов и угостила ими Илюшку.
На другой день Санка, не желая уступить товарищу в озорстве, поймал Дельдику на улице и опустил ей ледяшку за ворот. Подбежал Илюшка и сильно ударил Санку по уху. С тех пор все смеялись над Илюшкой и дразнили его гольдячкой.
– Илья Бормотов за Дунькой ухлестывает!