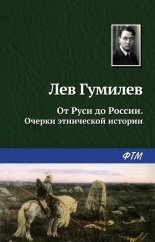Гори огнем Пелевин Александр

– Степанов привез из Малой Вишеры.
– Ну дела! Про Степанова не знали. Какой хитрый жук оказался, а, товарищ Афанасьев? – обратился он к полковнику. – Что, узнаем у него, где самогон достал?
Полковник кивнул.
Полетаев достал чистый лист бумаги и карандаш, поправил очки, снова посмотрел на Гуляева:
– Как в целом можете охарактеризовать полковника Ильинского?
Здесь Гуляев не стал бы молчать, даже если б хотел.
– Пьяница, – четко ответил он. – Пьяница, разложившийся элемент. Орет на людей не по делу, провоцирует ссоры и драки. Я видел, как в начале января он, пьяный, ударил по лицу красноармейца, фамилии его не помню, за то, что тот не выполнил воинское приветствие при встрече. Самодур.
Полетаев быстро записывал все карандашом.
– В общем, дурной пример, значит, подает? – спросил он, заканчивая писать.
– Так точно.
Полетаев протянул бумагу Гуляеву, дал карандаш:
– Подпишите.
Гуляев быстрым росчерком поставил свою подпись.
Полетаев с удовольствием вложил бумагу в папку и закрыл ее.
– Вы, товарищ Гуляев, свободны. Объявляю вам благодарность от особого отдела. Вы молодец, что мало пьете и наблюдаете за остальными. Я бы с вами еще поработал. Наблюдайте там время от времени… Разложение в армии надо пресекать.
Гуляев докурил папиросу, ткнул окурок в пепельницу из консервной банки.
– Наблюдать? – переспросил он.
– Ну да. Кто пьет, кто в карты играет, кто панику разводит… А мы вам тоже поможем, в случае чего. Может, с представлением к награде все же срастется, а?
Гуляев дважды кивнул, не глядя Полетаеву в глаза, потом поднял голову и тихо ответил:
– Так точно, товарищ капитан.
– Вот и славно. Свободны! Я за вами пришлю в следующее воскресенье. Всегда лучше быть друзьями, верно?
И подмигнул.
Когда Гуляев вышел из избы, он увидел, что перестал идти снег и посветлели облака.
На той самой пьянке полковник Ильинский, проиграв френч, обрушил свою злость не на Степанова, с которым он играл в карты, а почему-то на самого Гуляева. Стал вдруг ни с того ни с сего кричать, что он недотепа, сосунок, прошел офицерские курсы и не видел настоящего ада войны, а он-то, Ильинский, прошел Финскую и видел такое… Гуляев не возражал. Слушал и молчал.
«Вот тебе и сосунок», – подумал Гуляев и пошел к грузовику.
Ивану нравилось думать о том, как ловко он смог умыть этого урода.
Из воспоминаний Героя Советского Союза сержанта Владимира Русанова, 1960 год
…На Волховском фронте я был простым красноармейцем. В июле 1942-го, когда разгром Второй Ударной был уже очевиден, нашим взводом командовал старший лейтенант Гуляев, мы пытались выйти болотами из окружения.
Что я могу о нем сказать? С самого начала я чувствовал в нем какую-то гнильцу и уже сильно позже, после войны, узнал, что он перешел к власовцам. Сейчас трудно о таких писать. Скажешь, мол, что хороший командир – так заклюют, что не рассмотрели, в нем врага. А напишешь, что человек был гниль – спросят, почему не доложили. Но человек был гниль.
Раскрылся не сразу, конечно. Командовал хорошо, тут не отнять. Но складывалось ощущение, что, когда он шел в атаку, он делал это… от испугу, что ли, или от безысходности. Отчаянный, конечно, был. Не всегда считался с потерями.
Был вот случай: Гуляев как-то на смотре нашел у одного бойца немецкую листовку с «пропуском» для сдачи в плен. Листовку он изъял и сказал, что не доложит начальству, если тот поделится с ним пайком. Вот такой был человек – ради половины пайка… Время тогда уже было сложное, формировался котел.
А последний раз Гуляева я видел при попытке выйти из окружения – уже тогда, при полном разгроме, в начале июля. Все страшно голодные, измученные, еле передвигались, а немцы нас еще и с минометов утюжили. Мы потеряли почти весь взвод и отходили обратно на позиции. Было нас трое – я, Гуляев да красноармеец Шишаков, сильно контуженный. Гуляев устал идти, прилег и приказал мне двигаться дальше вместе с Шишаковым.
На позициях мы с Шишаковым никого не обнаружили. Потом уже прибились к небольшому отряду. Через день с тяжелыми боями сумели наконец прорваться к своим.
Глава третья
В темном полуподвальном баре вечер только начинался. Один офицер был еще трезв, другой уже неприлично трезв – так Фролов называл состояние, когда ты вроде как и выпил по-человечески, но все еще сохраняешь трезвый рассудок и мир тебе отвратителен. Еще один дремал за столом. В уголке сидели двое в гражданском. Они мельком взглянули на русских и вернулись к своим делам. Власовцев тут уже хорошо знали. В местном гестапо привыкли, что проблем от них можно не ждать – знают свое место.
Из мембраны патефона звучал голос Эрика Хелгара[5].
Едва Гуляев, Фролов и Бурматов заняли угловой столик, к ним подскочила бойкая полуодетая девица и принялась щебетать на ломаном немецком с отчетливым южнославянским говором.
Иван виновато улыбнулся и развел руками – мол, не до тебя. Девица все поняла, нахмурилась и отошла. А напоследок обернулась к ним и спросила по-русски:
– Водки?
Все трое кивнули.
С графином и тремя лафитничками подбежала уже другая девица – полячка, знакомая Гуляеву еще с прошлых визитов. С дежурной улыбкой накрыла на стол, забрала деньги.
На закуску попросили соленых огурцов и жареных колбасок.
– Огурцы тут говно, – сказал Бурматов, разливая водку по лафитникам. – По нашим скучаю.
– Ты это, – ответил Гуляев. – С такими фразами осторожнее. «По нашим скучаю». Могут не так понять.
– По огурцам, конечно, – усмехнулся Бурматов. – По огурцам. Мама моя, царствие небесное, такие в бочке солила. Я даже, когда еще не пил, за обе щеки уламывал.
– А пить когда начал? – спросил Фролов.
– А как в армию пошел, так и начал. До того ни-ни. С тех пор огурцов маминых так и не видел. Да и маму тоже. В тридцать пятом умерла. На похороны в Рязань съездил. А сейчас когда еще в Рязани окажусь…
– Ну, кончится война… – сказал Гуляев.
– Кончится-то она всяко кончится, – и как будто хотел договорить, но не стал. – Ладно, вздрогнем.
Чокнулись, выпили, закусили огурцами.
Девица с южнославянским говором пыталась охмурить неприлично трезвого офицера в другом углу. Тот отмахивался.
Спустя полчаса в бар ворвался Цвайгерт, и не один, а с двумя хмельными лейтенантами. Майор явно успел догнаться алкоголем и, судя по необыкновенной бодрости, чем-то еще.
– Вот они! – улыбаясь во все зубы, Цвайгерт показал лейтенантам на русских. – Шли по улице и русские песни пели! Звери, друзья, они просто звери!
Он совсем не походил на того Цвайгерта, которого они видели на дороге – ни капли сна в глазу, веселые глаза, развязная походка, безобразное красное лицо перекошено дикой улыбкой, а бельмо будто еще сильнее помутнело.
– Они назвали свой боевой корабль в честь иностранцев, которые пришли править ими! – продолжал веселиться майор. – Не удивлюсь, если они еще ходят в атаку под музыку Вагнера.
Гуляев напрягся. Майор явно что-то принял, и его поведение могло оказаться непредсказуемым. Кокаин? Ну да, точно, и движения дерганые, и настроение слишком приподнятое… Иначе он бы спал на ходу.
Цвайгерт притащил три стула, подсел к власовцам, пригласил лейтенантов. Те сняли фуражки, майор же остался в ней, свернутой набекрень, и в расстегнутом кителе. Теперь Гуляев увидел, что он еще и шмыгает носом. Что ж, понятно.
– Что вы пьете? Господи, водку! Водку! Вы в России водки не напились?
– Вы же сами хотели пить только водку и ничего, кроме водки, – ответил Гуляев.
– А-а… Это… – Цвайгерт засверкал глазами. – Понимаете, я очень ветреный и внезапный человек. Война, друзья! Война! Что только она может сделать… Ах да. Друзья, выкладывайте.
Лейтенанты, как по команде, открыли походные сумки.
Гуляев не думал, что в сумках может уместиться столько бутылок.
Спустя полминуты стол оказался заставлен тремя бутылками французского коньяка, рейнским вином, ветчиной, шоколадными плитками…
– Угощайтесь, берите все! – сказал Цвайгерт. – Не жалейте, у меня еще много такого.
Персонал заведения не обращал на это ровно никакого внимания. Видимо, Цвайгерт был у них совсем своим. Даже двое в штатском не взглянули на майора.
Фролов, увидав знакомый французский коньяк, принялся открывать бутылку.
– Познакомьте нас с вашими друзьями, герр Цвайгерт, – сказал он, разливая коньяк.
– Совсем забыл, прошу прощения! Но не имеет никакого значения, как их зовут. Они скоро уйдут. Вы даже забудете, как они выглядели.
Один из лейтенантов вдруг взглянул на часы, встал из-за стола, надел фуражку и совершенно чистым, трезвым голосом сказал:
– Прошу простить, у нас дела. По долгу службы.
Второй тоже встал и надел фуражку, ничего не сказав.
Оба откланялись, вытянули руки в приветствии и пошли к выходу.
Когда за ними захлопнулась дверь, Гуляев вдруг понял, что и правда не помнит, как они выглядели: «Цвет волос? Глаза? Лица? Телосложение? Стройные, полные? Рост? Тьфу! Как будто они как пришли, так и ушли с размытыми пятнами вместо лиц. Что за чертовщина? Как…»
– Ты помнишь, как они выглядели? – спросил он шепотом у Бурматова.
Полковник пожал плечами:
– Как-то не обратил внимания.
– Да что вы к ним прицепились! – вскрикнул Цвайгерт. – Ну были и были. Это не имеет ровно никакого значения. Давайте пить!
И немедленно присосался к открытой Фроловым бутылке коньяка.
– Я же вам налил… – сказал тот.
Цвайгерт не ответил. Он сделал, кажется, глотков десять.
– Как воду пьет, – прошептал Бурматов Гуляеву.
Майор закончил пить, вытер ладонью лицо и ответил:
– Война, друзья. Бессердечная тварь, война. Вот что она делает с людьми.
Шмыгнул носом, подмигнул всем троим и вновь присосался к бутылке.
Дождавшись, когда он перестанет пить, Бурматов впервые заговорил с Цвайгертом, спросив на ломаном немецком:
– Извините, где вы воевали?
– Везде! – выпалил Цвайгерт и шмыгнул носом.
– Это как? – переспросил Гуляев.
– Друзья называют меня духом войны, потому что я везде, – и засмеялся. – Шучу. Я воевал в Польше, во Франции, год провел на Восточном фронте. Воевал с вами, да-да, с вами. Жизнь помотала меня в разные стороны. Война, война… А вы почему не пьете?
Гуляев и Бурматов залпом выпили коньяк, Фролов сделал пару глотков.
– А где именно на Восточном фронте воевали? – уточнил Фролов.
– Я получил это, – он указал на Железный крест, – в битве за Волхов.
Гуляев поперхнулся коньяком.
– Я там был, – сказал он. – Вторая Ударная армия. Попал в плен в начале июля сорок второго.
– Не попали, а сдались, – с улыбкой поправил Цвайгерт.
Иван неуклюже хмыкнул и снова выпил.
– Да, были времена, – продолжал майор. – Может, и встречались там, как знать? Вот, взгляните. Это была настоящая жопа мира!
Из кармана Цвайгерт вытащил небольшую желтоватую фотокарточку. Выложил на стол, повернув к Гуляеву.
На фотокарточке действительно стояли Цвайгерт и двое его сослуживцев, уже в летней форме, а значит, незадолго до разгрома Второй Ударной. А на заднем плане – выложенная досками просека в березовом лесу и огромная табличка с надписью «Здесь начинается жопа мира»[6].
– Да, это под Тесово-Нетыльским. Там мы и стояли, – сказал Гуляев, возвращая фотокарточку. – Это действительно была жопа мира.
– Для всех, мой друг. Для всех, – ответил Цвайгерт. – О, девочки!
Две невесть откуда взявшиеся полуголые девки в мехах и жемчугах, стройные, разукрашенные, сели по сторонам от Цвайгерта на стулья, оставленные лейтенантами. Захохотали, стали обнимать его, целовать в щеки и призывно поглядывать на власовцев.
– Герр майор, герр майор! – щебетали они. – Как давно вы у нас не были! Мы скучали, да-да, очень скучали!
Гуляев не видел их здесь раньше; говорили они, в отличие от остальных работниц, на чистейшем немецком, да и выглядели не в сравнение краше.
Цвайгерт сально усмехнулся, достал из кармана кителя несколько купюр, раздал девицам.
– Попозже, дорогие, попозже, – говорил он им, шмыгая носом. – И позовите потом подруг, моих друзей тоже не оставьте. Сегодня все для них! Сегодня они короли!
Гуляев завороженно смотрел на Цвайгерта – пьяного, под кокаином, в расстегнутом кителе, с двумя девицами – и поймал себя на чувстве зависти. Он хотел быть сейчас на его месте. Хотел быть таким же. Откуда у него столько денег?..
– Сегодня у вас будет королевский вечер и королевская ночь, – сказал майор, будто услышав его мысли. – Клянусь, вы в жизни такого не испытывали.
Девицы взяли деньги и ушли, помахав на прощание тонкими ручками всем троим.
Как только они исчезли, Гуляев понял, что опять не помнит, как они выглядели. Прямо как с теми лейтенантами. Да, красивые. Но как…
Власовцы переглянулись, подумав об одном и том же. Всем троим это уже казалось слишком странным. Но в следующие несколько секунд Цвайгерт усилил это ощущение до максимума.
– Грета! – Он хлопнул в ладоши. – Поднос!
Девушка по имени Грета (ее Гуляев тоже раньше не видел) тут же возникла за правым плечом Цвайгерта со сверкающим серебряным подносом, со звоном поставила его на стол.
Майор сунул ей в руку смятую купюру и извлек из кармана кителя плоскую жестяную баночку из-под помады для волос. Открыл ее одним движением, поставил на стол рядом с подносом.
Баночка оказалась наполненной белым порошком.
Не глядя на вытянувшиеся в удивлении лица собеседников, достал из кармана перочинный нож, высыпал порошок на поднос, принялся аккуратно ровнять четыре жирные полосы.
– Нет-нет, – замотал головой Бурматов. – Только не это.
Цвайгерт, не глядя, придвинул его порцию к своей.
– Я тоже, – сказал Фролов. – Спасибо, но…
Его порцию Цвайгерт тоже прибавил к своей. Получилась чудовищная доза, которая свалила бы с ног лошадь. Он с вызовом посмотрел на Гуляева.
Тот смутился.
– Я… Мне чуть поменьше.
Майор молча кивнул и отнял ножом часть дозы Ивана, тоже прибавил к своей. Свернул в трубочку купюру, протянул перед собой.
– Я выпью для храбрости, – сказал Гуляев и присосался к бутылке коньяка, точно как Цвайгерт.
Майор с одобрением ухмыльнулся. Фролов и Бурматов вернулись к водке.
Спустя десять минут к ним, взбодрившимся и веселым, подошел неприлично трезвый офицер, до того косо поглядывавший на всю компанию.
На власовцев он не смотрел, все его внимание теперь было приковано к Цвайгерту. В глазах читалась бычья ненависть.
Майор не удостоил его взглядом. Он чертил ножом новую порцию.
– Мы потеряли Ржев, – сказал офицер.
Цвайгерт не ответил.
– Мы потеряли Ржев, – офицер не унимался.
Цвайгерт поднял на него ополоумевший взгляд и улыбнулся во все зубы, будто не понимая, о чем речь, хотя он, очевидно, прекрасно все понял.
– Я знаю, – ответил он.
– Вы тут пьете, нюхаете, баб за сиськи дергаете. Сколько наших ребят полегло. Вы слышали про Ржев?
– Слышал, – сказал Цвайгерт и продолжил чертить дорожку.
Гуляев, Фролов и Бурматов притихли и решили не вмешиваться.
– Мало того, – продолжал офицер. – Вы тут пьете с ними. С этими свиньями.
Гуляев сжал зубы.
– С этим большевистским отродьем. Какого черта они вообще тут делают! Вы верите этим предателям? Вы с ними, значит, весело попиваете коньяк, пока наши ребята гибнут на фронтах? Скоты!
Цвайгерт не ответил.
Тогда офицер вдруг резко схватил край подноса и с лязгом опрокинул его на пол.
В воздухе поднялась белая пыль. Потом она медленно осела на столе, на кителе Цвайгерта и его фуражке.
Лицо майора оставалось совершенно невозмутимым, он снял фуражку, слегка отряхнул ее, отложил в сторону, пригладил волосы и встал.
– Как вас зовут? – спросил он у офицера.
– Аксель Вебер, Семьдесят шестая пехотная. Воевал под…
– Сталинградом, – перебил Цвайгерт. – Эвакуирован раненым. Я знаю, как вас ранило. Вы самострел.
– Ч-что?.. – У Вебера глаза полезли на лоб.
– Об этом никто не знает, правда? Вы пытались застрелиться. Вам было очень страшно. Этот темный штабной подвал, эти постоянные обстрелы… Понимаю, дорогой мой. Понимаю. Смалодушничали. Вышли покурить зимним вечером на воздух и пустили пулю себе мимо сердца. Вы сами до сих пор не знаете, хотели покончить с собой или сделали это, чтобы выжить. Так бывает. Нашло что-то.
Вебер не знал, что ответить.
Власовцы замерли в пьяном изумлении.
– Правда, вы получили знак за ранение и уже несколько месяцев с гордостью рассказываете всем, что это был снайпер. Ну да, ну да. Хорошо, что ваш отец погиб в семнадцатом и не видел этого позора.
Побледневший Вебер схватился за край стула и с трудом уселся.
– Ничего страшного. – Цвайгерт дал ему бутылку коньяка. – Пейте сколько влезет. Какое дело вам теперь до Ржева? Пейте!
Вебер присосался к бутылке и начал пить без остановки. По его щекам текли слезы.
Когда он поставил бутылку на стол, Цвайгерт улыбнулся, похлопал его по плечу, резко сменил выражение лица и жестким тоном сказал:
– А теперь вон отсюда.
Вебер, всхлипывая, медленно встал, руки его дрожали. Шатаясь, он пошел к своему столу и уселся, непонимающе оглядываясь.
Возле их столика уже хлопотали девицы, они подметали рассыпанное и хихикали, поглядывая на власовцев.
Все это было дико, необычно, волшебно и вместе с тем чудовищно; все кружилось в вихре абсурдного танца: и музыка из патефона, и полуголые девки, и этот коньяк, и белая пыль в воздухе. Гуляева уносило. Он никогда не чувствовал себя таким счастливым. Никогда еще не было так пьяно и смело.
Он готов был отдать Цвайгерту всю свою жизнь, лишь бы это длилось вечно.
– Я готов отдать вам жизнь, – сказал он это вслух. – Лишь бы это длилось вечно.
Майор улыбнулся в ответ, не глядя на него, и чертил на подносе новую порцию.
Унесенный вихрем Гуляев не заметил, как две женщины в мехах утащили куда-то Фролова и Бурматова, а потом еще одна обняла его за плечо и прошептала на ухо с придыханием:
– Пойдем со мной, рыженький.
Роскошная, черноволосая, с пухлыми алыми губами. Валькирия.
Она взяла Гуляева за руку и повела в полутемный коридор, оклеенный алыми обоями. Гуляеву все виделось в неземном свете, искрилось, смеялось в ответ, и в этот момент он чувствовал себя богом.
Девица завела его в роскошную комнату, залитую бордовым светом, с огромной кроватью и охотничьим гобеленом на стене. Усадила на кровать, провела ладонью по лицу, поцеловала в щеку и игриво ткнула пальцем в кончик сломанного носа.
Гуляев зажмурился от счастья.
Девица легонько щелкнула его по носу и игриво захохотала.
– Я сейчас приду, рыженький, – сказала она. – Пять минут.
Встала и ушла, оглядываясь и смеясь.
Господи, думал Иван, куда же это я попал, что же это за счастье, почему мне так хорошо.
Он расстегнул китель и лег на кровать, широко расставил руки, представляя, будто он летит в этот темный потолок со старинной лепниной, в гобелен, в лес, на охоту, в сказочный мир.
Скрипнула дверь.
На пороге стоял Цвайгерт с «люгером» в руке.
Гуляев резко вскочил и сел на кровати.
Лицо Цвайгерта опять казалось другим, в нем не было и тени от былого веселья и развязности, глядел он строго и сурово.
– Гори огнем, – сказал он на чистом русском без малейшего акцента.
Прицелился и выстрелил Гуляеву в лоб.
Из статьи полковника РОА Владимира Бурматова в газете «Заря», март 1943 года
…Школа пропагандистов Русской освободительной армии в Дабендорфе скоро закончит обучение первого сбора. Курсанты, получив массу полезных знаний и умений, отправятся к русским военнопленным, чтобы рассказать им, как в Германии идут дела на самом деле.
Мы преподавали курсантам методику и практику пропагандистской деятельности читали лекции на темы «Германия», «Россия и большевизм», «Русское освободительное движение». Занимались строевой подготовкой, рассказывали, как найти правильный подход в общении с нашими соотечественниками. Проводили экскурсии по Берлину – к примеру, в прошлом номере вышел репортаж о посещении русскими курсантами пивоваренного завода.
Я горд, что принимаю участие в подготовке кадров для новой России. Уверен, что курсанты в самом деле станут элитой освободительного движения.
И вот что я хотел бы особо отметить незадолго до выпуска.
Друзья! Призывая соотечественников к оружию против большевизма, освободите свои души от ненависти.
Пусть ненависть к сталинской клике сплотит и воодушевит нас на поле боя. Но, разговаривая с нашими пленными братьями, покажите им, что сердца ваши горят любовью к России и русским. Надеждой на новую Россию. Верой в мужество русского солдата.
Мы ведем борьбу за построение России без большевиков, помещиков и капиталистов, в составе новой Европы под руководством Германии.
Мы сражаемся за восстановление частного землепользования, торговли и ремесленничества, за восстановление крупной промышленности. Россия под крылом Германии станет по-настоящему свободной и процветающей страной.
Наша задача – не разжечь в их сердцах ненависть, а пробудить подлинное русское национальное чувство.
Под руководством вождя Германии и новой Европы Адольфа Гитлера мы достигнем мира и согласия между народами.
Глава четвертая
Новорожденный просыпается в открытом гробу из черных обугленных досок, запах дыма бьет в ноздри.
Прямо над Новорожденным своды старого храма, размалеванные ужасными фресками. Нарисованный огонь пожирает людей, драконы терзают их скованные цепями тела, черти рубят мечами головы; круговерть огня, реки крови, и все это выцвело старинной мазней на облупленных сводах.
Вот толпа грешников ждет своей очереди у адских врат в виде пасти дракона; а вот жрет их живьем огромный змей, закованный в кандалы; а вот белый скелет верхом на трехголовом псе поражает людей трезубцем.
А в вышине храма, в самом центре, там, где должен быть купол, – огромная дыра, через которую светит ярко-алое небо с бордовыми облаками.
Сквозь пыльные витражи с картинами ада пробивается слабый бордовый свет.
Новорожденный смотрит на свое грязное голое тело. Это тело взрослого человека, но он знает, что имя ему – Новорожденный.
Больше он ничего не знает.
Он с трудом приподнимает руки, хватается за края гроба, гнилые доски крошатся под пальцами и разъезжаются в стороны. Гроб с треском ломается, и Новорожденный падает на холодный каменный пол церкви.
Первая мысль появляется в его голове, она будто нарисована черными печатными буквами прямо перед глазами: