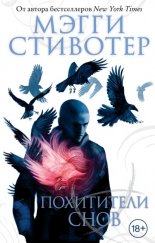И снова Оливия Страут Элизабет

Джек некоторое время изучал свой палец на ноге. Оторвавшись от этого занятия, он сказал:
– Ладно, давай снабдим тебя мобильником. Я его куплю и покажу, как им пользоваться. А теперь скажи, почему ты до сих пор не познакомилась со своим внуком?
Странная дрожь пробежала по спине Оливии, нечто вроде мимолетного ощущения невесомости. Этот человек, Джек Кеннисон, намерен купить ей сотовый телефон!
– Потому что меня не приглашали. Я же рассказывала тебе, как плохо все вышло, когда я навещала их в Нью-Йорке.
– Да, рассказывала. А ты их приглашала в гости?
– Нет. – Оливия покосилась на лампу с рюшами на подставке.
– Почему нет?
– Потому что у них трое детей, я тебе говорила. У нее два разных ребенка от двух разных отцов, а теперь еще маленький Генри – куда им путешествовать с таким выводком?
– Наверное, это нелегко, – склонил голову набок Джек. – Но с твоей стороны было бы очень любезно пригласить их.
– Им не требуется приглашения, они могут просто взять и приехать.
Джек подался вперед, локти на коленях, кулаки под подбородком.
– Оливия, иногда людям хочется, чтобы их пригласили. Я, например, был бы счастлив, если бы ты приглашала меня к себе, и почаще, но ты впустила меня в свой дом только один раз, когда я попросил об этом. Вот я и подумал, что ты не хочешь со мной связываться. Ты понимаешь?
Оливия шумно выдохнула:
– Мог бы и позвонить.
– Оливия, я же сказал, я звонил. Несколько раз, а поскольку ты отключила свой разбойничий автоответчик, ты ничего не знала о моих звонках. – Джек откинулся назад и погрозил ей пальцем: – Люди еще не научились читать твои мысли. Кроме того, я отправил тебе письмо по электронной почте.
– Ух ты, – отозвалась Оливия. – Хотя я бы не назвала кучку вопросительных знаков письмом.
– Ты мне нравишься, Оливия, – улыбнулся Джек и слегка покачал головой. – Не знаю почему, если честно. Но нравишься.
– Ух ты, – повторила Оливия, и ее опять бросило в жар.
Однако на этом их беседа не закончилась – напротив, оживилась. Они обсудили своих детей, а потом Джек поведал, как на днях его задержали за превышение скорости.
– Ты не поверишь, как они были грубы. Можно подумать, я был в розыске за убийство, так они оба со мной обращались. – Джек развел руками в недоумении.
– Наверное, они решили, что ты не местный, – сказала Оливия.
– Но у меня номера штата Мэн!
– Ну и что, – парировала Оливия. – Какой-то старикан разъезжает на хорошеньком спортивном автомобильчике. Они мигом смекнули, что ты не отсюда. – Оливия приподняла брови. – Я серьезно говорю, Джек. Неместного они за милю чуют. – Она взглянула на громадные часы, оставшиеся от Генри: – Уже поздно. – Оливия встала.
– Ты не могла бы остаться здесь сегодня? – Джек заерзал в кресле. – Нет, нет, не перебивай. В данный момент на мне подгузник по причине операции на простате, которую мне сделали незадолго до того, как Бетси поставили диагноз.
– Что? – изумилась Оливия.
– Я лишь пытаюсь тебя успокоить. Я не собираюсь к тебе приставать. Ты ведь знаешь, что такое «Надежные»?
– «Надежные»? – переспросила Оливия. – Ты о чем?.. А, ну да. – Она сообразила, что видела по телевизору рекламу этих подгузников для пожилых.
– Так вот на мне сейчас эти «Надежные», предназначенные для тех, кто писает в штаны. Для мужчин после операции на простате. Говорят, это пройдет, но пока не проходит. Оливия, я все это рассказываю лишь для того…
Она замахала руками – мол, все, хватит, я поняла.
– Бог ты мой, Джек, – сказала она. – Досталось тебе, однако. – Но при этом она почувствовала себя спокойнее.
– Почему бы тебе не остаться в гостевой комнате? – продолжил Джек. – А я устроюсь в гостевой на другом конце коридора. Я лишь хочу, Оливия, чтобы ты была здесь, когда я проснусь.
– И во сколько ты просыпаешься? К этому времени я вернусь. Встаю я рано. – Джек молчал, и она добавила: – У меня с собой нет ни ночной рубашки, ни зубной щетки. И, боюсь, я не сомкну глаз.
– Ясно, – кивнул Джек. – Насчет зубной щетки… у нас есть несколько новых, не пользованных, только не спрашивай, зачем нам столько. Бетси всегда покупала про запас, и я могу дать тебе футболку, если ты не возражаешь.
Оба молчали, и до Оливии наконец дошло: он хочет, чтобы она осталась здесь на всю ночь. И что ей делать? Вернуться в крысиную нору, где она ныне обретается? Именно. У порога она обернулась:
– Джек, послушай меня.
– Слушаю. – С кресла он не встал.
Оливия смотрела на дурацкую лампу с рюшами:
– Я больше не хочу столкнуться с тобой в продуктовом в тот момент, когда ты болтаешь с Бертой Бэбкок…
– Значит, ее зовут Берта Бэбкок. А я никак не мог вспомнить ее имя. – Джек выпрямился и хлопнул в ладоши. – Она только и говорит, что о погоде, Оливия. О погоде. Послушай, я всего лишь хотел бы, чтобы ты осталась здесь на ночь. Обещаю, ты будешь спать одна в отдельной комнате, как и я.
Она приблизилась к нему – да неужели? – но лишь затем, чтобы сказать:
– Увидимся утром, если хочешь.
Она распахнула дверь, и Джек наконец встал, подошел к порогу и помахал ей:
– Тогда до свидания.
– Спокойной ночи, Джек. – Она тоже махнула ему, задрав руку над головой.
Вечерний воздух обдал ее запахами травы, и к машине она шагала под пение лягушек. Взявшись за ручку дверцы, она подумала: «Оливия, какая же ты дура». Она представила себя дома валяющейся на кушетке в «комнате без лежачих полицейских», представила, как слушает радио до рассвета, приложив к уху транзисторный приемничек, и так каждую ночь после смерти Генри.
Оливия развернулась и пошла обратно. Нажала на кнопку звонка. Джек открыл дверь почти мгновенно.
– Уговорил, – сказала она.
Зубы она почистила новенькой щеткой, которую его несчастная покойная жена зачем-то купила (в доме Оливии никогда не водилось запасных зубных щеток), потом вошла в гостевую комнату с двуспальной кроватью, закрыла за собой дверь и надела широченную футболку, которую ей дал Джек. Футболка пахла свежевыстиранным бельем и чем-то еще – корицей? Она не пахла ее мужем Генри. «Большей глупости я в жизни не совершала, – подумала Оливия. И сразу передумала: – Нет, еще глупее было отправиться на тот занудный праздник к Марлин». Она аккуратно повесила свою одежду на стуле у кровати. Чувствовала она себя в общем неплохо. Оливия приоткрыла дверь до узкой щелочки и увидела, что Джек улегся на односпальной кровати в гостевой напротив.
– Джек, – позвала она.
– Да, Оливия? – откликнулся он.
– Это самая большая глупость в моей жизни. – Она не понимала, зачем это говорит.
– Самой большой глупостью было пойти на праздник в честь будущего ребенка, – крикнул он, и Оливия на миг остолбенела. – Единственное, что тебя извиняет, – роды, которые ты приняла, – уточнил Джек.
Она оставила дверь приоткрытой, забралась в постель и легла на бок, спиной к двери.
– Спокойной ночи, Джек, – почти проорала она.
– Спокойной ночи, Оливия.
Эта ночь!
Оливию будто качало на волнах вверх-вниз, подбрасывало высоко-высоко, а потом снизу надвигалась тьма, и Оливия в ужасе боролась с волной. Потому что она понимала, что ее жизнь – да что такое ее нынешняя жизнь, сплошное недоразумение, – и все же это ее жизнь, уж какая есть, и она могла стать иной, а могла и не стать, и оба варианта страшили ее невыразимо, но когда волна поднимала ее на гребне, она испытывала необычайную радость, хотя и недолгую, вскоре она падала вниз, в глубокие темные воды, – и так всю ночь, туда и обратно, вверх-вниз; Оливия измучилась, а сна ни в одном глазу.
Задремала она, лишь когда занялся рассвет.
– Доброе утро, – сказал Джек. Он стоял в дверях ее комнаты. Волосы всклокочены; махровый халат, темно-синий, доходил до середины лодыжек. Выглядел он непривычно, и Оливия почувствовала себя здесь чужой.
Отвернувшись, она дернула рукой:
– Уходи, я сплю.
Джек расхохотался. И что это были за звуки! Оливия ощущала их физически, они щекотали ей нервы. И в то же время ей было страшно, словно ее окунули в масло и поднесли зажженную спичку. Страх, завораживающий смех Джека – все это отдавало кошмаром, и параллельно ей чудилось, будто с огромной банки, в которой ее замариновали, вдруг слетела крышка.
– Я не шучу, – сказала Оливия, по-прежнему не глядя на Джека. – Вон сию же секунду.
И крепко зажмурилась. «Пожалуйста», – молча взывала она. Хотя точно не знала, о чем просит. «Пожалуйста», – повторила она про себя. Пожалуйста.
Уборка помещения
Кайли Каллаган, ученица восьмого класса, жила с матерью в маленькой квартирке на Драйер-роуд в городе Кросби, штат Мэн; отец ее умер два года назад. Мать, миниатюрная и вечно встревоженная женщина, не пожелала зависеть от трех старших дочерей – все замужние с детьми – и продала большой дом, в котором они жили на Мейпл-авеню, семейной паре из другого штата; новые владельцы полагали, что недвижимость досталась им невероятно дешево, и взялись за ремонт, наезжая по выходным. Дом на Мейпл-авеню стоял рядом со школой, в которой училась Кайли, и каждый день она делала изрядный крюк, лишь бы не проходить мимо здания, где в комнате окнами во двор умер ее отец.
Март только начался, и небо с утра заволокло тучами; солнце прорезалось, когда Кайли сидела на уроке английского. Подперев щеку ладонью, она думала о своем отце. Высшего образования он не получил, но в детстве Кайли слушала его рассказы о голоде, случившемся в Ирландии, и о хлебных законах, из-за которых мука и тем более готовый хлеб многим стали не по карману, – отец много о чем ей рассказывал, и сейчас в ее воображении люди умирали на ирландских улицах, падали на обочинах и лежали, не в силах подняться.
Миссис Рингроуз стояла перед классом со словарем, держа его обеими руками поверх выпирающей груди.
– Употребите слово трижды, и оно ваше. – Она всегда так говорила, когда они заучивали новые слова. Миссис Рингроуз была старой, седой и в очках, криво сидевших у нее на носу, очки были в золотой оправе. – Строптивый, – произнесла миссис Рингроуз и обвела взглядом учеников, сидевших за столами; солнечный свет вспыхивал на стеклах ее очков. – Кристина?
Бедная Кристина Лабе ничего не сумела придумать:
– М-м, я не знаю.
Миссис Рингроуз это не понравилось.
– Кайли?
Девочка села прямо.
– Собака была реально строптивой.
– Годится, – сказала миссис Рингроуз. – Еще два.
В городе почти все были наслышаны о супругах Рингроуз, и Кайли в том числе. В День благодарения они одевались пилигримами и обходили все школы штата, читая лекции о первом Дне благодарения в истории Новой Англии; ради этой деятельности миссис Рингроуз всегда отпрашивалась у директора школы на два дня, и это были ее единственные выходные за год.
– Дети расшумелись, играя, и стали очень строптивыми, – сказала Кайли.
Тень недовольства пробежала по лицу миссис Рингроуз.
– Еще одно, Кайли, – и слово твое.
Кайли знала, поскольку миссис Рингроуз часто об этом упоминала, что один из предков миссис Рингроуз приплыл из Англии на «Мэйфлауэре» много лет назад.
Кайли закрыла глаза на секунду, две, а затем выдала третье предложение:
– Мой отец говорил, что англичане считали ирландцев строптивыми.
Миссис Рингроуз возвела глаза к потолку и захлопнула словарь.
– Хорошо, фраза довольно удачная. Отныне слово в твоем распоряжении, Кайли.
Сидя в классе на втором этаже, пока полуденное солнце ломилось в окно, Кайли чувствовала пустоту в желудке, но не от голода, и хотя она сама не понимала почему, но это ощущение было как-то связано с миссис Рингроуз, которую звали Дорис.
Дорис Рингроуз, а ее мужа звали Фил. Детей у них не было.
– Подойди ко мне после урока, – сказала миссис Рингроуз ей, Кайли, одной из лучших своих учениц.
Неделей ранее Кайли, вернувшись домой после уборки в доме Берты Бэбкок – она убирала там каждую среду после школы, – услыхала голоса на кухне: ее старшая сестра Бренда беседовала с матерью. Кайли подошла к двери их квартиры на полутемной площадке, крутая лестница, по которой она поднялась, освещалась одной-единственной лампочкой, а рюкзак с учебниками едва не сваливался у нее со спины, и тут она услышала, как Бренда сказала:
– Но, мама, он хочет меня постоянно, и мне это уже слегка опротивело.
На что ее мать ответила:
– Бренда, он – твой муж, ты обязана это делать.
Кайли замялась у двери, но мать с сестрой замолчали, и когда девочка вошла, Бренда поднялась ей навстречу:
– Привет, лапа. Где ты так припозднилась?
Бренда была намного старше Кайли, и раньше она была красивой женщиной с темно-рыжими волосами и гладкой кожей, но в последнее время коричневые тени залегли под глазами, и вдобавок она потолстела.
– Убиралась у Берты Бэбкок. – Кайли сбросила рюкзак. – Терпеть не могу. – Сняв куртку, Кайли пояснила: – Ее терпеть не могу.
– Не переживай, – сказала мать, закуривая сигарету, – она тебя тоже на дух не выносит. Ты ирландка, а значит, для нее ты – прислуга и больше никто. – Бросив спичку в чайное блюдце, мать повернулась к Бренде: – Она конгрегационалистка, эта Берта Бэбкок. – И со значением кивнула.
Бренда натянула свой синий кардиган, на животе он не сходился.
– И все же хорошо, что ты этим занимаешься, – подмигнула она младшей сестре.
– Миссис Рингроуз тоже хочет нанять меня убираться у нее, – сообщила Кайли. – Ей миссис Бэбкок меня рекомендовала.
– Что ж, прекрасно, – сказала мать безразличным тоном, а возможно, ей и вправду было все равно.
– Еще одна конгрегационалистка? – шутливо спросила Бренда.
– По-моему, да, – ответила Кайли.
Кайли отправилась в свою комнату; старая деревянная дверь не закрывалась до конца, и Кайли, слушая, как разговаривают мать с сестрой – теперь приглушенными голосами, – догадалась, что речь идет о сексе. Сестра больше не хотела секса с Эдом, и Кайли могла ее понять. Он был нормальный парень, ее зять, но маленького роста и с плохими зубами, и у Кайли возникало странное ощущение в животе при мысли, что он постоянно этого хочет. Кайли села на кровать и подумала, что никогда – и ни за что на свете – не выйдет за парня вроде Эда.
И она никогда не состарится, как Берта Бэбкок. У этой вдовы пол на кухне был выложен черной и белой плиткой, и каждую неделю хозяйка заставляла Кайли чистить между плитками зубной щеткой, Кайли этого просто не выносила. Ей казалось, что дом Бэбкок провонял одиночеством, от которого нет спасения.
На пороге появилась Бренда. Комната Кайли была маленькой и освещалась лампочкой, висевшей под потолком, свет падал в основном на розовое бугристое одеяло на кровати.
– Мне пора, – сказала Бренда, надевая пальто, – дети ждут ужина. (Бренда жила за два города от них.) Мама говорит, ты по-прежнему не играешь на пианино, – продолжила Бренда и спросила заговорщицким шепотом: – Не продать ли его, лапа?
Кайли встала, чтобы обнять сестру на прощанье.
– Нет, пожалуйста, не допусти, чтобы она его продала… Я буду играть, обещаю.
На пианино играл отец, но когда она сама научилась играть, он заявил, что предпочитает слушать музыку в ее исполнении. «Я люблю тебя, и я люблю пианино, и от такого сочетания я чувствую себя на седьмом небе», – говорил отец, стоя в дверях их прежней гостиной.
Вечером Кайли села за пианино, старое, черное. Играла она плохо, потому что давно не касалась клавиш, и даже сонаты Моцарта, те, что попроще, не давались ей с той же легкостью, как раньше. Кайли опустила крышку на клавиатуру.
– Я буду играть чаще, – сказала она матери, которая сидела в углу и курила сигарету, чуть-чуть приоткрыв окно; мать не ответила.
Остаток вечера Кайли провела в своей комнате за компьютером, слушая речь Мартина Лютера Кинга «У меня есть мечта». Это было домашнее задание по обществознанию, но отец рассказывал ей и об этой речи тоже.
В доме Рингроузов тоже веяло одиночеством. Но запах был другой, не как у Берты Бэбкок, и дом был поменьше – он стоял на Кейп-Ривер-роуд, и у входа висела табличка с цифрами 1742, – а кроме того, там было почище и Кайли не приходилось надрываться. В первый день миссис Рингроуз выдала ей инструкции: каждый раз она должна мыть дрова в камине очищающим средством, разведенным в ведре теплой воды, – дрова были березовыми с посеревшей белой корой. А деревянные полы нужно мыть, стоя на четвереньках, и Кайли не возразила: она была юной, да и с безразмерной кухней Бэбкок ничто не могло сравниться. В гостиной на отдельном столике красовалась деревянная модель «Мэйфлауэра». Кайли запретили к ней прикасаться. «Не тро-гай», – по складам произнесла миссис Рингроуз, воздев указательный палец. Затем она сообщила, что ее предок по прямой линии, Майлз Стэндиш, приплыл в Америку на этом корабле, и если приглядеться – миссис Рингроуз, щурясь, уставилась на модель, – можно различить помещение, где находились люди, и Кайли пробормотала: «Конечно», хотя думала она об отце и о том, как в комнате окнами во двор во время его болезни они вдвоем смотрели фильм о Майкле Коллинзе, как зеленый танк англичан въехал в Крок-парк и начал расстреливать ирландцев. Кайли отодвинулась от миссис Рингроуз. Вблизи ей были видны розовые проплешины средь белых волос учительницы, и Кайли опять затошнило.
Но самое странное из того, что случилось в первый день, было связано с подвенечным платьем миссис Рингроуз – она заставила Кайли примерить его. Платье, местами пожелтевшее, лежало на кровати в спальне учительницы. У супругов Рингроуз были раздельные спальни и туалетные комнаты.
– Просто примерь, Кайли, – велела миссис Рингроуз. – У тебя такой же размер, какой был у меня, когда я выходила замуж, и мне хочется увидеть это платье на ком-нибудь. – Она наклонила голову набок: – Давай-ка.
Кайли огляделась и снова перевела взгляд на миссис Рингроуз, затем начала медленно расстегивать блузку. Миссис Рингроуз стояла неподвижно, наблюдая за ней, и Кайли ничего не оставалось, как снять блузку, а потом и джинсы, после того как она сбросила кроссовки. В трусах и лифчике она стояла перед этой женщиной в пятне солнечного света, похожего на разбавленное молоко, и чувствовала, как кожа на руках и ногах покрывается пупырышками. Миссис Рингроуз подняла платье над головой Кайли, и она легко влезла в него, платье ей нигде не жало и не топорщилось.
Сняв очки, миссис Рингроуз утерла глаза. Щеки у нее были влажными, когда она вернула очки на место.
– Послушай, – миссис Рингроуз положила ладонь на плечо Кайли, – я организовала группу при нашей церкви под названием «Серебряные квадраты». У нас уже существует группа «Золотой круг», но они несколько старомодны, поэтому я придумала «Серебряные квадраты», и в июне мы устраиваем показ мод, и я хочу, чтобы на этом мероприятии ты играла на пианино, одетая в мое подвенечное платье.
Когда Кайли переодевалась в свою одежду, эта женщина не спускала с нее глаз.
Больше во время уборки Кайли с ней не сталкивалась, миссис Рингроуз никогда не было дома.
– Я занята «Серебряными квадратами», – говорила она.
Кайли, как ей было сказано, доставала ключ из-под коврика и входила. Десятидолларовая купюра неизменно лежала на кухонном столе в ожидании уборщицы.
И однако дом Рингроузов угнетал Кайли как никакое другое жилье.
К примеру: туалетная комната мистера Рингроуза напоминала «удобства во дворе». Над канализационным стоком вместо унитаза поставили темно-зеленый бочонок, и получалось так, что ты сидишь над дырой в полу. Стены были обшиты грубыми досками. Кайли никогда не разговаривала с мистером Рингроузом, во время уборки он отсутствовал, но в лицо она его знала, потому что видела его в городе вместе с миссис Рингроуз. Он был высоким, старым, седовласым; много лет он работал в Портленде, в каком-то историческом музее, но давно вышел на пенсию. В его туалетной комнате не было раковины, только доски, как в хлеву, и темно-зеленый бочонок в центре. У миссис Рингроуз туалетная комната была нормальной, с фаянсовой раковиной и полочкой, где лежали щетка и заколки для волос.
В гостиной стоял диван, небольшой и обитый настолько туго, что посередке круглился, и Кайли думала, что с него можно скатываться, как с горки. Такими же были и кресла. Обивка темно-розовая, а на темно-зеленых стенах висели картины с изображениями людей, походивших на причудливых кукол, – вроде бы эти люди взрослые, но уж очень низенькие, а их одежда и шляпы явно из другой эпохи. Эти картинки Кайли терпеть не могла.
Они ее бесили.
– Откуда она знает, что ты играешь на пианино? – спросила Кристина Лабе.
Они с Кайли шагали по тротуару к центру города, позади осталась пончиковая, и Кристина ела пончик, густо посыпанный корицей. Глаза Кристины были подведены темно-синим карандашом, и кое-где краска размазалась.
– Понятия не имею. – Кайли глядела на проезжавшие мимо автомобили. – Может, слышала, как я играю на пианино, которое стоит в спортзале. Не знаю, откуда она знает.
– Она больная на всю голову, – сказала Кристина. – И муж не лучше. Нормальные люди не станут каждый год наряжаться тупыми пилигримами и вещать о тупом сраном «Мэйфлауэре», на котором их предки сюда приканали. А потом читать вслух тупую поэму Лонгфелло «Сватовство Майлза Стэндиша», при этом ребята зевают так, что чуть пасть не рвется.
– Ты бы видела ее дом, – сказала Кайли и описала туалетную комнату мистера Рингроуза.
Кристина выпучила глаза:
– Нифига себе.
Кайли коснулась пальцем своего нижнего века, намекая подруге, что у той косметика поехала, в ответ Кристина равнодушно пожала плечами и откусила от пончика.
В субботу днем Кайли села на велосипед и отправилась через мост в лечебницу для престарелых, где лежала мисс Минни. В середине марта было еще холодно, но снег почти стаял, и велик Кайли подскакивал на ветках, валявшихся на тротуаре; руки у нее мерзли, потому что она была без перчаток. Прежде мисс Минни жила в квартире над ними, в доме, где теперь обретались Кайли с матерью. Мисс Минни, крошечная старушка с огромными черными глазами, была старожилкой этого дома и первой, у кого Кайли начала прибираться. Кайли потрясло, сколько грязи может скопиться, особенно на кухне, если долго не убирать. Поэтому Кайли скребла и драила, а мисс Минни заглядывала в дверь и восклицала: «Ой, как чудесно у тебя получается, Кайли!» – и хлопала в ладоши. Она искренне восхищалась работой девочки, и Кайли полюбила ее. Когда Кайли заканчивала, мисс Минни наливала ей апельсинового сока, садилась напротив и, чуть подавшись вперед, расспрашивала про учебу и школьных друзей; никто не задавал Кайли подобных вопросов с тех пор, как умер ее отец.
Прошлой осенью у мисс Минни случился удар, и Кайли ездила навещать ее в лечебнице для престарелых, пусть даже в этом заведении было темно и плохо пахло. Мисс Минни всегда благодарила девочку, когда та приезжала. «Все нормально, – отвечала Кайли, – мне нравится видеться с вами», и спустя несколько посещений она, уходя, поцеловала мисс Минни в щеку. Огромные черные глаза старой леди просияли.
Кайли поставила велосипед на замок во дворе лечебницы, обогнула здание и столкнулась у крыльца с выходившей миссис Киттеридж.
– Привет, вот мы и снова встретились, – сказала миссис Киттеридж.
Женщиной она была крупной, высокой; Кайли познакомилась с ней месяц назад и поначалу слегка ее побаивалась. Миссис Киттеридж распахнула перед ней входную дверь:
– Экая ты! Совсем ребенок, а ездишь в такое место навещать больного. Господи, надеюсь, черт возьми, что когда и я попаду сюда, то кто-нибудь меня просто пристрелит.
– Да, – кивнула Кайли, – я тоже надеюсь. То есть я хочу сказать, надеюсь, что меня тоже пристрелят.
Миссис Киттеридж надела солнцезащитные очки и смерила Кайли взглядом.
– Ну, тебе еще рановато об этом беспокоиться. – Она отпустила дверь, и та захлопнулась, они остались вдвоем под бледным мартовским солнцем. – Я тут поразнюхивала, уж извини, и выяснила, что ты – девочка Каллаганов. Я учила твоих сестер в школе много лет назад. А ваш папа был нашим почтальоном. Хороший был человек. Мне жаль, что он умер.
– Спасибо, – сказала Кайли, и у нее потеплело внутри от того, что эта женщина знает, каким был ее отец. – Вы здесь навещаете кого-то из друзей?
Миссис Киттеридж протяжно выдохнула, глядя на небо сквозь темные очки.
– Да. Жуть. И это ко всему здесь относится. Но послушай, – она опять смотрела на Кайли, – в прошлый раз ты говорила, что убиралась у мисс Минни, а у меня есть другая старуха на примете, которая ищет кого-нибудь для уборки. Берта Бэбкок. Она старая карга, но с тобой будет вести себя нормально. Мне сказать ей, чтобы она тебе позвонила?
– Она уже сама меня нашла, – ответила Кайли. – Я работаю у нее по средам. Уже несколько недель.
Миссис Киттеридж покачала головой – вроде бы сочувственно.
– А теперь я убираюсь и у миссис Рингроуз тоже. Она преподает английский в нашей школе.
– Знаю я ее. Еще одна старая карга. Ну, удачи тебе. – И миссис Киттеридж зашагала прочь, махнув ладонью над головой.
В лечебнице было темно и по-прежнему плохо пахло, разумеется. Мисс Минни спала, и Кайли села на стул рядом с кроватью. На тумбочке у изголовья стояла фотография молодого мужчины в форме, рядом – букетик искусственных фиалок. И фотография, и фиалки прежде стояли на похожей тумбочке у кровати мисс Минни в ее квартире. На снимке был брат мисс Минни, о чем она рассказала Кайли однажды, вынув фотографию из рамки и прижав ее к груди; он погиб на войне в Корее. Кайли стало грустно, она бы предпочла, чтобы мужчина на снимке был возлюбленным мисс Минни, а не родственником.
Кайли сидела и ждала, когда проснется мисс Минни. Вошла сиделка, полная женщина в синей униформе, и сказала:
– Она спит весь день. У нее депрессия, поэтому она спит все больше и больше.
Обе, Кайли и сиделка, посмотрели на мисс Минни, затем Кайли встала:
– Ладно, я пойду. Но вы не могли бы передать ей, что я была здесь? Пожалуйста.
Сиделка глянула на часы:
– Я заканчиваю смену через час. Если она проснется до того, обязательно передам.
– Тогда я оставлю ей записку, – сказала Кайли, и толстуха вышла, а когда вернулась с листком бумаги и карандашом, Кайли написала заглавными буквами: ПРИВЕТ, МИСС МИННИ! ЭТО Я, КАЙЛИ. Я ПРИХОДИЛА К ВАМ, НО ВЫ СПАЛИ. Я ЕЩЕ ПРИДУ!
Однажды, когда отец был уже очень болен и слаб, он жестом подозвал к себе Кайли. Подойдя к кровати, она приложила ухо к его губам, и он прошептал:
– Ты всегда была моей любимицей. – И, помолчав, добавил: – У твоей мамы любимица – Бренда. – В уголках его рта скопилось что-то белое и вязкое.
– Я люблю тебя, папочка. – Бумажным платочком она осторожно вытерла ему губы, и он смотрел на нее с такой нежностью.
Она часто вспоминала о том, что сказал отец, – она была его любимицей. И думала о матери, работавшей на полставки в небольшой стоматологической клинике и вечно погруженной в свои мысли. По вечерам она с Кайли почти не разговаривала, и Кайли это нередко расстраивало, иногда до боли в груди, и она думала: «Вот почему говорят “ранить чьи-то чувства” – потому что это больно и рана долго не заживает».
На следующей неделе Кайли работала у Рингроузов, и, как всегда, мрачность обстановки в доме давила и немного пугала. День выдался необычайно солнечным, яркий свет лился в окна гостиной, и Кайли, закончив мыть дрова в камине, присела на диван с жесткой тугой обивкой.
Внезапно чувственный порыв охватил ее, словно в ответ и вопреки суровой строгости этого дома. Напряжение внутри нарастало, и Кайли медленно расстегнула верхнюю пуговицу на блузке, сунула руку в лифчик, пощупала свою грудь, и ее обдало жаром. Она закрыла глаза, расстегнула вторую пуговицу и вынула грудь из чашки лифчика. В мертвой тишине этого дома грудь казалась живой и уязвимой, Кайли провела пальцами по губам, потом по груди, потом опять и опять, испытывая необычайные ощущения. Она сидела с закрытыми глазами, лаская свою грудь и чувствуя, что воздух тоже ласкает ее, – и странным образом то, что она совершает такое в этом чуждом ей и безмолвном доме Рингроузов, возбуждало ее еще сильнее.
Шорох заставил Кайли открыть глаза – на пороге гостиной стоял мистер Рингроуз. Кайли выпрямилась и попыталась застегнуть блузку, щеки у нее горели. Мистер Рингроуз, высокий мужчина в очках, пристально смотрел на нее, и лицо его было неподвижным. Не говоря ни слова, он едва заметно кивнул, и в смущении и растерянности Кайли сумела понять, что он хочет, чтобы она не останавливалась. Глядя на него, она сказала – или только попыталась сказать «нет», – и тогда он произнес низким голосом: «Продолжай». Она затрясла головой, но он по-прежнему не спускал с нее глаз, и лицо его стало добрым. «Продолжай», – тихо повторил он. Она смотрела на него, ей было бесконечно страшно. И казалось, он понимает, в каком она состоянии, потому что доброта все явственнее проступала на его лице; он кивнул:
– Прошу тебя, продолжай.
Они наблюдали друг за другом, и его глаза – он носил большие очки без оправы – выглядели ласковыми и какими-то беззащитными. Кайли зажмурилась и снова потрогала свою грудь. Когда она открыла глаза, его уже не было.
Кайли торопливо застегнула блузку и вскочила с дивана. Она вытерла всю пыль, но щеки по-прежнему горели; моя полы на четвереньках, она чувствовала, что ей не хватает воздуха. В голове у нее звучала одна и та же фраза: «О господи, о господи».
Уходя, она не сразу заметила конверт на коврике у входной двери и едва не наступила на него, а наклонившись, увидела на конверте свою фамилию. Взяла конверт и на улице, завернув за угол, вскрыла его. Внутри лежали три купюры по двадцать долларов.
Кайли опять терзал страх, но теперь уже иного рода. Сунув конверт с деньгами в задний карман, она поехала прочь из города. «О господи, о господи», – повторяла она.
Когда она вернулась домой, мать спросила:
– Где ты была?
Кайли ответила, что после уборки у Рингроузов каталась на велике, погода ведь отличная. А потом села за пианино и начала играть – о, как она играла! Сонаты Моцарта одну за другой, с наслаждением погружая пальцы в зернистую почву его музыки; она играла и играла.
За ужином мать сказала:
– Ты почти не притрагиваешься к пианино после смерти отца. Оно тут стоит и только место занимает.
– Я буду играть, – возразила Кайли. – Пожалуйста, никому его не отдавай.
На следующей неделе лил дождь. К Рингроузам Кайли ехала в плаще, натянув капюшон на голову и отчаянно крутя педали, и все равно вымокла, пока добралась до их дома, – и опять ни малейшего намека на присутствие кого-нибудь из супругов. Она вытерлась, как сумела, кухонным полотенцем и принялась за работу: развела в ведре средство для чистки дров, и когда, встав на колени, провела тряпкой по дровам в камине… ей что-то послышалось… Она подняла голову. Мистер Рингроуз стоял ровно на том же месте, что и в прошлый раз, на плечах его голубой рубашки темнели редкие капли дождя, но глаза за мокрыми стеклами очков были хорошо видны. Он просто стоял и смотрел на нее, а она молчала. Вскоре он слегка кивнул, и она села на пятки, положила руку на свою грудь, и он снова едва кивнул. Тогда Кайли медленно встала, вытирая руки о джинсы, сделала шаг-другой, опустилась на жесткий диван и расстегнула блузку, на сей раз не спуская глаз с мистера Рингроуза. Кайли казалось, что все это происходит не с ней, когда она медленно снимала блузку, затем лифчик, и воздух словно сгустился у ее голых грудей, а дождь упорно барабанил в окна.
– Спасибо, – хрипло произнес мистер Рингроуз.
На коврике у входной двери опять обнаружился конверт с наличными.
Когда Кайли была маленькой, она спросила мать, красивая она девочка или нет, и мать ответила:
– Ну, на конкурсе красоты тебе не победить, но и в парад уродов тебя тоже не возьмут.
Однако незадолго до смерти отца Кайли пригласили поучаствовать в конкурсе красоты. Учительница физкультуры отозвала ее в сторонку и спросила, не хочет ли она поехать в Ширли-Фоллз, чтобы посоревноваться за титул «Мисс Кураж», от чего отец Кайли пришел в ярость:
– Ни об одной моей дочери не будут судить по ее внешности!
Он очень рассердился, и Кайли сказала учительнице, что «нет, она не сможет поехать», и в общем-то ей было все равно, участвовать в конкурсе или нет.
Но в последнее время она подолгу разглядывала себя в зеркале в своей комнате, вертя головой то вправо, то влево. Она думала – иногда, – что, возможно, она красивая. Ни майки, ни лифчика перед зеркалом она не снимала, чтобы увидеть то, что видел мистер Рингроуз. Такого она просто не могла сделать, но она думала об этом мужчине почти постоянно.
Наступил июнь. Через две недели начинались каникулы.
В зале конгрегационалистской церкви, где проводились всякие мероприятия, Кайли сидела за пианино, наряженная в подвенечное платье миссис Рингроуз. День выдался не по сезону жарким, и рядом с пианино тихонько повизгивал напольный вентилятор, приводя в движение воздух. В зале рядами стояли складные стулья, посередине – проход, старый деревянный пол скрипел под ногами женщин, рассаживающихся по местам. В окнах виднелись ярко-синее небо и кусок парковки. Каждую неделю (общим счетом девять недель) Кайли снимала блузку перед мистером Рингроузом – лишь однажды он не появился, и Кайли почувствовала себя обделенной, – а конвертов с наличными, которые она засовывала в ящик комода под трусы и носки, накопилось так много, что она перепрятала их в стенной шкаф. Причем содержимое конвертов было не одинаковым, иногда шестьдесят долларов, а порою стопка десяток и несколько бумажек в один доллар либо две двадцатки.
Сидя на табурете перед пианино, Кайли смотрела, как миссис Рингроуз расхаживает по залу, и думала: «Твой муж видел мою грудь, и спорим, твоей он не видывал много-много лет!» Эта мысль доставляла ей невероятное удовольствие. Наконец миссис Рингроуз кивнула Кайли, она заиграла «Марш выпускников», и первая участница показа мод «Серебряных квадратов» зашагала по проходу между складными стульями в длинном платье и белом чепце на седой голове.
– Первые пилигримы, 1620 год, – объявила миссис Рингроуз.
Из пятидесяти расставленных стульев занято было не более пятнадцати, и миссис Рингроуз, стоя сбоку от «подиума», представляла по имени каждую участницу и называла период времени, когда носили то, во что она была сейчас одета.
Последней вышла Берта Бэбкок – в оранжевом брючном костюме.
– Современная эпоха, – сказала миссис Рингроуз, и все нескладно захлопали.
По завершении показа женщины ели печенье, положив на колени тонкие бумажные салфетки. С Кайли никто не разговаривал, и вскоре она вышла, переоделась, оставив подвенечное платье на столе в углу зала, и покатила на велике домой.
Кристина Лабе вытаращила подведенные синим глаза и расхохоталась.
– Меня сейчас вырвет, – простонала она, захлебываясь смехом, задыхаясь, сгибаясь пополам.
– Неудивительно, – сказала Кайли. – Они выглядели законченными дурами.
– Да ну? – Кристина опять зашлась в смехе. – Блин, поверить не могу, какие же гребаные дуры. Ладно, в этом году она выходит на пенсию, ты ведь в курсе.
Кайли не была в курсе. Она разглядывала грузовик, припаркованный неподалеку, на его бампере прилепили стикер с надписью: «Требуются чернорабочие. Веснушки не возбраняются!»
– О-ой, школьный совет чуть не обрыдался, они хотят подарить ей куст сирени на прощанье. – Кристина закатила глаза.