Последний поклон Астафьев Виктор
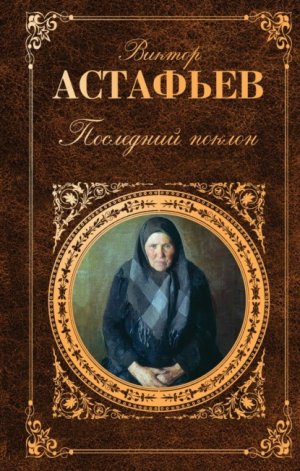
– Вякай больше! Чё ты в охоте понимаешь? Сидел бы с грыжей со своей и не мыкал…
Бабушка вклинилась меж Зыряновым и дядей Ваней – сцепятся за грудки, чего доброго…
– Не пьют, Митрей, двое: кому не подают и у кого денег нету. Но чур надо знать! Норму.
– И только поп за порог – клад искать, – а русский солдат шу-урх к пападье-еэ под одеяло-о-о!.. – напевал Мишка Коршуков Августе в ухо.
– Руки зачем суешь куда не следует? Убери! Вон она, мама-то… Все зрит!
– Вот рыба таймень, так? – уминал пирог и спрашивал у близсидящих бабенок дядя Левонтий, про которого, смеясь, говорили они, что-де где кисель, тут он и сел, где пирог, тут и лег. – Я когда моряком ходил, спрута жареного ел!
– Каво-о-о?
– Спрута! Чуда такая морская есть – змей не змей: голова одна, хвостов много. Скусная, гада, спасу нет!
– Тьфу, страмина! – плевались бабы. – И как токо Васеня с тобой цалуется?
– Кто про чё, а вшивый все про баню! – махнул Левонтий.
– Такого заливалы ишшо не бывало! – смеялись и трясли головами гости.
– И што за девки пошли! Твои-то мокрошшэлки закидали тебя ребятишками, закидали! Распустила ты их, Авдотья, ой распустила!
– Дакыть и мы не анделицами росли, Марея. Нас рано замуж выталкивали. Тем и спасались… Да ну их всех, и девок, и мужиков! Споем лучше, бабы?
Тонкий голос тетки Авдотьи накрыл и, точно пирог, разрезал разговоры:
- Люби меня, детка, покуль я на воле,
- Покуль я на воле – я твой.
- Судьба нас разлучит, я буду жить в неволе,
- Тобой завладеет другой…
Тетка Авдотья вкладывала в эту песню свой, особенный смысл.
Родичи, понимая этот смысл, сочувствовали тетке Авдотье, разжалобились, припев хватанули так, что стекла в рамах задребезжали, качнулся табачный дым, и казалось, вот-вот поднимется вверх потолок и рухнет на людей. Пели надрывно, с отчаянностью. Даже дедушка шевелил ртом, хотя никогда никто не слышал, как он поет. Гудел басом вдовый, бездетный Ксенофонт. Остро вонзался в песню голос Августы. На наивысшем дребезге и слезе шел голос тетки Апрони, битой и топтанной мужем своим, который уже упился и спал в сарае. Сыто, но тоже тоскливо вела тетка Мария. С улыбкой и чуть заметным превосходством над всей этой публикой подвывал Зырянов. Ладно вела песню жена Кольчи-младшего Нюра. Она вовремя направляла хор в русло и прихватывала тех, кто норовил откачнуться и вывалиться из песни, как из лодки. Ухом приложившись к гармошке, чтоб хоть самому слышать звук, с подтрясом, словно артист, пел Мишка Коршуков.
Пели все, старые и молодые. Не пела лишь тетя Люба, городской человек, она не знала наших песен. Прижалась она к груди мужа безо всякого стеснения, и по ее нежному, девчоночьему лицу разлилась бледность, в глазах стояли жалость, любовь и сознание счастья оттого, что она попала в такую семью, к таким людям, которые умеют так петь и почитать друг друга.
Тетку Авдотью, захлебнувшуюся рыданиями среди песни, повели отпаивать водой. Однако песня жила и без нее. Тетка Авдотья скоро вернулась с мокрым лицом и, подбирая волосы, снова вошла в хор.
Все было хорошо, но когда накатили слова:
- Я – вор! Я – бандит! Я преступник всего мира!
- Я – вор! Меня трудно любить… —
дядя Левонтий застучал себя кулачищем в грудь, давая всем понять, что это он и есть вор, и бандит, и преступник всего мира. Еще в молодости, когда плавал дядя Левонтий моряком во флоте, двинул он там кому-то по уху или за борт кого выбросил, точно неизвестно, и за это отсидел год в тюрьме. Сидевших в тюрьме, ссыльных, пересыльных, бродяг и каторжанцев, всякого разного люду с запуганной биографией дополна водилось в нашем селе, но переживал из-за тюрьмы один дядя Левонтий. Да и тетка Васеня добавляла горечи в его раненую душу, обзывая под горячую руку «рестантом».
– Да будет тебе, будет! – увещевала мужа Васеня, залитого слезами с головы до ног. – Ну, мало ли чё? Отсидел и отсидел, больше не попадайся…
Дядя Левонтий безутешен. Он катал лохматую голову по столу среди тарелок. Вдруг поднял лицо с рыбьей костью, впившейся в щеку, и у всех разом спросил:
– Что такое жисть?
– Тошно мне! С Левонтием начинается! – всполошилась бабушка и начала убирать со стола вазы и другую посуду поценней.
– Левонтий! Левонтий! – как глухому, кричали со всех сторон. – Уймись! Ты чего это? Компания ведь!
Тетка Васеня повисла на муже. Кости на его лице твердели, скулы и челюсти натянули кожу, зубы скрежетали, будто тракторные гусеницы.
– Нет, я вас спрашиваю – что такое жисть? – повторял дядя Левонтий, стуча кулаком по столу.
– Мы вот тебя вожжами свяжем, под скамейку положим, и ты узнаешь, што тако жисть, – спокойно заявил Ксенофонт.
– Меня-а? Вожжами?
– Левонтий, послушай-ко ты меня! Послушай! – трясла за плечо дядю Левонтия бабушка. – Ты забыл, об чем с тобой учитель разговаривал? Забыл? Ты ить исправился!..
– С… я на вашего учителя! Меня могила исправит! Одна могила горькая!
Дядя Левонтий залился слезами пуще прежнего, смахнул с себя, словно муху, тетку Васеню и поволок со стола скатерть. Зазвенели тарелки, чашки, вилки. Женщины и ребятишки сыпанули из избы. Но разойтись дяде Левонтию не дали. Мужики у Потылицыных тоже неробкого десятка и силой не обделены. Они навалились на дядю Левонтия, придавили к стене, и после короткого, бесполезного сопротивления он лежал в передней, под скамейкой, грыз зубами ножку так, что летело щепье, тетка Васеня стояла над мужем и, тыча в пего пальцем, высказывалась:
– Вот! Вот, рестант бесстыжой! Тут твое место! Какая жизня с тобой, фулюганом, пушшай люди посмотрят…
На столе быстро прибрали, поправили скатерть, добыли новую четверть из подполья, и гулянка пошла дальше. О дяде Левонтии забыли. Он уснул, спеленатый вожжами, будто младенец, жуя щепку, застрявшую во рту.
В то время, когда угомоняли дядю Левонтия и все были заняты, взбудоражены, бабушка потихоньку поставила стакан перед дядей Митрием. все так же безучастно и молчаливо сидевшим в сторонке.
– На, выпей, не майся!..
Дядя Митрий воровато выплеснул в себя водку и убрал руки под стол.
– Да поешь, поешь…
Но дядя Митрий ничего не ел, а когда бабушка отвлеклась, цапнул чей-то недопитый стакан, затем еще один, еще. Его шатнуло, повело с табуретки. Бабушка подхватила дядю Митрия, тихого, покорного, увела и спрятала в кладовку, под замок. Затем она наведалась на сеновал. Там вразброс спали и набирались сил самые прыткие на выпивку мужики. Когда-то успела оказаться здесь и тетка Авдотья. Она судорожно билась на сене, каталась по нему, порвала на груди кофту. Ей не хватало воздуха, она мучилась. Бабушка потерла ей виски нашатырным спиртом, затащила в холодок, подальше от мужичья, прикрыла половиком и, горестно перекрестив ее и себя, спустилась к гостям.
Гулянка постепенно шла на убыль. Поздней ночью самых стойких мужиков дедушка и бабушка развели по углам да по домам. Затем бабушка обрядилась в фартук, убрала столы, подмела в избе, проверила еще раз, кто как спит, не худо ли кому, и, перекрестившись, облегченно вымолвила: «Ну, слава Те, Господи, отгуляли благополучно, кажись?..» Посидев у стола, отдышавшись, она еще раз помолилась, сняла с себя праздничную одежду и легла отдыхать.
Гуляки спали тяжело, с храпом, сгонами и бормотаньем. Иногда кто-нибудь затягивал песню и тут же зажевывал ее сонными губами.
Кто-то вдруг вскакивал и, натыкаясь на стены, бьясь о притолоку, шарил по двери, распахивал ее и, громко бухая половицами, мчался во двор.
И почти до петухов, гнусавя, бродила по деревне гармошка – завелся, разгулялся неугомонный человек – Мишка Коршуков, будоражил спящее село.
Дядю Левонтия, обожаемого человека, я караулил, не спал, не позволял себе спать, щипал себя за ногу. И он ровно бы знал, что я нахожусь на вахте, на утре сиплым голосом позвал:
– Ви-итя-а-а! Ви-итенька-а-а!
Мигом я оказался у скамьи. Слабо постанывая, дядя Левонтий лежал на подушке, подсунутой бабушкой.
– Развяжи меня, брат…
Узлы дядя Левонтии стянул, я долго возился, где зубами, где ногтями, где вилкой растягивал веревку. Дядя Левонтий кряхтел, подавая мне советы. Встал наконец, шатнулся, сел на скамью.
– Я чего-то наделал?
– Не успел. Связали тебя.
– Вот и хорошо. Порядок на корабле. Опохмелиться не найдешь? Башка прямо разваливается…
Я подал дяде Левонтию стакан с водкой, ровно бы ненароком оставленный на подоконнике бабушкой. Дядя Левонтий трудно, с отвращением выпил, утерся рукавом, посидел какое-то время оглушенно и приложил палец ко рту:
– Ш-ша! Я пош-шел!.. Бабушке Катерине не сказывай…
– Ладно, ладно.
Неуклюже загребая ногами, будто на шатком корабле, стараясь идти так, чтобы ничего не скрипнуло, не звякнуло, удалялся дядя Левонтий по кути, громко ахнулся лбом в набровник дверей, изругался и тут же сам себя окоротил:
– Ш-ша! Вахта спит!..
Во дворе, как на грех, проснулся любящий подрыхать и понежиться Шарик, напал на дядю Левонтия.
– Шаря! Шаря! – подал голос дядя Левонтии. – Ш-ша, брат! Тих-ха!
Утром бабушка нашла под скамейкой вожжи, повертела в руках пустой стакан.
– Это кто же его развязал, Левонтия-то?
Я пожал плечами, не знаю, мол.
– Вовремя, вовремя умотал соседушко! Я бы ему задала! Я б его пропесочила!..
Мужики хмуро опохмелялись. Бабушка сжалилась, велела позвать дядю Левонтия. Но тот еще до свету, минуя дом, уплыл на известковый завод. На той стороне Енисея его не вдруг достанешь! Дядя Левонтий, когда виноват, всегда так делает. Появится он дома к той поре, когда тетка Васеня остынет и бабушка тоже отойдет, забудется в делах и хлопотах.
Днем начались проводины. Собрались плыть в Базаиху дядя Вася и тетя Люба с Катенькой. Слезы, поцелуи, посошок на дорогу. Убежала на работу Августа. Ушли в своей лодке на шестах к Майскому шиверу Зырянов с теткой Марией. Кольча-старший отправился по тети Талиной родне, к шахматовским; другие приезжие родичи тоже разошлись, кто на кладбище попроведать своих, кто к знакомым и родным.
Но распал нашей гулянки не остывал совсем, еще несколько дней пробивались очаги ее то в одном, то в другом конце села, и отголоски песен слышались в одном, в другом дому.
В нашей избе как-то особенно заметно после праздника сделалось безлюдье, какая-то по-особенному тоскливая, сонная неподвижность охватила дом. Тетка Авдотья, смурная, осунувшаяся лицом, вымыла поды, дед прибрался во дворе и на сеновале, бабушка спрятала в сундук наряды и снова стала жить, как жила, в будничных долах и заботах.
Праздник кончился.
И никто еще не знал, что праздник этот во всеобщем сборе был последний.
В том же году не стало дяди Митрия, он поместился в одной ограде с моей мамой. С того тихого, ничем не приметного лета оградка над Фокинской речкой все пополняется и пополняется. Кроме мамы, двух моих сестренок, дяди Митрия, Ксенофонта-рыбака, покоятся там дедушка, бабушка, тетя Мария, дядя Ваня и его жена, тетя Феня, дочка Кольчи-младшего Лидочка и малый его сынок Володенька.
Старые и малые – все опять вместе, в тишине, в единстве и согласии – «там, где нет ни болезней, ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная»…
Книга вторая
Гори, гори ясно
Таково ли свойство детства, что оно кажется сплошной игрой, или на самом деле мы в детстве так много играли, что нам не хватало дня и мы прихватывали вечера, порой и ночи. Матери принимались искать сорванцов по улицам, заулкам, дворам, а находили их за околицей деревни либо на берегу Енисея и прутом загоняли домой.
Их было много, тех далеких деревенских игр. И все они, будь то игра в бабки, в чижа, в солону, в лапту, в городки, в свайку, в прятки – требовали силы, ловкости, терпения. Существовали игры совсем уж суровые, как бы испытующие вступающего в жизнь человека на крепость, стойкость, излом; литературно выражаясь, игры были предисловием к будущей жизни, слепком с нее, пусть необожженным еще в горниле бытия, но в чем-то уже ее предваряющим.
И поныне, когда я вспоминаю игры детства, вздрагивает и сильнее бьется мое сердце, обмирает нутро от знобяще-восторженного предчувствия победы, которая непременно следовала, если не следовала, то ожидалась в конце всякой игры.
Хотелось бы начать с игры в лапту, но я переступлю через «личную заинтересованность» и затею рассказ с игры давней, распространенной в старину во всех русских деревнях и самой ранней в году – с игры в бабки.
Сражения разгорались с первооттепели, с Пасхи. Пасха каждый год бывает в разные сроки, то ранней, то поздней весной, но есть тут причина для игры самоглавнейшая – к празднику забивалось много скота, варились корыта, ушаты, колоды, тазы студня. Ребятне приваливала долгожданная утеха – пареные кости ног, средь которых природа поместила бабки – панка и рюшку.
Как готовят студень – рассказывать нет места, сообщу, однако, – это с виду нехитрое блюдо мало кому дается, ныне, по женской лености и занятости, редко и готовится – уж больно велика возня и канитель со студнем. В столовых же его готовят по присловью: «Мяса чан – вкуса нет».
К слову молвить: и в прежние времена студень получался не во всякой семье. Тетке Васене, сколь помнится, так ни разу и не довелось завершить производство кушанья, довести его «до ума». Она металась по избе, роняла ухваты, опрокидывала чугуны с картошкой, ведра с водой и, делая вид, что всю поруху не она натворила, тут же чинила суд и расправу, раздавая налево и направо затрещины своему выводку.
Пение, рев, слезы, воинственные выкрики раздавались в избе дяди Левонтия с утра до поздней ночи, и случалось: в одном углу просторной, пустой и душной избы ревмя ревел ушибленный, ошпаренный либо побитый теткой Васеней боец, в другом в это время, что-то пластая ножами или руша топором, парни с уже выступившими на лице прыщами, ни на что не обращая внимания, блажили: «Мы с матаней мылись в бане…»
На бегу, на скаку тетка Васеня палила в печи ноги или голову скотины. Выхватив чадящую ногу с углем в раскопытье, она мчалась с нею к столу, распространяя по избе синий смрад. Швыркая носом, подбирая запястьем капли пота со лба, слипшиеся волосы с глаз, она шустро скоблила ножиком паленину, гремя ею по столу, постанывая, приплясывая. Руки тетке Васене жгло, дых забивало гарью. Надо бы в горячую воду сунуть паленую ногу, ошпарить, обмягчить ее и спокойно, с толком, тоненько обснимать варом прикипелую к шкуре шерсть, снять нагар, роговицу с копыт и, чистенькую, желтенькую, неторопливо, чтоб не расщепать кости, порубить топором да и поставить, с Богом, варить. Но как с такой ордой технологию соблюдешь? Вот только что был таз с водою, хвать-похвать – его уж нету – в нем Танька чечу – куклу, стало быть, вытесанную братанами из полена, моет. У куклы той и пуп, и все обозначено, не кукла – хулиганство форменное, но Танька и такой забаве рада, тетешкает чечу, в тряпицы обряжает, мыть вот взялась.
– Пропасти на вас нету!
Таньку за волосья в угол, под лавку, Васеня кинула, кособокую куклу за единственную ногу – в печь. Танька кошкой метнулась из-под лавки, героически выхватила игрушку из загнеты, полыхающей горой угольев. Дымится кукла, Танька на нее плюет, слюной тушит и причитает:
– Дуня ты моя, Дуня! Больно-то тебе, больно! Лечить-то тебя надо, лечить… – И матери: – Самуе бы в печку шурунуть, дак хорошо?..
– Шурунуть, шурунуть! – базлает на весь дом тетка Васеня. – Я вот в праздник шуруну пусту чашку на стол!.. – И, орудуя ножом, обмакивая в таз где обожженную в уголь, где недоскобленную паленину, увоженная в саже, растрепанная, угорелая возле печи Васеня продолжает кричать о том, что праздник на носу, а у нее еще не у шубы рукав, и «арестанец» – дядя Левонтий, явится на развязях, потому как на известковом сегодня получка. Да и явится ли? Тресь по уху бесштанному парняге – понадобилось ему что-то в тазу, он залез туда рукой, Васеня отвлеклась, в ругани забылась и чуть было палец ножом ему не отхватила… Паленина не доскоблена, печь пора закрывать – жар уйдет, тут перевязывай дитятю, сама порезала, сама и врачуй!..
– Да тошно мне, тошнехонько! – толсто обматывая тряпицей палец громко басившему орлу, завывала тетка Васеня, озираясь на печку, на разваленную по полу и по столу посуду, на черные ноги в недопаленной шерсти, одну из которых уже уволокли со стола, обрезали подгорелые шматки и, валяя во рту, поедали помощники, которые посмекалистей. Не закончив перевязки, Васеня всплеснула руками, бросилась к парням, они от нее наутек, едва настигла и, отняв ногу, замахнулась его, как булавой, но опомнилась – зашибет! – и от бессилия, от сознания, что ей опять не справиться с задачей, не соблюсти порядок, не изготовиться к празднику, как хотелось и мечталось, она упала на лавку, отрешилась от всякого дела, мол, как хотите, хоть пропадите все, и намаливала себе смерти – единственно мыслимого избавления от семейных напастей.
Но умереть ей не было времени. Порезанный боец тянул к ней раненую руку, и тетка Васеня доводила перевязку до конца и, заключая лечение, отвешивала еще одну оплеуху болящему и бросалась к печи, стараясь наверстать упущенное время, снова суетилась по избе, опрокидывала чугуны, роняла ухваты и орала, орала, орала, да так, под собственный ор и всеобщий погром управлялась с делом и недоверчиво, потерянно озиралась вокруг, ровно и не веря самой себе, что все дела на сегодня окончены.
Ночью, забивая дремучие, густо сплетенные запахи многодетного жилища, по избе расплывался дух прелого мяса, подгорелой шерсти и мреющих костей.
Заслышав крик бабушкиного красного петуха, зевая и неумело, как бы понарошке крестясь, стараясь не греметь заслонкой, тетка Васеня ухватом выдвигала на шесток объемистые чугуны, плотно закрытые сковородами, ладясь в безлюдном покое справить бабью работу, обобрать мясо с костей, изрубить его с луком, с чесноком, вывалить в корыто и поверху осторожно залить крошево жирной запашистой жижей да и выставить на остужение, чтобы потом, когда захряснет студень – отрада души, накормить им семейство, угостить соседушку, Катерину Петровну, деда Илью и чтобы они ее похвалили за труд и ловкие руки.
Но любящие вытягиваться до обеда, отыскивающие в себе недуги и всякие причины, только чтоб не полоть огород, не пилить дрова, чтоб отлынить от всякого дела, пролетарьи дяди Левонтия не проспали ни одного утра, в которое мать собиралась творить таинство в кути. Когда наступала пора опрастывать чугуны, по обе стороны стола выстраивались в две шеренги, почесываясь и зевая, поталкивая друг дружку, орлы, ждали свой миг. И как только мать вываливала сваренные кости в корыто, почти на лету выхватывали кто чего успевал, имея целью добыть бабку. Варево так горячо и жирно, что даже не парило. Любой и каждый обварился бы, ожог получил, но обитателей этого дома ни пламя, ни вода не брали. Они обхватывали горячую кость губами, с треском отдирали с нее зубами хрящи, и кому попадалась бабка, да еще панок, тот издавал вопль:
– Чур, мой! Чур, мой! Паночек! Паночек! Крепенький пенечек! – и пускался в пляс: – Бабки-бубны, люди умны…
И что интересно: чаще всего бабки подпаливали не тем, кто больше всего зарился на них, не парням, а девкам. Особенно везло Таньке. Она принималась дразнить братьев бабкою или торговаться с ними. Дело заканчивалось свалкой. Надеясь сохранить хоть остатки варева, тетка Васеня наваливалась на корыто, охватывала его, загораживала собою и, поскольку третьей руки у нее не было, чтоб обороняться и давать оплеухи, вопила:
– Матушка, Заступница Пресвятая! Помилуй и сохрани! Растащут, злодеи! Расхлещут!..
На всех сердитая, удрученная, приносила потом тетка Васеня корыто и, не желая даже пачкать чашки кисельно колеблющейся жижей, протестующе швыркая носом, стукала посудиной о стол: «Жрите!»
Никто не выражал никакого недовольства и досады. Семейство во главе с дядей Левонтием бралось за ложки, отламывало по куску хлеба и вперебой возило жижу, которая в ложках не держалась, высклизала, шлепалась на стол, и тогда едок нагибался, со смачным чмоком втягивал губами вкуснятину. крякал от удовольствия и продолжал дружную работу. Лишь долгоязыкая, шустро насытившаяся Танька пускалась в праздные рассуждения:
– Бабушка Катерина на святой неделе меня шаньгой, калачом и штуднем угошшала, дак у ей штудень хушь ножом решь…
– А кто хватат?! Кто хватат?! – взвивалась тетка Васеня, выскакивая из кути. – Витька хватат? Дед Илья хватат? – и, подвывая, высказывалась: – Мине бы условья создать, дак рази б я не сумела сготовить по-человечески-и-и.
Рубанув ложкой по лбу шебуршливую дочь, дядя Левонтий, пропивший половину получки и дождавшийся момента, чтобы выслужиться перед женой, говорил с солидным хозяйским достоинством:
– Ну вот, сыт покуда, съел полпуда. Студень как студень. Очень даже питательный, – и подмигивал: – Правду я говорю, матросы?
– Ску-у-уснай!
– Сталыть, порядок на корабле! Иди, мать, и кушай! Рот болит, а брюхо ись велит… Тут ишшо на дне осталось, поскреби…
И тетка Васеня – слабая душа, утирая фартуком глаза и нос, прилеплялась бочком к столу. Ей подсовывали ложку, хлеб, будто чужой, и она, тоже, словно чужая, вежливо поцарапывала в корыте, щипала хлебца, но уже через минуту-другую снова брала руль над командой и первым делом выдворяла из-за стола Саньку, который, нахватавшись студня, «бродил» ложкой в корыте, и тут же Васеня прыскала, узрев набухающую шишку на лбу дочери:
– Это тебе бласловенье к Паске!
– Премия за долгий язык! – благодушно поправлял супругу дядя Левонтий.
Семейство прокатывалось об Танькиной шишке, и она, показав язык, убегала на улицу, а совсем уж отмякшая мать дразнила парнишек:
– Я ишшо три бабочки заудила в чигунке! Две рюшечки да паночка! И кто мать будет слушаться, тот бабочки получит…
Парни единодушно сулились слушаться мать до скончания дней своих, таскались за нею по пятам, ныли:
– Мам, я дрова принес и ишшо сор от крыльца отгребал. Мине отдай!..
– Мам, ему не отдавай! Это я отгребал, он токо баловался.
– Мам, я те ишшо картошек в подполье нагребу.
– Мам, я по воду схожу? На… Анисей аж.
– Мам!.. Мам!.. Мам!..
Дело кончалось тем, что тетка Васеня, плюнув, вытряхивала из фартука бабки:
– Громом вас разрази!
Снова начиналась свалка. Бабками, как водится, овладевал Санька, который ни в каком труде не участвовал, перед матерью не финтил, но умел улавливать свой миг. Но в общем и целом вся праздничная маета заканчивалась полным успокоением, дом наших соседей, набитый до отказа народом, будто пароход пассажирами, клубя дым трубой, с воем, шумом, криками пер без остановок дальше, в будущее, и капитан – дядя Левонтий, хозяйски озревая родную «команду», горделиво отмечал: «На корабле полный порядок!»
Вразвалку, со жвачкой во рту, Санька являлся ко мне и встряхивал брюхом – под оттопыренной рубахой негромко побрякивало. Бабки у него всегда в лохмотьях неотопрелых хрящей, и Санька, когда скучно, доставал костяшку из-под рубахи, обрабатывал ее зубами, выгрызая пленку из раздвоенной головки панка иль из уха, в дырке которого маслянела хрящевина, но зачистить до лохматочка бабки не мог даже такой зубастый прожора, как Санька, и потому, когда мы играли на первых проталинах в кон или в сшибалку, его сырые рюхи и панки скорее всего делались грязными и, случалось, шли в полцены.
Как успела заявить на свою голову Танька левонтьевская, в приготовлении студня бабушка моя, Катерина Петровна, была большим спецом. И немудрено: на такую семьищу варивала! Кости в студне у нее никогда не перепревали, но и сырыми их бабушка не вынимала, потому и бабки являлись свету голые, крепенькие, ничего в них не отскакивало. Дед за долгую жизнь так наторел рубить скотские ноги, что ни одной бабки топором не повреждал.
В доме нашем остался один игрок – я, и мне бабок доставалось изрядно. Однако был я в игре не в меру горяч, азартен, долго не мог запомнить, что выигрыш с проигрышем в одних санях ездят, жульничать наловчился не сразу и потому продувался в пух и прах.
Кто был искусник насчет бабок, так это наш Кеша. Каждую бабку он красил чернилами, разведенными из химического карандаша, или розовой краской, которой целая бутылка когда-то и зачем-то попала в дом дяди Вани. Ставши с возрастом смекалистей, Кеша наловчился красить бабки в два цвета – в фиолетовый и розовый. Кроме того, Кеша просверливал у панков донца и заливал их свинцом. Такие панки-биты шли за десять, а то и за двадцать бабок, потому как выбирался для заливки панок самый крупный и стойкий.
Зимой Кеша мастерил из ивовых прутьев и из черемухи сани, гнул дуги, шил сыромятные шлеи, хомуты и, разукрасив упряжь все в те же два цвета, полосками или сплошняком, запрягал «рысаков» в тройки, «рабочих лошадей» по одной и прицеплял к саням за оброть молодых, «необъезженных жеребчиков» – свиные или бараньи бабки. Тройка-панок под дугой, ноздри у него красные, челка-лоб фиолетовый, холки пестрые. По бокам рюшки-хрюшки или паночки поменьше корпусом. Мчит по полу тройка, и я, не владеющий никаким ремеслом, бегаю сзади – в мою обязанность входит кричать: «Й-е-го-го!»
Как жалко бывало мне Кешины бабки, когда, явившись на поляну, ставил он их одну за другой и… проигрывал. Чаще всего мы собирались у платоновского заплота или возле мангазины, потому как здесь раньше обнажались проталины. Обутые и одетые кто во что, несколько подотвыкшие друг от друга, с беленькими, еще не бывавшими в битвах бабками в карманах и под рубахами, ребята поначалу обнюхивались, показывая – у кого сколько бабок накопилось, затем, для разгону, катали рюшки по вытаявшей травке, и которая рюшка, столкнувшись с другой, беспомощно опрокидывалась плоским брюшком кверху, становилась добычей хозяина бабки, взявшей верх. Рюха не каждый раз падала, как ей полагалось, случалось, она валилась набок, становилась на попа. когда и на голову в мочально спутанной, прелой прошлогодней траве. Вспыхивали споры, пока еще разрозненные, вялые, в драку не переходящие.
Но вот кто-нибудь из боевых, чаще всего самых неимущих парнишек ставил пару рюшек, сзади них кавалером пристраивался панок.
– А вот бабки! А вот кон! Тут напарничек нужон! – зазывал зачинщик кона, ровно бы ни к кому не обращаясь, в то же время всех будоража своим боевым кличем.
Напарничек-подставничек знает, как себя вести. Он потрется возле кона, помнется, поставит пару рюх и царапает затылок, соображает, ждет, а ты переживай: бабочки новенькие, беленькие, ни разу еще на кон не ставленные, не битые, не колотые, вот они, под рубахой, брюхо надуешь или тряхнешься – и заговорили, заворочались, телом твоим согретые, родимые тебе, живые, а на кон их выставишь, так неизвестно, что с ними будет, могут к тебе и не вернуться. Хлестанет оголец-удалец панком, весь кон свалит, никому и ударить больше не достанется…
Однако ж зачем-то они, бабки-то, существуют? Вставил их Боженька или еще кто скотине в ноги, люди придумали студень варить, чтоб эти бабки ослобонялись и к парнишкам попадали. Без пользы и умысла до последних времен никакая кость никому и никуда не засовывалась. Которая для еды, которая для сугреву и улучшенья хода, которая и для потехи. Взять ту же бабку. Она только с виду бабка, но всмотрись в нее – и узреешь лик, подобный человеческому. Рюшки повяжи платочком – точь-в-точь старушки, панок – молодец! У иного вроде и картуз набекрень. В игру идет не всякая бабка. Огромной, сплющенной конской бабкой тешатся только распоследние люди, недоумки и косопузая малышня, еще ничего в жизни и в игре не смыслящая, капиталу своего не нажившая. Козьи, овечьи и поросячьи бабки тоже в кон не идут – мелки, да и перепревают они в печах, ими зуб крепить хорошо, схрумкать, как сахар – и вся недолга!
В ход и оборот идут бабки только от коров, нетелей и бычков. Но и тут не всякая бабка в кон. Есть бабки, при разделе поврежденные топором, у иной половина головы отхвачена либо рыло, у которой жопка отопрела – изъян особенно серьезный. Есть бабки убогие, косорылые – они такими вместе со скотиной уродились. Словом, средь бабок тоже бывают калеки, уроды, недоделки, они мало чего и стоят.
В нашем селе кости вывозились на огороды и поля – для удобрения. Жирна, смолиста земля в наших местах, и ее надобно сдабривать золой, костями, известкой. Весной бабки, словно солдатики, выскакивали из-под плуга в борозду. Нам их собирать запрещалось, может, кость от больного, дохлого скота? Но мы нарушали запрет, и никто ни разу, помнится, не заразился от бабок, не захворал. Должно быть, пройдя «сквозь землю», бабка очищалась от всякой скверны. Попадались бабки еще ничего, но больше – иссушенные тьмой, подернутые той мертвой, бескровной белизной, за которой наступает тлен. По таким завезут разок-другой панком – башка долой, либо спину проломят, а то и в дым расшибут. Дырявые, увеченные бабки отдаются малышам, и те уж добивают их, навсегда разлучая с белым светом. Глянешь: лежит одноухая башка рюхи либо напополам перешибленный, чаще вдоль треснутый панок валяется под заплотом, и земля вбирает в себя сведенную со света бабку, опутывает ее травой, корнями жалицы – была бабка, играли ею, тешились – и вот ее нету.
Итак, потихоньку, полегоньку начиналась игра. Всяк норовил сперва сунуть в кон бабку заслуженную, увеченную в битвах, со сколком на башке, с трещиной от уха до уха, с выбоиной, которую, поплевав на ладонь, игрок загодя замазывал воском или жиром со щей. Но не один он такой тут хитрый. Тут все жохи – и зачинатель кона повелительно вышвыривал бабку с изъяном из строя – торопись, подбирай – шакалье кругом. Глазом не успеешь моргнуть – умыкнут.
– Йи-э-э-эх! Была не была! – Вынаю две пары рюшек и пару панков. Такой я человек рисковый. Кеша жмется со своим крашеным богачеством, рот у него от напряжения открылся, рука в кармане щупает, перебирает бабочки, пальцами их гладит.
– Ставь!
Братан жалостно лупит глаза, молит не искушать.
– Я потом, – переступает с ноги на ногу Кеша. – Куда торопиться-то?..
Мне легче, когда не один ставлю бабки и продуюсь не один, всей-то роднёю храбрей вступать в сраженье.
– Иди тогда с мульками играй, в гнилушки! Не выдержав моего ехидства и напора, слабодушный Кеша, сопя и чуть не плача, долго шарился в кармане и, словно живых птенцов, нес в ладонях к концу крашеные бабки. Парни хоть и оторвы сплошь, однако на первых порах блюли справедливость – ставили Кешины бабки впереди кона и молча постановляли – бить Кеше первому.
Кеша отходил от заплота к месту, с которого назначено бить – там лежал камень, шапка или поясок, и, отставив левую ногу, защурив левый глаз, взявши панок указательным пальцем за раздвоенную головку, большим – под донышко, долго, сосредоточенно целился. Лоб у Кеши делался бледным, исходил мокротью, будто резаная брюква соком, рот от напряжения искривлялся, почти доставая губой ухо. Публика цепенела. И тут из толпы явственно слышался тутой шепот:
– В огород, за заплот, в темну баню за полок, в жгучу жалицу – крапиву, на осьмининскую гриву! Заговор мой верный, я – человек скверный…
Кеша в изнеможении опускал руку:
– Чё заколновываете-то?
Испустив из грудей спертый дух, народ немедленно отыскивал колдуна – они у нас все наперечет. Из толпы выхвачен Микешка – сын ворожеи и пьяницы Тришихи. В мохнатой драной шубейке, надетой на ребристое тело, полы и рукава подшиты грязным мехом наружу, нестриженый, золотухой обметанный, в рассеченной губе клык светится, шеи нету, голова растет прямо из шубы – чем не колдун! И как ни стерегись, как ни открещивайся, – проникает ведь, затешется в игру нечистая сила! Микешкины рюхи с кона долой, сам колдун получил поджопника и с позором изгнан подальше от платоновского заплота – не озевывай!
Однако ж зараза есть зараза! Отбежавши на безопасное расстояние, Микеша продолжал злодействовать, накликал, чтоб не только у Кеши, но и у всех у нас панок летел бы за заплот, в огород, в баню на полок, в печку на шесток и еще куда-то… За Микешкой бросались вдогон, чтоб еще суровей наказать, и мигом настигали злодея, потому как он кривоног, да и шубейка, с которой он не расставался ни зимой, ни летом, путала ноги, убавляла резвости. Учинялся самосуд: бабки вытряхивались из-под завшивленной шубейки наземь, колдун получал добавку и запевал на всю улицу. На голос сына, сшибив с петли створку ворот, взбивая грязный, мокрый снег, в кожаных опорках, выскакивала Тришиха. Сама она била Микешку зверским боем, но стоило кому его тронуть, воспламенялась истовой материнской любовью и защищала его так рьяно, ровно хотела искупить свою вину перед сыном, враз, и уж никакой меры не знало тогда ее сердце – Микешка под такой момент выманивал у матери деньги, сладости, хотелось – так и самогонки, да еще и куражился над родительницей, капризы строил. И ныне вот ткнулся в брюхо матери лицом, голосу прибавил. Тришиха, голопятая, с цигаркой в зубах, сердобольно утешая сына, гладила его по голове, просила о чем-то, а он вихлялся задом, лягался ногой и блеял: «Не-е-е, пушшай бабки отдаду-ут! Не-е-е, пушшай не дражнютца! Не-е-е-э-э-э, играть хочу-у… Не-е-е-э-э, пушшай лучче мимо не ходят… не-е-е-эээ… не-е-э-э-э… не-е-е-э-э-э…»
Это Микешка распаляет мать, доводит ее до накала, подымает в ней смуту и нечистую жуткую силу. И поднял! Тришиха выплюнула цигарку, наступила на нее так, что опорок вдавился и остался в снегу, но, не замечая холода и мокроти, колдунья двигалась уже в одном опорке и, грозя кулаком, черной дырою рта изрыгала проклятья, пушила нас гнусаво, сулясь обучить Микешку такому наговору, что он всех нас обчистит или еще хуже устроит – напустит мор на скот, тогда бабок вовсе не будет, а если еще хоть раз Микешку тронут, хоть один-разъединственный волос с его головы падет и ее выведут из терпенья, она на все село черную немочь накличет…
Страсти-то какие! Ребята и сраженье прекратили, озираться начали, куда дерануть в случае чего. Поживи вот в таком селе! Поиграй в бабки! Попади в кон! Тришиха – она ботало, спьяну чего не намелет. Но душе неспокойно, хочется Микешку вернуть, умаслить, задобрить Тришиху. Но у Тришихи нога замерзла, она вернулась за опорком, и более сил у нее, видать, не осталось на громоверженье, она увела своего сыночка в избушку, правда, до самого лаза вскидываясь и грозя кулаком, но все же ушла с глаз долой.
– У-ух! – выдохнули все разом. Отпустило! Кеша снова начал целиться, но уже нет в нем прежней уверенности, сбили его с линии. Целился, целился – я аж весь извелся – братан как-никак, хоть и двоюродный.
Хлобысь! Мимо!
– Заколновали дак… – дрожа губой, Кеша отходил в сторону, но никто уж его не слышал и не замечал. Новый паночек, легонький, без свинца, свалил две пары лохматых, неряшливых бабок. Санькины. Домнинский Гришка бил. Этот по зернышку клюет да сыт бывает! Он почти никогда не вышибал кона, даже среднего, но на чердаке у него корзина бабок. Накопит и продает по копейке пару.
Мне, как всегда в начале игры, привалил фарт. Кешиным панком я сшиб шесть передних пар подчистую, в седьмой паре рюшка стояла-стояла, взяла и тоже упала. Если в паре падает одна бабка, забираются обе. Отыграл я несколько Кешиных бабок, закатывался счастливо, возвращая их братану:
– Расколновали!
Но вскоре, опрокинув целиком кон, я вошел в азарт, впал в жадность, забыв мудрое правило: первому кону не верь, первому выигрышу не радуйся, перестал отдавать Кеше его бабки. За то он не давал мне больше бить своим панком. Я дерзко и опрометчиво послал его вместе с панком подальше, и со своим, мол, не пропаду, и своим уж вон сколько выбил народу из игры, подчистую вытряс Саньку. Да и чего вытрясать-то? У него и бабок-то велось четыре пары. Игроки, которые еще живы, осатанели, готовы перекусить меня пополам, некоторые подхалимничают, бабки подбирают и хранят, чтоб потом я уделил им пару-другую либо милостиво дал ударить по кону. А бабок, бабок у меня! Карманы трещат, под рубахой грохочет, будто на мельнице! Хоть и говорят, что в игре, как в бане, все равны, да все это ерунда на постном масле. Хитрован – домнинский Гришка, и тот, выиграв десяток бабок, домой подался, заявивши, что у них гости приехали, пироги пекли и велено ему быть дома.
Что мне Гришка?! Я братана своего не пощадил, ободрал как липку. Он стоит и глаза на меня лупит, не понимая, что произошло, как и когда это дорогой его братец – сиротинка горемычная – в этакую беспощадную зверину успел обратиться?
А мне все нипочем! Я в окошко кирпичом! И обедать не пойду! Коли биться до конца – без ужина дюжить стану, и пусть мне бабушка наподдает – до ночи рубиться буду, да хоть и до утра! Всех в прах поразнесу! Нет мне пределу! Круши гробовозов! У-ух, какой я человек!
Ставлю почти целый кон из одних панков. Где-то там, в конце кона, поредевший отряд игроков с содроганием в сердце лепил парочку-другую рюшек. Считай – дело безнадежное. У меня десяток ударов. Я хлещу, хлещу да загребаю бабки. Меня посещает удаль, а вместе с нею небрежность, зазнайство – вечные спутники слепой удачи. И, не понимая еще, какая темная сила подкарауливает меня, хряпнул по кону почти наудалую, не целясь – и промазал. Кто-то из игроков снял кон – экая беда. Я их, этих конов, сколько могу выставить?! Не перечесть!
Еще кон просвистел. Еще. Засосало повыше брюха, шевельнулась тревога в груди: в первый и последний раз посетила горячую мою голову мысль: отколоться от игры. уйти, ибо опять же есть заповедь: люби – не влюбляйся, пей – не напивайся, играй – не отыгрывайся. Да где там?! Занесло игрока, заело: что я, домнинский крохобор? Пеночник? Трус? Умру, но отыграюсь! Отчаяние, злость слепят человека, трясут, лихорадят руки, даже глаз дергается. Изредка я еще попадал в кон, отыгрывал пяток-другой бабок, но раздражение уже делало свое дело – все неуверенней рука, все легче у меня в карманах. Я начал ругаться, спорить, толкнул кого-то из малых, будто он мешал бить, будто бы шептал мне под руку. Малый оказался из задиристого верехтинского рода, и Илюха Сохатый, мой одногодок, крупный, носатый парень, заступаясь за племяша, посулился созвать старшего братана Ваньку и дать мне «пару».
– Мне? Пару? Да я!..
Р-раз! Мимо! Панка своего на кон. Совсем это распоследнее дело. К своей бите почтительность должна быть. Продуйся дотла, но главный «струмент» береги! Проиграть его – все равно что последнюю рубаху с тела пропить…
Протетерил и панка. Хоть кулаком бей. Да и ставить на кон, кроме души, нечего. Поставил бы, да не берут – цены душа никакой не имеет. Бросился к Кеше, просить взаймы бабок, десять штук. Шесть! Хоть пару!
– Не нам! – уперся Кеша. – Ини домой, весь вон трясесся, ишшо ронимец хватит…
– Ы-ых, рас… – Я назвал Кешу распаскудным словом. – Погоди, погоди, попросишь чего-нибудь…
По правде сказать, ничего он у меня не попросит, и давать ему мне ничего не приходилось, потому как живет он при родителях и все у него есть. Но сколько раз вступался я за братана, когда его били или пытались бить. Шишек сколь из-за него наполучал! Дрова пилить помогал, на сплавном пикете ночами с ним дежурил, чтоб одному ему не страшно было; снег во дворе разгребал, назем из стайки вычищал. Сегодня вот, сейчас, сколько я ему бабок отыграл!.. пока не раздухарился, пока в горячку не вошел?
– Чехотошная ты харя! – плюнул я в ноги братану и, поверженный, поплелся от кона в сторону. Стоял на земле, холодной, сырой, неприютной, легкий, опростанный, будто сердце из меня вынули и вместе с ним все остальное, что было в середке. Хотелось зареветь или подраться. Я уж помаленьку натыриваться стал на ребятню, но Санька левонтьевский, не умеющий помнить зла, Санька, которого я выбил из игры. всегда ревниво относившийся к нашим с Кешей отношениям, чутко в них улавливал разлад, прислонился ко мне, сыро выдохнул в ухо:
– Идем на расхватуху!
Расхватуха – считай что грабеж средь бела дня. Люди ведут честную игру, ставят бабки на кон, старательно бьют, переживают, изнашивают сердца, все идет хоть и в горячке, в спорах, порой с потасовками, но удача зависит от меткости, уменья, сноровки – за каждый промах выставляй пару бабок – кон иной раз солдатской колонной марширует от стены до дороги, перехлестывает ее, выпрыгивает на бугорок, шатнется по склону, отодвинет место, с которого били, притиснет битоков к огородам. Случалось, едет мужик на телеге и, если мужик он путевый, не шарпачня, никогда кона не переедет, обогнет его, лошадь в прошлогоднюю дурнину загонит, изматерится весь, но – таков древний закон – игры не нарушит. Часто случалось: натянет вожжи, коня остановит, глазеть начнет, а там и в игру встрянет, советом пособляет, показывать возьмется, какие он в ранешное время коны вышибал! – увлечется, забудет, куда и ехал. Застигнутый в игре женой либо тещей, спохватится мужик, утрет фуражкой пот со лба, нахлобучит ее на глаза и, ругнувшись безо всякого зла, погонит лошадь за речку, все оглядываясь, все вытягивая шею, все еще пребывая неостывшим сердцем в игре и в той счастливой поре, которую возможно достать близкой памятью, ведь не запекло еще и выбоины, сделанные его битой на платоновском заплоте.
До ста и до двухсот штук случалось в кону бабок! Волосы дыбом – во какая игра! И вот жук какой-нибудь, вроде Саньки, дождавшись несогласья средь игроков, шумной перебранки, вдруг бросал разбойный клич:
– Хвата-а-а-аай! – и валился брюхом на кон.
Часто налетчика схватывали и били в кровь, но еще чаще продувшийся народ подхватывала жажда хапнуть чужое, получалась куча мала, раздавались вопли: «Я те дам! Я те дам! А-пусти-и-и-и-и-и-и!», «Не тронь!», «Зубы выбью!..» – Парнишки кусались, царапались, били по зубам, по рукам, пинком в живот, в пах. Под шумок, не то сама собой, не то чьей-то вражеской рукой выдергивалась из-под штанов рубаха богатого человека – по земле широко раскатывались бабки. Хозяин рушился, сгребая под себя свое добро, защищая его горячим телом. Но верткие бабки выкатывались, сыпались, и кто посноровистей и ловчей из ребят чесал уже по заулкам, нервно похохатывая, иной пакостник еще и дразнился, травил честной народ, показывая захапанные бабки.
«Погоди! Погоди, падина! – кричали вслед ему. – Припомним мы тебе!..»
Деревенская жизнь вся на виду, никуда не скроешься. И когда шарапники являлись с захапанными бабками, их не принимали в игру, всячески поносили. Отторгнутые от честной игры, налетчики организовывали свой кон, но там уж добра не жди – рвачи играли рвачески, брали не мастерством, нахрапом больше. Кто-нибудь из совестливых малых, захваченный волной разбоя, минутой слепой стихии, долго такой жизни и бесчестья не выдерживал, приносил бабки к «чистому» кону, покаянно их вытряхивал.
– Вот… – маялся, переступая с ноги на ногу. – Все до единой…
Ему ни слова, ни взгляда.
– Хоть пересчитайте!..
Тяжела, сурова мужицкая справедливость – наказав мошенника презрением, усовестив словами, порой и до слезы доводя, со скрипом и недовольством стойкие игроки наконец-то разрешали:
– Ладно, ставь! Но штабы…
И не было счастливей и честней тогда человека, чем недавний шарапник. Перед всем миром виноватый, он всячески выслуживался, истово следил за порядком и справедливостью в игре, с особой бдительностью за мелким ворьем, которое пяткой откатывало выбитую бабку либо, меж пальцев ее зажимая, отхрамывало в сторону, якобы занозу вынуть из подошвы. В запал сражения вошедший боец не всегда и заметит, что его обирают, на ходу, можно сказать, подметки рвут…
Один раз Санька-злодей забрал в расхватухе почти все Кешины бабки, и тот с ревом явился к нам – игра шла на нижнем конце села. Бабушка, сострадая ограбленному внуку, сыскала где-то пяток заросших пылью рюшек, и мы их катали на деревянном настиле двора, ведя скучный и невзаправдашний счет выигранным бабкам. Зазвенела щеколда, растворились ворота. Почесываясь, кособочась, жуя ком серы, в наш двор протиснулся ухмыляющийся Санька.
Мы с братаном его не замечали. Наблюдая за нашей вялой игрой, Санька презрительно цыркал слюной, норовя попасть в рюшек. Мы не удостаивали вниманием разбойника, а это для Саньки острее ножа. Он ожег нас красными глазами, тряхнул рубахой – под нею зазвякали бабки.
– Сыграм?
– На воровано не льстимся. Чеши отседова!
– Чё-о?
– Чеши, чеши по гладенькой дорожке на одной ножке!..
Кеша – откуда что взялось! – еще складнее добавил:
– На легком катере к енреной матере!..
Назревала драка. Союзно с братаном мы навтыкали бы Саньке, потому что накалились, нас испепеляла злость, придавая сил. Но задраться не успели, в окно выглянула бабушка и навалилась на Саньку:
– Эт-то что жа ты, каторжанец, делаш? Чем же ты промышляш? – и сокрушенно качала головой: – Не-ет, не будет из тебя пути! Ежели ты с эких пор людей обираш, на чужо заришься, шлепать тебе сибирским етапом, вшиветь по тюрьмам да по острогам…
Натиска бабушки Санька долго не выдерживал, он еще почесался, поухмылялся, ужимочки построил, но потом понуро опустил голову, зачертил по настилу, острым, что лезвие топора, ногтем. Кеша, чувствовал я, собирается пособить бабушке, вот-вот скажет: «Чё своим копытом царапаш наши носки?» Я собрался накричать на Кешу и на Саньку, чтобы победить занимающуюся жалость, но Санька выдернул рубаху из-под штанов – посыпались бабки, запрыгали по настилу. Одну рюху Санька поддел ногой так, что она под навес укатилась. Засвистевши, завихлявшись, отправился налетчик со двора, возле ворот остановился – посмотреть, как мы с Кешей бросимся собирать бабки, – мы не бросились.
– Я ить понарошке, – сказал он.
И вот этот самый Санька, понарошке, видите ли, грабивший игроков, самый верткий в расхватухе и во всех темных делах, сманивал меня на лихой налет, заставляя отринуть бабушкин наказ: «Где наглость и похабство, там подлость и рабство». Хоть и с большим трудом, я подавил в себе нечистые устремления, пополам, можно сказать, себя переломил:
– Обчистили! – всплеснула руками бабушка, когда я приплелся домой. – Экой простодырай! – принялась она меня корить. – Я зиму-зимскую копила бабки, он их враз профукал!.. Ты бы не во всякой кон ставил. Где выгодней – смекал бы… Ладно, – утешала меня бабушка, – проиграл – не украл, хорошо, сам цел остался…
Тем же годом видел я большую игру в бабки. Играли на гумне взрослые парни, казавшиеся мне тогда мужиками. Гумно было по-весеннему пустое, просторное, лед под толстой соломенной крышей гумна еще «не отпустило», он был гладок, с прозеленью. Кон бабок ершился в дальнем от ворот конце гумна, возле поперечной стены. Стоял он не как у нас – зеленых игроков, попарно, солдатиками. Здесь бабки цепь за цепью шли в наступленье поперечным строем. В передних цепях реденько тащились прогонистые солдатики – рюшки, за ними, строем поплотней – солдатики вперемежку с унтерами, задний кон – по-боевому сплочен – в нем плечо к плечу маршировали отборные гренадеры-панки, что ни панок, то и боец, за одного, не дрогнув, десяток рюх выложишь!
Парни били по конам каменными плитками, отысканными на берегу Енисея. У нас от веку так было: лед еще стоит, на огородах и в лесу снег серыми тушами лежит, но по берегам уж камешник вытаял, обсох, играет чистой гладью на радугой выгнутом мысу реки – выбирай плитку какого хочешь цвета. Есть у игроков и свинцовые биты, но их всего две-три штуки на деревню, и оттого редко пускают их в дело.
Был праздник Благовещенья или конец Пасхи – не помню. Деревня гуляла, пела и развлекалась на воле. В гумно наперло мужичья, ребятишек оттеснили, приплюснули к стенам – ничего не видать. Парнишки, как чивили, расселись по балкам, под самой крышей – сверху еще лучше видно.
Какая шла игра! Без жульничества, без споров, ора, гама и потасовок. Бабки принесены не под рубахами, не в дырявых карманах, а в мешочках, корзинках, старых пестерях и туесах. Бабки все бывалые, темные и седые от старости, сплошь в царапинах и увечьях, полученных в сражениях, но крепкие, потому что слабая бабка давно разбита, у слабой бабки век короток.
Били парни, как и мы, по-разному, соответственно характеру и уменью. Вот встал на одно колено парень в нарядной, черными нитками вышитой, бордовой рубахе, сидоровский Федор. У меня и сердце остановилось, хороший потому что парень, так просто мимо не пройдет, всегда по шапке потреплет, шутливое отмочит: «Ну, чё, жук навознай? Залез в амбар колхознай! Точишь точилку об зерно, манишь девок на гумно!» Правду сказать, я еще никого на гумно не манил, еще только собирался, но сердце все равно встрепенется в груди, отзываясь на неуклюжую мужскую ласку.
Федор ударил накатом, и поначалу гладкая, красноватая плитка в белых прожилках катилась в середину кона, однако на пути ее подшибло зернышком, плитка дернулась, пошла вкось и ударила по левому краю заднего, самого широкого кона. Дружок мой, Ленька сидоровский, облегченно выдохнул, и я тоже выдохнул – мы не дышали, пока Федор целился. Ладно, хоть попал Федор, пусть и неважнецки, да попал. Многие мажут. И кон широк, и плитки по льду ходовито катятся, да бьют-то чуть не за версту. Нам, парнишкам, в такую даль и не добросить плитку, да и в подпитии игроки, глаз неверен, горячатся лишка, иные кураж на себя нагоняют, а кураж тут ни к чему. Женись сперва, заведи жену и куражься над ней сколь влезет, игра – штука серьезная, обчистят и плакать не велят…






