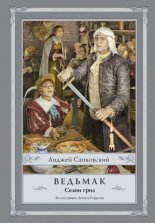Джейн Эйр Бронте Шарлотта

– Оба умерли, я их даже не помню.
– Ну и вот, все здешние девочки потеряли кого-то из родителей, а то и обоих, и эта школа называется воспитательным учреждением для сирот.
– И мы не платим никаких денег? Нас что, держат здесь даром?
– Платим, или наши родственники платят – по пятнадцать фунтов в год за каждого.
– Тогда где же тут благотворительность?
– Пятнадцать фунтов – это мало, чтобы содержать и учить нас, и разница поступает по подписке.
– А кто же эти желающие?
– Разные леди и джентльмены, которые считают это своим долгом. Они и из этих мест, и из Лондона.
– А кто это была – Наоми Броклхерст?
– Леди, которая построила новую часть здания, как там написано, и чей сын ведает тут всеми делами.
– Почему?
– Потому что он казначей и управляющий нашего заведения.
– Значит, этот дом не принадлежит этой высокой леди с часами, которая сказала принести нам хлеба с сыром?
– Кому? Мисс Темпл? Не-ет! Хорошо, если бы. Она за все отвечает перед мистером Броклхерстом. Мистер Броклхерст покупает нам всю еду и всю одежду.
– А он здесь живет?
– Нет, в двух милях отсюда, в большом таком доме.
– Он хороший человек?
– Он священник. Говорят, что он делает очень много добра.
– Ты сказала, что ту высокую леди зовут мисс Темпл?
– Да.
– А как зовут других учителей?
– Розовощекую зовут мисс Смит, она у нас по рукоделию, по кройке: мы ведь сами шьем себе платья, накидки и все остальное. Маленькая с черными волосами – это мисс Скэтчерд, она преподает историю и грамматику и ведет второй класс. Которая в шали, а сбоку кармашек для носового платка на желтой ленте – это мадам Пьерро, она из Франции, из города Лилля, преподает французский язык.
– А тебе нравятся учителя?
– Вполне.
– А маленькая черненькая? И эта мадам, как ее, я не могу произнести ее фамилию так, как ты?
– Мисс Скэтчерд. Она легко выходит из себя, ей лучше не давать повода. А мадам Пьерро – неплохой человек.
– А лучше всех мисс Темпл, да?
– Мисс Темпл очень добрая и очень умная. Она стоит над всеми, потому что знает куда больше их.
– Ты давно здесь?
– Два года.
– А ты сирота?
– У меня мама умерла.
– Тебе хорошо здесь?
– Ты задаешь слишком много вопросов. Для начала я и так уже ответила тебе достаточно, а теперь я хочу почитать.
Но тут прозвучал сигнал к обеду, и все вернулись в дом. Запах, который на сей раз заполнял столовую, вряд ли был аппетитнее того, что ласкал наше обоняние перед завтраком. Обед подали в двух больших луженых котлах, из которых валил пар и распространялся отчетливый запах прогорклого жира. Выяснилось, что месиво состояло из рядовой картошки и мяса с душком, его и разложили по тарелкам, и довольно щедро. Я съела, сколько могла, думая: неужели так будут кормить каждый день?
После обеда мы снова пошли в класс, и занятия, согласно плану, продолжились и длились до пяти часов.
Единственным примечательным событием дневной части занятий было удаление с урока истории девочки, с которой я разговаривала на веранде. Рассерженная мисс Скэтчерд поставила ее посреди комнаты. Это наказание показалось мне в высшей степени позорным, особенно для такой большой девочки – на вид ей было не меньше тринадцати. Я думала, что ей будет стыдно и это будет заметно по ее поведению, но, к моему удивлению, она не заплакала и не покраснела. Спокойно, хотя и с грустным лицом, она стояла под взглядами всех классов. «И откуда это у нее такое спокойствие, такая выдержка? – спрашивала я себя. – Будь я на ее месте, я бы мечтала сквозь землю провалиться. А она – она, похоже, думает не о том, что ее наказали, а о чем-то совсем постороннем, ее мысли где-то вдалеке. Слышала я о снах наяву. Так, может, это у нее и есть сейчас сон наяву? Взгляд уперся в пол, но я уверена, она его сейчас и не видит. Она совсем ушла в себя. Она видит воспоминания, по-моему, а не то, что сейчас происходит. Интересно, эта девочка хорошая или плохая?»
Вскоре после пяти часов нас снова покормили. На сей раз была маленькая кружка кофе и половинка ломтика черного хлеба. Я с удовольствием проглотила все это и смогла бы повторить, потому что во мне не утихало чувство голода. Потом мы полчаса отдыхали, затем занимались самостоятельно. Позже нам дали по стакану воды и кусочку овсяного кекса, далее была молитва, а там и сон. Так прошел мой первый день в Ловуде.
Глава VI
Следующее утро началось, как и накануне, с подъема и одевания, только на этот раз пришлось обойтись без церемонии умывания, поскольку вода в кувшинах подернулась льдом. Накануне вечером погода резко изменилась, подул сильный северо-восточный ветер, он со свистом врывался в зазоры окон спальни, вынудил нас всю ночь дрожать в постелях, а воду для умывания подморозил.
Еще не прошла и половина времени, отведенного на молитвы и чтение Библии, как я совершенно окоченела от холода. Наконец наступил завтрак. В это утро каша не подгорела. По качеству она была съедобной, а вот количество ее было мизерным. До чего же маленькой показалась мне моя порция! Я и две таких съела бы.
В этот день меня зачислили в четвертый класс и на меня навалились все соответствующие нагрузки и обязанности. Если до этого я была в Ловуде зрителем, то теперь становилась актером. Поначалу мне, почти непривычной учить наизусть, уроки показались и длинными, и трудными. Смущала меня и частая смена предметов. Но что мне понравилось, так это когда в три часа мисс Смит вложила мне в руки полоску тонкой ткани длиной в два ярда, дала иголку, наперсток и прочее и посадила меня в тихий угол классной комнаты, дав задание подбить ткань. Большинство в этот час также занимались рукоделием, но девочки одного класса стояли вокруг стула, на котором сидела мисс Скэтчерд, и читали вслух, а так как в классе было тихо, мы могли слышать, о чем шла речь на уроке, как отвечали ученицы, как мисс Скэтчерд ругала или хвалила их за ответы. Шел урок истории Англии. Среди учениц я увидела и мою знакомую по веранде. В начале урока она стояла во главе класса, но за какую-то ошибку в произношении или невнимание к построению фразы она была вдруг отодвинута в конец класса. Но этого мисс Скэтчерд оказалось мало, она все время обращала на девочку внимание, то и дело делала ей замечания:
– Бёрнз (очевидно, это была фамилия девочки, и всех учениц здесь звали по фамилиям, как мальчиков), что ты кособочишь ботинки, поставь ногу прямо!.. Бёрнз, что ты так выпячиваешь подбородок, подбери его!.. Бёрнз, ну сколько тебе надо говорить, чтобы ты выше держала голову?! Чтобы я больше этого не видела!..
И далее все в том же духе.
Главу дважды прочитали, потом книги захлопнули и стали проверять, кто, что и как запомнил. Урок был посвящен временам правления Карла I, мисс Скэтчерд задавала заковыристые вопросы о тоннаже судов и пошлинах на тоннаж, доходах казны от судоходства и так далее, и большинство плавало при ответе, но, как только очередь доходила до Бёрнз, следовал четкий ответ, словно для нее и не существовало никаких трудностей. По-видимому, ее память удерживала основной материал урока так, что она всегда готова была ответить на любой вопрос. Я все ждала, что мисс Скэтчерд похвалит ее за прилежание, но вместо этого та вдруг закричала на нее:
– Грязнуля, упрямая девчонка! Ты что, не могла утром под ногтями почистить?
Бёрнз не ответила ей, и это меня удивило.
«Неужели она не могла сказать, – подумала я, – что сегодня и умыться-то было нечем, что вода замерзла?»
Потом мое внимание было отвлечено от урока истории просьбой мисс Смит, которая подозвала меня и попросила подержать ей моток ниток. В течение перемотки она со мной время от времени разговаривала, спрашивала, ходила ли я раньше в школу, умею ли метить, вышивать, вязать и так далее. Пока мы не закончили перемотку ниток, я не имела возможности следить за действиями мисс Скэтчерд, а когда я вернулась на место, мисс Скэтчерд отдала какое-то приказание. Какое, я не расслышала, только Бёрнз немедленно встала, вышла из класса и направилась в комнатушку, где хранились книги, а через полминуты вернулась, неся в руке пучок связанных с одного конца розг. С почтительным книксеном она передала эти жуткие орудия в руки мисс Скэтчерд. Потом она с предельным спокойствием сняла передник, хотя никто ей ничего не говорил, и учительница тут же нанесла ей пучком розг с дюжину хлестких ударов в район шеи. Бёрнз не уронила ни слезинки. На время этой процедуры я оторвалась от своего занятия, потому что пальцы дрожали от наполнявшего меня бессильного гнева, а у Бёрнз лицо ничуть не изменило своего привычного выражения грустной задумчивости.
– Вот упрямая девица! – шумела мисс Скэтчерд. – Ну как еще бороться с твоей неряшливостью? Уноси розги.
Бёрнз послушно выполнила указание. Когда она выходила из комнатушки, я с близкого расстояния увидела, что она успела сунуть в карман носовой платок, а на ее впалой щеке был след от слезы.
Вечерний час для игр я считала самой приятной частью распорядка дня в Ловуде. В пять часов мы получали кусок хлеба с кофе, и это хоть и не утоляло голод, но прибавляло сил. Долгое напряжение учебного дня спадало. В классе становилось потеплее, чем утром – камины топились чуть ярче, таким образом, немного экономили на свечах, которые пока еще не зажигали. Играл красный свет каминов, раздавался шум голосов и громкий смех, разрешенные в это время, и мы испытывали желанное чувство свободы.
Вечером того же дня, когда мисс Скэтчерд наказала розгами воспитанницу Бёрнз, я бродила по классному помещению среди столов и людей, как обычно одна, но одиночества не испытывала. Проходя мимо окон, я время от времени приоткрывала шторы и поглядывала на улицу. Валил снег, ветер наметал его на нижнюю часть окон, частично закрывая их. Прикладывая ухо к стеклу, я различала сквозь веселый шум в комнате заунывные завывания ветра за окном.
По всей вероятности, если бы я уехала из хорошего дома и от добрых родителей, то в этот час я особенно сильно переживала бы разлуку – так печальны были завывания ветра, и так саднило бы на душе от тьмы и хаоса за окном. А в данной ситуации мною наоборот овладело необъяснимое лихорадочное возбуждение, и мне захотелось, чтобы ветер завыл зверем, а мгла обратилась в полную тьму.
Перелезая через скамейки и подлезая под столами, я пробралась к одному из каминов и там увидела Бёрнз. Она стояла на коленях возле высокой каминной решетки, сосредоточенная, молчаливая, отрешенная от всего происходящего вокруг. При тусклом свете углей она читала книгу.
– Это «Расселас»? – спросила я, подойдя сзади.
– Да, – ответила она. – Сейчас дочитываю.
И через пять минут она ее захлопнула. Это меня обрадовало.
«Теперь я смогу, может быть, разговорить ее», – подумала я и села рядом с нею на пол.
– Твоя фамилия Бёрнз. А имя?
– Хелен.
– Ты издалека приехала сюда?
– Издалека, с севера, это возле Шотландии.
– А вернешься туда когда-нибудь?
– Надеюсь. Про будущее загадывать трудно.
– Ты, должно быть, хотела бы уехать из Ловуда.
– Нет, зачем?! Меня послали в Ловуд, чтобы я получила здесь образование. Какой же смысл уезжать отсюда, не достигнув цели?
– Эта учительница, мисс Скэтчерд, она очень жестока с тобой.
– Жестока? Вовсе нет. Она просто строга со мной. Ей не нравятся мои промашки и недостатки.
– Будь я на твоем месте, я ее возненавидела бы. И оказала бы ей сопротивление. Если бы она меня ударила розгами, я вырвала бы их у нее из рук и сломала бы у нее под носом.
– Скорее всего, ничего такого ты не сделала бы. А если бы сделала, то мистер Броклхерст исключил бы тебя из школы. Представляешь, какое горе это было бы для твоих родственников? Куда лучше терпеливо снести боль, которую чувствуешь только ты, и никто другой, чем совершать поспешные поступки, недобрые последствия которых распространятся на всех твоих близких. К тому же Библия учит нас платить добром за зло.
– Но ведь это такой позор – когда тебя бьют розгами, заставляют стоять посреди комнаты, в которой полно людей. А ты ведь большая девочка. Я младше тебя, и то не смогла бы снести этого.
– Должна была бы снести, это твой долг. Это проявление слабости и глупости – говорить, что не можешь снести то, что тебе суждено снести самой судьбой.
Я слушала ее и не могла понять этой философии непротивления. Еще меньше я понимала или разделяла ее терпимость в отношении своей мучительницы. Но я чувствовала, что Хелен Бёрнз видит вещи в совсем другом свете, невидимом моему глазу. Я допускала, что она права, а я нет, но глубоко копаться в этом мне не хотелось, я решила, что время рассудит.
– Вот ты говоришь, Хелен, что у тебя есть недостатки. Какие? Мне ты кажешься очень хорошей.
– Я тебе скажу, а ты не суди о человеке по внешнему впечатлению. Я, как говорит мисс Скэтчерд, неряшлива. Я не слежу за своими вещами, я безалаберная, пренебрегаю установленными правилами, читаю книги, вместо того чтобы учить уроки. Я неорганизованная, я иногда говорю, как и ты, что не выношу этой вечной жизни по правилам. А мисс Скэтчерд это раздражает, потому что она по своей природе аккуратная, пунктуальная, обстоятельная.
– И еще грубая и жестокая, – добавила я, но Хелен промолчала, не приняв моего дополнения. Я спросила: – А мисс Темпл так же сурова с тобой, как мисс Скэтчерд?
При упоминании мисс Темпл легкая улыбка промелькнула на грустном лице Хелен.
– Мисс Темпл – это сама доброта. Она не может быть суровой даже с какой-нибудь самой плохой девочкой в школе, она испытывает от этого боль. Она видит мои недостатки и мягко указывает мне на них, а если я делаю что-то заслуживающее похвалы, тут уж она не скупится. Вот тебе доказательство моей испорченности: даже ее тактичные, умные замечания не могут повлиять на меня, и я снова допускаю те же промахи. И даже ее похвалы, которыми я очень дорожу, не помогают мне стать аккуратной и внимательной.
– Странно, это же так просто, – сказала я.
– Для тебя – несомненно. Я смотрела на тебя во время занятий. Ты такая внимательная, твои мысли, по-моему, никогда не блуждают где-то вдали, когда мисс Миллер объясняет урок или спрашивает тебя. А я мыслями вечно где-то далеко – далеко. Когда мне нужно слушать мисс Скэтчерд и старательно запоминать, что она рассказывает, я часто вообще перестаю слышать даже ее голос. Я словно засыпаю и вижу сны. Иногда мне кажется, что я в Нортумберленде, а звуки, которые я слышу вокруг, это журчание ручейка, бегущего через Дипден, рядом с нашим домом, и, когда приходит черед отвечать, я словно просыпаюсь и из-за этого воображаемого ручья ничего не могу сказать, потому что все пропустила мимо ушей.
– Днем ты сегодня отвечала очень хорошо.
– Просто случайно. Тема, о которой шла речь, заинтересовала меня. На том уроке, вместо того чтобы думать о моем Дипдене, я задавалась вопросом, как это человек, который желает сделать добро, совершает столько несправедливостей и безрассудства, как это делал иногда Карл Первый. Я еще думала, как жаль, что такой цельный и честный человек замкнулся на борьбе за права короны и ничего не видел дальше этого. Если бы он смог заглянуть вперед, понять, что называется, дух века! Однако я люблю Карла, почитаю его, и мне жалко его, жалко, что его убили. А его враги – негодяи, потому что они пролили кровь. Они не имели права идти на кровопролитие. И как они смели убить его!
Сейчас Хелен беседовала практически сама с собой: я ведь не могла, как следует понять, о чем она рассуждает, потому что почти ничего не знала о предмете, про который она говорила. И я решила приопустить ее на свой уровень.
– А когда преподает мисс Темпл, твои мысли тоже бродят вдали?
– Нет, конечно, не часто. Потому что мисс Темпл, как правило, говорит о чем-то новом, более интересном для меня, чем мои собственные мысли. Мне нравится ее язык, а то, что она сообщает, словно рассчитано на меня.
– Значит, на уроках мисс Темпл ты хорошо ведешь себя?
– Да, но это само собой получается. То есть, я не делаю никаких усилий над собой, я просто поступаю так, как мне нравится, а нравится мне – слушать ее. Вот так быть хорошей – не велика заслуга.
– А я считаю, это хорошее дело: ты добра с теми, кто добр с тобой. По мне, так и должно быть. А если люди будут добры и покорны с теми, кто жесток и несправедлив, то злые люди добьются, что все будет по-ихнему. Они ничего не будут бояться, никогда не изменятся к лучшему и будут становиться все хуже и хуже. Когда тебя ударят ни за что, ты должен ответить, и как следует, я уверена в этом. Да так, чтобы у того человека навсегда отпало желание бить тебя или кого-то.
– Ты изменишь свое мнение, я надеюсь, когда подрастешь, а сейчас ты пока маленькая девочка, которая мало чего знает.
– Но я это чувствую, Хелен. Нужно ненавидеть тех, кто упорно ненавидит тебя, несмотря на то, что ты стараешься угодить им. Нужно оказывать сопротивление тем, кто незаслуженно обижает тебя. Это так же естественно, как любить тех, кто любит тебя, или принимать наказание, когда ты этого заслуживаешь.
– Такой философии придерживаются язычники и дикие племена, а христиане и цивилизованные народы ее не признают.
– Как это? Не понимаю.
– Ненависть не победить насилием. И не месть лучше всего лечит раны.
– А что же?
– Почитай Новый Завет и обрати внимание, что говорит Христос и как он поступает. И возьми его слово себе за правило, а его поведение – себе в пример.
– А что он там говорит?
– Любите ваших врагов, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас.
– Значит, тогда я должна любить миссис Рид, которую не могу любить, и благословлять Джона, что невозможно.
Хелен попросила меня пояснить, о чем я говорю, и я как могла, изложила ей повесть своих страданий и переживаний. Придя в возбуждение, я говорила в резких выражениях, так, как я чувствовала, ничего не утаивая и не прихорашивая.
Хелен спокойно дослушала меня до конца. Я ожидала, что она сразу выразит свое отношение к услышанному, но она ничего не сказала.
– Так что, – нетерпеливо спросила я, – миссис Рид разве не бессердечная и злая?
– Она была недобра к тебе, конечно. Это потому, что ей не нравился твой склад характера, как мой не нравится мисс Скэтчерд. Но до каких подробностей ты помнишь все, что она сделала и сказала тебе! Какие же глубокие следы оставила ее несправедливость в твоем сердце! Когда ко мне относятся плохо, в моей душе это не оставляет следов. Если бы ты постаралась выкинуть из памяти эти жестокости и свои связанные с этим эмоции, разве не стало бы тебе легче? Жизнь мне кажется слишком короткой, чтобы тратить ее на то, чтобы лелеять в себе враждебность и злобу или считать недостатки других. Мы все до одного обременены в этом мире недостатками, иначе и быть не может. Но скоро, я верю, настанет время, когда мы освободимся от них, освободившись от наших грешных тел. И когда грехи упадут с нас вместе с бренной плотской оболочкой, то останется лишь душевная искра, – неосязаемая основа света и мысли, чистая, как тогда, когда Создатель только вдохнул ее в свое создание. Однажды придя, она уйдет. И, возможно, соединится с существами более высокими, чем человек. А может, пройдет через все небесные ступени и из бледной человеческой души превратится в яркого серафима. Наверняка ей не придется испытать противоположный путь и выродиться из человеческой в дьявольскую. Нет, я в это не верю. Я придерживаюсь другого убеждения. Ему никто меня не обучал, и я редко говорю о нем. Но я нахожу в нем удовлетворение и твердо придерживаюсь его. Оно дает надежду всем. Согласно ему, вечность – это покой, это огромный дом для всех, а не страх и преисподняя. К тому же это убеждение дает мне возможность провести четкое различие, скажем, между преступником и преступлением Я могу искренне простить первого, но с негодованием отвергну второе. Мое убеждение помогает мне тем, что месть никогда не овладевает моим сердцем, унижение не наносит мне глубоких шрамов, несправедливость никогда не подавляет меня. Я живу в спокойствии и гляжу вперед.
В конце последней фразы голова Хелен, и без того обычно опущенная, склонилась еще ниже. По ней было видно, что ей не хочется больше разговаривать со мной, а поскорее остаться со своими собственными мыслями. Но ей не дали времени на размышления: пришла староста, крупная грубая девица, и выкрикнула с сильным кемберлендским акцентом:
– Хелен, если ты немедленно не пойдешь и не уберешь в своем ящике и не сложишь свои рукоделия, я немедленно скажу мисс Скэтчерд, пусть придет, посмотрит.
Хелен вздохнула, потревоженная в своих грезах, и встала, подчинившись старосте без слов и промедления.
Глава VII
Первые три месяца в Ловуде показались мне целым веком, и век был отнюдь не золотым. Я с трудом привыкала к новым правилам и неприятным нагрузкам. Боязнь не справиться с этими трудностями угнетала меня больше, чем физические лишения, хотя и их хватало.
Весь январь, февраль и часть марта лежал глубокий снег, и после его таяния дороги стали почти непроходимыми, поэтому мы носа не высовывали за пределы стен сада, если не считать хождения в церковь. Но в границах сада мы по часу каждый день проводили на открытом воздухе. Наша одежка плохо защищала нас от сильного холода. Перчаток у нас не было, а потому вечно мерзли руки. Сапожек мы тоже не имели, снег попадал в башмаки и таял, и я помню, как по вечерам ноги горели огнем, и как это раздражение ничего не давало делать. А по утрам приходилось переносить пытку, натягивая на опухшие и потрескавшиеся ноги грубые башмаки. Угнетало и недоедание. Мы росли, и у нас был зверский аппетит, а кормили нас так, что этого вряд ли хватило бы, чтобы поддерживать жизнь даже в чахлом больном. Вследствие недостаточного питания получил развитие один вид злоупотребления, от которого страдали младшие ученики: мучимые голодом старшие школьницы уговаривали младших или угрозами заставляли их делиться своими порциями. Мне много раз приходилось свой кусочек серого хлеба, который выдавали в пять часов, делить между двумя претендентками на него, а половину кофе отдавать третьей. После этого я проглатывала остаток кофе – вместе со слезами, тайком выкатывавшимися из глаз от неутоленного голода.
Особенно тоскливыми были этой зимой воскресенья. Нам приходилось идти за две мили в Броклбридж, в местную церковь, где пастором был наш попечитель. Мы уже из школы выходили озябшие, в церковь приходили замерзшие, а во время утренней службы превращались в сосульки. Предстояла еще одна служба, и из-за большого расстояния мы на обед не возвращались, а между службами нам выдавали холодное мясо с хлебом – такие же мизерные порции, как и во время обычных обедов.
После окончания дневной службы мы шли домой. На открытой холмистой местности на нас набрасывался холодный ветер, дувший с севера, со стороны заснеженных гор, и обжигал нам лица.
Помню, как мисс Темпл легким и быстрым шагом обходила наши понурые ряды, как облегала ее фигуру и трепетала на морозном ветру ее клетчатая накидка, как она ободряла нас своим словом и примером, поддерживала наш дух, призывала нас держаться, сравнивая нас с «доблестными солдатами». Другие учителя, бедняги, думали о том, как бы самим поскорее дойти, не то, что подбадривать нас.
Как же мы мечтали в такие часы о свете и тепле камина! Но мы – по крайней мере, самые маленькие – были лишены этой возможности, потому что оба камина в классе сразу облепляли в два ряда старшие школьницы, а младшие сбивались в кучки за их спинами, кутая замерзшие руки в передники.
Легким утешением было для нас воскресное время чая. В этот день мы получали двойную порцию хлеба – целый ломоть вместо половинки – да еще с вкусным добавлением в виде тонкого слоя сливочного масла. Об этой радости мы мечтали от воскресенья к воскресенью. Мне, как правило, удавалось сохранить для себя половину этого роскошества, остальным приходилось делиться.
Воскресный вечер отводился под повторение пройденного. Мы читали наизусть церковный катехизис, пятую, шестую и седьмую главы из Святого Матфея, слушали долгую проповедь, которую читала мисс Миллер, к этому времени уже здорово устававшая, о чем свидетельствовали ее частые позевывания. Часто однообразие этих проповедей нарушалось тем, что несколько девочек из младших классов разыгрывали роль Евтиха. (с греч. счастливый, благополучный) (Деян. XX, 9) – имя одного юноши в г. Троаде, который во время продолжительной беседы ап. Павла, сидя на окне, погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись, сонный упал вниз с третьего жилья и поднят мертвым; впрочем, апостол Павел чудесным образом возвратил его к жизни). Не в силах бороться со сном, они падали, правда, не с третьего этажа, но выпадали из состава четвертого класса. Поднимали их полумертвыми, а из сонного состояния их выводили тем, что выпихивали в центр класса и заставляли стоять там до конца проповеди. Иногда они падали и там, и тогда старосты подпирали их высокими стульями.
Я ни разу не упомянула о посещении школы мистером Броклхерстом. Но этот джентльмен действительно не появлялся в школе в течение большей части первого месяца моего пребывания здесь. Видно, он продолжил пребывание в гостеприимных стенах своего друга архидиакона. Я радовалась его отсутствию. Нечего и говорить, что у меня были причины опасаться его приезда. Но он, в конце концов, все-таки приехал.
Однажды во второй половине дня (к этому времени прошло три недели моего пребывания в Ловуде) я сидела в классе, держа в руках доску для письма, и решала трудную задачу на деление. Невидящим взглядом я в задумчивости уставилась на окно, и вдруг мое внимание привлекла только что появившаяся там фигура. Я почти инстинктивно узнала этот тощий и вытянутый силуэт. И когда пару минут спустя все ученики и учителя встали как один, мне не нужно было поднимать голову и смотреть, чей приход они приветствовали. Вошедший длинными шагами измерил классную комнату и затем остановился возле мисс Темпл, которая тоже встала вместе со всеми. Это был тот же черный столп, который так угрожающе смотрел на меня в Гейтсхеде. Я теперь имела возможность со стороны посмотреть на это чудо архитектуры. Да, тот самый мистер Броклхерст, в застегнутом на все пуговицы верхнем платье и казавшийся в нем более высоким, худым и строгим.
Повторяю, что у меня были причины опасаться его приезда. Я слишком хорошо помнила предательские намеки миссис Рид насчет моего места в жизни в настоящем и будущем и прочие вещи. Слишком хорошо помнила я и обещание мистера Броклхерста поставить в известность мисс Темпл и учителей о моей испорченной натуре. И все это время я ожидала исполнения этого обещания, каждый день я ждала, что приедет в школу этот человек, сведения которого о моей прошлой жизни навсегда заклеймят меня как гадкого ребенка. И вот он, пожалуйста.
Он стоял рядом с мисс Темпл и что-то говорил ей на ухо. Я поначалу не сомневалась: он рассказывает ей всякие ужасы про меня. Затаив дыхание смотрела я на мисс Темпл, в любой момент ожидая, что она переведет на меня свои черные глаза и я прочту в них отвращение и презрение. Но поскольку я сидела близко, то постаралась прислушаться, и стала слышать большую часть сказанного. И на первое время у меня отлегло от сердца.
– Я полагаю, мисс Темпл, что нитки, которые я купил в Лоутоне, вполне устраивают. Что поразительно, они как раз подходят по качеству к коленкору. Иголки я отбирал соответствующие. Скажите мисс Смит, что я забыл записать насчет иголок для штопки. Но на неделе ей пришлют несколько пакетиков. Да, скажите ей, чтобы ни в коем случае не давала на руки за раз больше одной иголки. Если им давать больше, то это побудит в них склонность к небрежности, и они будут терять иголки. И еще, мадам, не забыть! Я хотел бы, чтобы тщательнее смотрели за шерстяными чулками. В последний раз я ходил на огород и посмотрел на белье, которое сушилось на веревках. Там было немало чулок в неважном состоянии, не штопанных. Из размера дыр я сделал вывод, что они чинятся нерегулярно.
Он сделал передышку.
– Ваши указания будут исполнены, сэр, – сказала мисс Темпл.
– И еще, мадам, одна вещь: прачка говорит, что некоторые девочки по два раза в неделю меняют воротнички. Это слишком, правилами это ограничивается одним разом.
– Я думаю, что смогу объяснить это обстоятельство, сэр. Дело в том, что Агнес и Кэтрин Джонстон в прошлый четверг были приглашены на чай к родственникам в Лоутон, и по такому случаю я им дала разрешение поменять воротнички.
Мистер Броклхерст кивнул.
– Хорошо, один раз – это еще ничего. Но, пожалуйста, сделайте так, чтобы такие обстоятельства не случались слишком часто. Есть еще одна вещь, которая удивила меня. Из отчетности экономки я увидел, что воспитанницам был выдан второй завтрак в виде хлеба с сыром. Что это такое? Я просмотрел наши правила и не нашел там никакого упоминания о втором завтраке. Кто ввел это новшество? И по какому праву?
– Я несу ответственность за этот случай, – ответила мисс Темпл. – Завтрак был настолько плохо приготовлен, что ученицы не могли его в рот взять. И я не решилась оставлять их без еды до обеда.
– Мадам, позвольте мне сказать вам кое-что по этому поводу. Вы знаете, что моя программа воспитания состоит в том, что девочки должны привыкать не к роскоши и обилию, а к трудностям, терпению и самоотречению. И если произошла случайная неприятность с едой – испортили, чего-то переложили или не доложили, – не следует спасать ситуацию, предлагая еду повкуснее. Этим самым вы потакаете плоти и отходите от целей нашего учреждения. Такие случаи необходимо использовать для духовного наставления воспитанниц, для поощрения в них проявления силы духа в условиях временных лишений. В таких случаях весьма своевременной была бы краткая назидательная речь, в которой опытный наставник не преминул бы напомнить о страданиях первых христиан, о пытках, выпавших на долю христианских мучеников, о призыве благословенного Господа нашего Иисуса Христа к своим ученикам взять свой крест и следовать за ним, о его предупреждении, что не хлебом единым жив человек, но каждым словом, исходящим из уст Божьих, о его божественном утешении. «Если вы жаждете или страждете во имя мое, благо вам будет». О, мадам, когда вы вместо подгоревшей каши вкладываете в детские уста хлеб с сыром, вы можете накормить их грешные тела, но при этом вы мало думаете, как заставляете страждать их бессмертные души!
Мистер Броклхерст, явно расчувствовавшийся, снова сделал передышку. Мисс Темпл при первых его словах опустила глаза, но теперь она смотрела прямо перед собой, и ее лицо, от природы бледное как мрамор, теперь приобрело еще и холодность и неподвижность этого материала, особенно ее губы, сжатые, словно так ее изобразил ваятель и только он может исправить положение. В каменной суровости застыли брови.
А мистер Броклхерст, стоя возле камина и заложив руки за спину, с величественным видом обводил глазами воспитанниц. Внезапно он заморгал, словно ему что-то попало в глаз. Он повернулся к мисс Темпл и быстрее, чем до сих пор, проговорил:
– Мисс Темпл, мисс Темпл, что я вижу? Что это за девочка с кудрями? Рыжая, мадам, и кудрявая, вся голова в кудрях? – И, подняв трость, он указал на предмет своего негодования, при этом рука его дрожала.
– Это Джулия Северн, – очень спокойным тоном ответила мисс Темпл.
– Ах, Джулия Северн, мадам! Она ли, кто другая – почему она носит курчавые волосы?! Почему вопреки всем правилам и принципам этого заведения она так открыто исповедует нравы, принятые за его стенами?! Здесь евангелическое благотворительное учреждение, а она носит копну кудрей!
– У Джулии волосы вьются от природы, – разъяснила ему мисс Темпл еще более спокойным тоном.
– От природы! Но мы не должны сообразовываться с природой! Я хочу, чтобы девочки были чадами милосердия Господня, а тут – такая копна! Я сколько раз повторял, что прическа должна быть короткой, простой, скромной. Мисс Темпл, остригите эту девочку наголо, парикмахера я пришлю завтра. Да я вижу, и другие девочки носят слишком длинные волосы. Вон та, например, высокая. Велите ей встать и повернуться к нам затылком. Пусть весь первый класс встанет и повернется лицом к стене.
Мисс Темпл провела платком по губам, словно смахивая с них нечаянную улыбку, но отдала команду. Первый класс выполнил, что от него требовалось, а я отклонилась немного назад на своей скамейке и могла видеть, какими выразительными взглядами и гримасами сопровождали старшеклассницы свои действия. Надо было бы мистеру Броклхерсту посмотреть на их лица. Он тогда понял бы, что сколько он ни бейся над этими сосудами, он может добиться кое-каких поверхностных результатов, но его возможности влиять на их внутреннее содержание куда более ограниченны, чем он думает.
Он внимательно изучал оборотную сторону этих живых медалей минут пять, затем произнес слова, прозвучавшие, как смертный приговор:
– Все эти пучки – срезать.
Мисс Темпл, похоже, что-то возразила.
– Мадам, – продолжал гнуть свое мистер Броклхерст. – я служу Господу, царствие которого не от мира сего. Моя миссия – умерщвлять в этих девочках вожделения плоти, научить их, чтобы они считали украшением стыдливость и воздержание, а не заплетенные волосы и дорогие одежды. А каждая из этих юных особ носит косу, и заплетены они исключительно из тщеславия. Их, я повторяю, надо состричь. Подумайте о напрасно потраченном времени, о…
Здесь мистер Броклхерст был прерван: в класс вошли три леди. Им надо было бы прийти чуть пораньше, чтобы захватить его лекцию об одежде, ибо сами они были в шикарной одежде – бархат, шелк, меха. Две помоложе, красивые девушки шестнадцати и семнадцати лет, были в серых бобровых шляпах, тогда модных, со страусиными перьями, а из-под этих изящных головных уборов выглядывали тщательно завитые и заплетенные в косу светлые волосы. Старшая леди пришла закутанная в дорогую бархатную шаль, обшитую горностаем, а на лоб у нее свисали фальшивые французские завитки.
Этих леди с почтением приняла мисс Темпл, обращаясь к ним «миссис Броклхерст» и «мисс Броклхерст», и проводила их на почетные места. Видно, они приехали в одном экипаже с преподобным главой семьи и, пока он проверял экономку, допрашивал прачку и читал нотации директору, проводили дотошный осмотр комнат наверху. Теперь они сообщали свои замечания мисс Смит, которая отвечала за постельное белье и состояние спальных помещений, но у меня не нашлось времени послушать, так как другие вещи отвлекли мое внимание.
До сих пор, слушая, о чем говорят мистер Броклхерст и мисс Темпл, я не забывала о предосторожности и заботилась об обеспечении собственной безопасности. Я считала, что для этого достаточно, чтобы меня не заметил мистер Броклхерст. С этой целью я села на скамейке так, чтобы можно было прятаться за другими девочками и, изображая увлеченность арифметической задачкой, держала доску прямо перед собой, закрыв тем самым лицо. Мне, возможно, удалось бы остаться незамеченной, не выскользни предательская доска у меня из рук и не упади с грохотом на пол. Все взгляды обратились в мою сторону. Я поняла, что все кончено, и, нагнувшись, чтобы подобрать два осколка доски, я внутренне собралась с силами, готовясь к худшему. И оно наступило.
– Какая неосторожная! – воскликнул мистер Броклхерст и тут же добавил: – А, это новенькая, как я понимаю. – Я не успела перевести дыхания, как он продолжил: – Я должен сказать несколько слов о ней. – Затем он громко приказал, и мне это показалось оглушительно громко: – Пусть девочка, которая только что разбила свою доску, выйдет сюда!
По своей воле я не могла и пошевельнуться: меня парализовал страх. Но две большие девочки, сидевшая рядом со мной, поставили меня на ноги и подтолкнули в спину навстречу грозному судье, а затем мисс Темпл помогла мне подойти поближе, и я услышала произнесенный шепотом ее совет:
– Не бойся, Джейн, я видела, что это случайно, никакого наказания за это не будет.
Этот ласковый шепот вошел в мое сердце, словно кинжал. «Еще минута, и она меня возненавидит как существо двуличное», – подумала я, и во мне закипел гнев против этих Ридов, Броклхерстов и компании. Я все-таки была не Хелен Бёрнз.
– Принесите этот стул, – приказал мистер Броклхерст, указывая на самый высокий в комнате. Сидевшая на нем староста тут же вскочила с него и принесла.
– Поставьте на него это дитя.
Меня подняли и поставили, не знаю даже кто: я уже была не в состоянии замечать подробности. Я только заметила, что меня подняли на высоту носа мистера Броклхерста, что он был в ярде от меня и что подо мною гуляют и переливаются волны оранжевого и пурпурного шелка, облачка серебристых перьев.
Мистер Броклхерст прокашлялся.
– Леди, – начал он и повернулся к своему семейству, – мисс Темпл, учителя и дети! Вы видите эту девочку? – Конечно, видели. Я чувствовала на себе их взгляды, они жгли мою кожу, словно десятки увеличительных стекол на солнце. – Вы видите, она еще совсем молодая, дитя как дитя. Бог милостиво дал ей такую же внешнюю форму, как всем нам. Внешне она не отмечена ничем, что выдавало бы ее отличие от нас. И кто бы мог подумать, что дьявол уже нашел в ее лице слугу себе и помощника? И, однако, с горечью должен сказать, что это так.
Наступила пауза, в течение которой я постаралась унять дрожь и внушила себе, что Рубикон перейден, суда не избежать и нужно твердо перенести его.
– Мои дорогие дети! – с пафосом продолжал черномраморный священник. – Случай досадный и печальный, но я должен предупредить вас, что эта девочка, которая могла бы быть одной из Божьих овечек, на самом деле маленькая отверженная. Она не является настоящим членом стада, оно ей чуждо. Будьте бдительны в отношении ее, остерегайтесь ее примера. Если необходимо – избегайте ее общества, исключите ее из своих игр и уходите от разговоров с нею. Учителя, вы должны наблюдать за нею, не спускать глаз со всех ее передвижений, взвешивать все ее слова, давать оценку всем ее действиям, наказывать ее плоть, чтобы спасти ее душу. Если только такое спасение возможно, ибо – язык отказывается подчиняться мне, когда я произношу это, – эта девочка, это дитя, рожденное на христианской земле, хуже любой маленькой язычницы, которая молится Брахме и преклоняет колени перед Джаггернаутом, потому что она – лгунья!
Затем последовала долгая пауза, в течение которой я, уже к этому времени овладевшая собой, обозревала женскую часть семейства Броклхерстов. Все трое извлекли носовые платочки и приложили их к глазам, при этом старшая леди покачивала головой туда-сюда, а обе молодых прошептали: «Какой ужас!»
Наконец мистер Броклхерст возобновил свою речь:
– И это я узнал от ее благодетельницы, леди, известной своим благочестием и благотворительностью, которая приняла ее к себе сиротой, выхолила ее, как свою собственную дочь, и за доброту и щедрость которой это злосчастное дитя отплатило ей столь черной, столь ужасной неблагодарностью, что, в конце концов, ее замечательная патронесса была вынуждена отлучить ее от своих детей из страха, как бы это порочное дитя не осквернило их чистоту. И прислали ее сюда, дабы излечить, как евреи прошлого посылали своих больных на излечение к возмущенным водам купальни Вифезда. И я прошу вас, учителя и директор, не давать водам вокруг нее успокаиваться.
Закончив на этой высокой ноте, мистер Броклхерст поправил верхнюю пуговицу на одежде и что-то тихо сказал жене и дочерям. Те встали, поклонились мисс Темпл, и затем вся честная компания степенно удалилась из комнаты. У двери мой судья обернулся и сказал:
– Пусть она еще полчаса постоит на этом стуле и пусть остаток дня с ней никто не разговаривает.
И я осталась на своем возвышении. Я, которая говорила, что не вынесу позора, если меня поставят посреди комнаты, теперь выставлена на всеобщее обозрение на пьедестале позора. Мои тогдашние чувства не поддаются никакому описанию. И вот в то самое время, когда от нахлынувших на меня чувств мне не хватало воздуха и сдавливало горло, ко мне подошла одна девочка и прошла дальше, но, проходя, подняла на меня глаза. Что за странный свет горел в них! Какое необычно ощущение сообщили мне его лучи! Какие новые чувства охватили меня! Было ощущение, будто мученик или герой прошел мимо раба или жертвы и передал ему часть своей силы. Я овладела собой, остановив подступавшую было истерику, и приняла прочную стойку. Хелен Бёрнз задала пустяковые вопросы мисс Смит, та выговорила ей за то, что она сама не может разобраться в такой ерунде, и Хелен пошла обратно и, снова пройдя мимо меня, улыбнулась. Да какой улыбкой! Я помню ее до сих пор, помню, что она излучала тонкий ум и истинную отвагу. Улыбка вдохнула свет в ее худенькое лицо, в потухшие было серые глаза, в ней было что-то ангельское. Надо же, она в это время носила на руке «знак неопрятности», а всего час назад я слышала, как мисс Скэтчерд ругала ее и пообещала посадить ее завтра на обед из хлеба и воды – за то, что Хелен, переписывая упражнение, поставила на него кляксу. Такова несовершенная природа человека: и на солнце есть пятна, а такие глаза, как у мисс Скэтчерд, могут отыскивать мелкие недостатки и не замечать всей яркости светила.
Глава VIII
Как только истекли мои полчаса, пробило пять. Уроки закончились, и все пошли на чай. Я рискнула спуститься со стула. В комнате было очень темно. Я забилась в угол и села на пол. Импульс, который я получила, и который до сих пор меня поддерживал, стал ослабевать. Наступила реакция, и скоро меня охватила такая горечь, что я в бессилии легла на пол лицом вниз. И заплакала. Хелен Бёрнз теперь не было рядом со мной, я не получала никакой поддержки. Оставленная с собой наедине, я раскисла. Слезы во всю лились на доски пола. Я хотела быть такой хорошей и сделать так много хорошего в Ловуде: завести много друзей, завоевать уважение и любовь. У меня уже появились очевидные успехи: сегодня утром я заняла первое место в классе, и мисс Миллер тепло похвалила меня. Мисс Темпл одобрительно мне улыбнулась и пообещала научить рисованию и еще разрешить мне заниматься французским, если я в течение двух месяцев буду заниматься так же успешно. И ученицы приняли меня хорошо, девочки моего возраста стали относиться ко мне как к равной, никто не обижал меня. И вот я лежу тут, разбитая, растоптанная. Смогу ли я когда-нибудь подняться?
«Никогда», – сказала я про себя, и так мне захотелось в этот миг умереть! Плача навзрыд и мечтая о смерти, я вдруг услышала, что кто-то подошел, и вздрогнула. В угасающем пламени камина я увидела идущую по пустой длинной комнате Хелен Бёрнз, она несла мне хлеб и кофе. Вновь Хелен Бёрнз оказалась рядом со мной.
– Успокойся, поешь немного, – сказала она, но я отодвинула от себя еду: мне казалось, что в таком состоянии я и крошкой хлеба подавлюсь.
Хелен смотрела на меня, по-моему, с удивлением. Я продолжала всхлипывать, мне все никак не удавалось успокоиться, хотя я старалась изо всех сил. Хелен опустилась на пол рядом со мной, села, обхватив колени и положив на них голову, и в таком положении молча замерла, как индийский йог. Первой заговорила я:
– Хелен, как ты можешь находиться рядом с девчонкой, которую все считают мерзкой лгуньей?
– Все, Джейн, считают? Только восемьдесят человек слышало, как тебя называли этим словом, а в мире сотни миллионов людей.
– Что мне эти миллионы? А восемьдесят человек меня презирают.
– Джейн, ты ошибаешься: скорее всего, ни один человек в школе тебя не презирает и не относится к тебе плохо, а многим, я уверена, жалко тебя.
– Как они могут жалеть меня, после того что сказал мистер Броклхерст?
– Мистер Броклхерст – не бог. И даже не такой человек, которого здесь обожают или уважают. Его тут недолюбливают, он мало что сделал, чтобы заставить любить себя. Вот если бы он относился к тебе как к своей любимице, ты нажила бы здесь массу врагов, тайных или явных. А так многие выразят тебе свое сочувствие, если не побоятся. День-два учителя и ученики, может, покосятся на тебя, но в душе будут дружески относиться к тебе. Если ты и дальше будешь хорошо вести себя, то их теплые чувства проявятся еще сильнее, потому что им пришлось их некоторое время сдерживать. К тому же, Джейн… – Хелен остановилась.
– Да, Хелен? – произнесла я, положив на ее руку свою. Она стала нежно потирать мне пальцы, желая согреть их, и снова заговорила:
– Даже если весь мир будет ненавидеть тебя и считать тебя испорченной, в то время как твоя совесть подсказывает тебе, что ты права, ты не останешься без друзей.
– Да, я понимаю, это важно – быть уверенной, что ты права. Но этого мало. Что толку, если окружающие тебя не любят? Да лучше умереть, Хелен, чем терпеть одиночество и презрение. Ты послушай: чтобы завоевать доброе отношение с твоей стороны, со стороны мисс Темпл или другого, кого я люблю, – да я ради этого руку отдам, пусть меня бык на рога посадит или лошадь лягнет…
– Перестань, Джейн! Ты слишком много думаешь о людской любви. Ты очень легко загораешься, в тебе все бушует. Рука творца, создавшая твою оболочку и вложившая в нее жизнь, дала тебе и другим слабым существам источник силы куда больший, чем собственное «я». Помимо этой земли и человеческого рода существует невидимый мир – царство духов. Этот мир окружает нас, он везде. Эти духи смотрят на нас, потому что они поставлены охранять нас. И если мы умираем в муках позора и окруженные всеобщим презрением, ангелы видят наши муки и видят, что на нас нет вины – если ее нет, – и Бог только ждет, когда душа отделится от тела, чтобы воздать нам по заслугам. Насколько я понимаю, это обвинение в твой адрес мистер Броклхерст повторил со слов миссис Рид, а искренность твоей натуры мне видна по твоим горящим глазам, по твоему чистому лбу. Зачем все время отчаиваться? Ведь жизнь так быстротечна, и смерть введет нас в мир вечного счастья, на небеса?
Я не проронила ни слова. Хелен успокоила меня, но в этом успокоении сохранялся какой-то налет невыразимой печали. С горестью слушала я ее, но не могла объяснить себе, откуда взялась эта горесть. Закончив говорить, Хелен дышала учащенно, несколько раз у нее прорывался кашель, и я забыла о своих печалях, их вытеснило волнение за Хелен.
Я сидела, положив голову ей на плечо и обняв руками за талию, а Хелен прижала меня к себе. Так в молчании прошло какое-то недолгое время, а потом мы услышали шаги. В этот момент ветер прорвал окно в тучах, и в просвете показалась луна. Ее свет пролился на нас и выхватил из темноты приближающуюся фигуру, в которой мы сразу узнали мисс Темпл.
– Я специально пришла за тобой, Джейн Эйр, – сказала она. – Зайди ко мне. Раз Хелен Бёрнз с тобой, она тоже может прийти.
И мы пошли следом за директором. Путь пролегал по запутанным коридорам, лестницам, и вот мы, наконец, пришли. В комнате весело пылал камин. Мисс Темпл велела Хелен Бёрнз сесть в низкое кресло возле камина, сама села в другое, а меня подозвала к себе.
– Ну, всё? – спросила она меня, глядя в лицо. – Выплакала свое горе?
– Я боялась, что никогда не выплачу его.
– Почему?
– Потому что меня не за что обвинили. Теперь и вы, мадам, и все вокруг будут думать, что я вконец испорченная.
– Думать мы будем о тебе так, как ты себя покажешь, дитя мое. Продолжай быть хорошей девочкой, и ты нас вполне устроишь.
– Правда, мисс Темпл?
– Правда, – произнесла она, обнимая меня одной рукой. – А теперь расскажи мне, что это за леди, которую мистер Броклхерст назвал твоей благотворительницей.
– Миссис Рид, жена моего дяди. Дядя умер, и я осталась у нее на попечении.
– А приняла она тебя в свою семью, значит, не по собственному желанию?
– Нет, мадам, она очень не хотела делать этого. Но мой дядя, как я часто слышала об этом от прислуги в доме, перед смертью взял с нее слово, что она всегда будет заботиться обо мне.
– Так, Джейн. Ты знаешь, а если нет, то я говорю тебе, что, когда преступника обвиняют, ему дают возможность высказаться в свою собственную защиту. Тебя обвинили в лживости. Теперь защищайся, как можешь, и старайся. Расскажи мне все, как ты это помнишь, ничего не добавляя и не преувеличивая.
В глубине души я решила, что буду предельно умеренна и корректна. Я минуту – другую собиралась с мыслями, решая, что сказать, а потом рассказала ей всю печальную историю моего детства. Я была измочалена переживаниями, и мой язык, был, на сей раз беднее, чем когда я раньше говорила на эту неприятную тему. К тому же я помнила о предупреждении Хелен не давать волю чувству озлобления, и вложила в свой рассказ гораздо меньше пыла и язвительности, чем обычно. Свободный от эмоций и упрощенный, мой рассказ прозвучал более правдоподобно, и я чувствовала в ходе его, что мисс Темпл мне полностью верит.
По ходу рассказа я упомянула мистера Ллойда как человека, пришедшего наведать меня после того приступа. Конечно, я рассказала об эпизоде с красной комнатой, потому что он никогда не выходил у меня из головы. При его описании эмоции, конечно, охватили меня больше, чем во время всего повествования, так как ничто не могло изгладить из моей памяти тот неописуемый ужас, который я испытала, когда миссис Рид отвергла мои мольбы о прощении и вторично закрыла меня в темной и населенной призраками комнате.
Я закончила свой рассказ. Некоторое время мисс Темпл молча смотрела на меня, а затем произнесла:
– Я немного знаю мистера Ллойда. Напишу-ка ему. Если он ответит и письменно подтвердит сказанное тобой, то ты будешь прилюдно оправдана от всех обвинений. Что касается меня, Джейн, то в моих глазах ты чиста уже теперь.
Она поцеловала меня и, продолжая обнимать меня (какое блаженство испытывала я, стоя рядом с ней, во мне играла детская радость от созерцания ее лица, платья, скромных украшений, белого лба, завитков ее переливающихся волос, лучистых глаз), она обратилась к Хелен Бёрнз:
– Как ты себя сейчас чувствуешь? Днем ты много кашляла?
– По-моему, не так много, мадам.
– А как насчет боли в груди?
– Немного легче.
Мисс Темпл поднялась, убрала с моего плеча руку и проверила пульс у Хелен. Затем она вернулась к своему креслу, и, когда садилась, я услышала ее тихий вздох. На некоторое время она ушла в размышления, затем, стряхнув с себя задумчивость, она весело произнесла: