Юные годы медбрата Паровозова Моторов Алексей
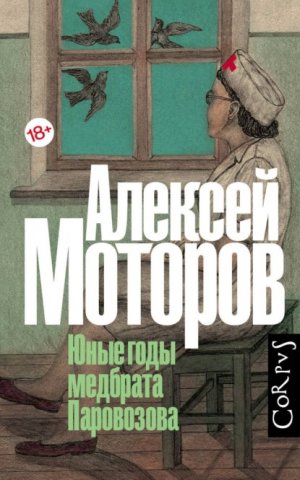
© А. Моторов, 2012
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2018
© ООО “Издательство АСТ”, 2018
Издательство CORPUS ®
Моей жене Лене
Одаренный пламенной душой, Жюльен обладал еще изумительной памятью, которая нередко бывает и у дураков.
СтендальКрасное и черное[1]
Очень глубоко. Настолько, что сюда не проникают солнечные лучи. Надо мной километр вязкой, густой, черной воды. С такой глубины невозможно вынырнуть, и я даже не пытаюсь. Вокруг меня абсолютная, непроницаемая тишина. Так не бывает, ведь на любой глубине можно что-нибудь услышать. Просто кто-то невидимый выключил звук.
Я знаю, чтобы не спугнуть это черное безмолвие, нельзя даже думать. И сразу, словно в ответ, где-то там, высоко, светлеет. Мягким, бархатным прикосновением начинается мой подъем к далекому мерцающему своду.
Вода уже не черная, сейчас она как свинцовое грозовое облако. Но и облако быстро меняется, покрывается сединой. И вот уже могучая сила выталкивает меня, с каждой секундой ускоряя движение в зеленеющей воде, стремительно приближая к чему-то невероятно яркому, ослепительно-белому, такому, что невозможно выдержать. А тишина еще со мной, хотя я уверен – ненадолго.
Сейчас больше всего мне хочется туда, навстречу свету, к первому резкому вздоху, к тому чувству высвобождения, которое почему-то давно знакомо.
За несколько мгновений до того, как я прорываюсь к слепящему солнцу, что-то заслоняет его. Передо мной возникает картинка. Даже не картинка, а фотография. Сначала маленькая. Но она быстро увеличивается. Вот уже совсем большая. Очень знакомая. Трое на фоне моря. Девушка, парень и ребенок. Кажется, я видел их когда-то, но теперь не узнаю. Еще немного – и я вспомню. Сейчас. Лица всё ближе. Свет вокруг меня медленно гаснет. Лишь фотография остается горящим экраном.
На снимке отчетливо проступают белые буквы, они выписаны очень причудливо. Разобрать трудно, но я уверен, что читал эту надпись раньше. “СУХУМИ-86”. Она должна означать что-то важное для меня. Конечно, мне уже почти удалось узнать, это же…
И я выныриваю. Удивительно, тут нет криков чаек, шума волн, шелеста откатывающейся гальки, детского смеха.
Вместо этого какой-то огромный и спокойный голос произносит:
– КОТОРЫЙ ЧАС?
Невероятно трудно понять смысл сказанного, хотя, наверное, тут нет никакого смысла. И когда я уже схватил убегающее эхо, другой голос, тоже уверенный и сильный, мягко разжимает мою руку с обрывками слов:
– СЕМНАДЦАТЬ ПЯТНАДЦАТЬ!
Как же приятны, оказывается, могут быть голоса. Необязательно понимать, что они говорят, сам звук их прекрасен, он мягко качает, переполняя меня неизведанным раньше восторгом.
Такое хочется слушать и слушать, и, видимо, понимая это, первый голос снова приходит из своего ниоткуда:
– ПОРА ЗАКРУГЛЯТЬСЯ. ШЬЕМ!
Мне необходимо увидеть тех, кто говорит. Кто произносит эти удивительные и красивые слова.
И вдруг отчетливо понимаю, что мои глаза закрыты. Не просто закрыты – на них давит тяжелый груз. И кроме этих голосов, никто на свете не сможет сдвинуть его.
– Помогите открыть глаза! – прошу я, но получается только протяжный и громкий стон.
И тогда возникает третий голос, самый главный, заполняющий все вокруг, не оставляя ни сантиметра пустого пространства:
– ОН ПРОСЫПАЕТСЯ. ЕЩЕ ФЕНТАНИЛ!
Запасной выход
На столе надрывались оба телефона, городской и местный. Городской был красного цвета, местный – серого. Местный звонил в тональности ля, а городской – в ля-диез. Интересно, какой из них замолчит первый? Да наверняка местный.
Первым заткнулся городской. Местный выдал еще две мажорные трели и тоже утомился.
Мы с Лидией Васильевной синхронно вздохнули.
Я работаю в отделении пятый год, а в кабинете у Суходольской всего второй раз. Визит в кабинет заведующей означает серьезный разговор. Первый такой случился года три назад. Тогда она снимала с меня и Вани Рюрикова стружку, причем с Вани заочно. Абсолютно не по делу. Я сел с язвой на больничный, но жирная Танька Лаптинова, наша сестра-хозяйка, пустила слух, что мы с Ваней гуляли на чьей-то свадьбе. Ни много ни мало – неделю. За Суходольской водилось подобное – она иногда верила в самые невероятные вещи. Когда долго работаешь в реанимации, поневоле становишься мистиком.
Не успел я выйти на работу, как был вызван на ковер для дачи показаний. Ивану повезло, он успел в отпуск свалить.
– Леша, есть сведения, что ты специально взял больничный, чтобы пойти на свадьбу с Рюриковым! – скрестив на столе руки и уставившись в бумаги перед собой, начала Лидия Васильевна. – Что скажешь?
– Что скажу? Скажу, что вы не первая, кто из самых лучших побуждений пытается связать нас брачными узами, но… – Я выдержал трагическую паузу и продолжил: – Но увы! Я несвободен, да и Ваня женат. Что же нам делать, Лидия Васильевна? Может быть, местком подключить?
– Моторов! – с деланым возмущением воскликнула Суходольская, хотя я видел, что она еле сдерживается, чтобы не расхохотаться. – Скажи, ты можешь быть хоть минуту серьезным?
– Могу! – поклялся я. – Могу, Лидия Васильевна, но только за большие деньги!
– Уйди, Лешка! – взмолилась Суходольская. – Уйди с глаз долой и только попробуй попадись с сигаретой, язвенник!
Но это было давно, а сегодня инициатива встречи принадлежала мне. Начальство всегда боится разговоров, которые происходят по просьбе подчиненных. От таких бесед ничего хорошего, только головная боль.
Обычно у Суходольской в кабинете обсуждались два вопроса, и оба малоприятные. Ей либо признавались в тайной беременности с целью поклянчить легкую работу и перевестись с суточного графика на дневной, либо сообщали об увольнении по собственному желанию.
– Не вздумай, Лешка, сказать, что уходишь! – нахмурившись, первая нарушила молчание начальница, одним махом вдвое сузив круг потенциальных проблем. – Сам видишь, какая у нас сейчас ситуация!
Ситуация у нас всегда была будь здоров, но мы оба понимали, что если я подам заявление, никто насильно меня не удержит.
– Лидия Васильевна, – горько вздохнув, приступил я. – Так уж сложились обстоятельства, что вынужден просить вас о переводе на дневной режим работы! – И, к своему большому удовольствию, видя, как вытягивается у нее лицо, успокоил: – Шучу!
Суходольская перевела дух. Она была классным врачом и неплохой теткой. Мне нравилось с ней дежурить, особенно поначалу. Хотя иной раз как отмочит что-нибудь, так хоть стой хоть падай.
На прошлой неделе, например, прочитала судебный очерк в “Литературке” и головой покачала:
– Похоже, порядочные люди только в КГБ остались!
Неужто Юлиан Семенов своими опусами про чекистов умудрился хорошим людям так голову запудрить, что даже Лидия Васильевна про их порядочность заговорила? Ладно, блажен, кто верует. Не будем на мелочи отвлекаться.
Я устроился поудобнее на стуле, сделал серьезное лицо и спросил:
– Вы знаете, который раз я проваливаюсь в институт? – И, не дожидаясь ответа, с отчаянной гордостью мазохиста сообщил: – В этом году уже пятый! И нет гарантии, что поступлю на шестой! В последнее время сам чувствую, что отупел до невозможности! Да и вы наверняка это замечаете!
– Леша, когда я называла тебя тупым, я другое имела в виду! – виновато стала успокаивать меня Суходольская.
Как-то в прошлом году, под настроение, я сказал ей, что хочу немного передохнуть и хоть одно лето провести не за учебниками и конспектами, а на берегу речки с семьей.
Вот тогда Лидия Васильевна, видимо решив меня подстегнуть, возмутилась:
– Только попробуй расслабиться, Лешка, всем буду говорить, что ты тупой. И первым делом твоей жене расскажу!
И потом недели две, стоило нам столкнуться, подмигивала мне и заявляла что-то вроде:
– Да, Моторов, у тебя даже взгляд какой-то отупевший, куда тебе в институт, давай в парикмахеры!
Парикмахеры в представлении нашей заведующей были самым маргинальным элементом.
После традиционных утренних выволочек она всегда добавляла:
– Не нравится в больнице работать? Идите в парикмахеры!
Меня часто подмывало ей возразить, что парикмахеры – они хоть человеческой жизнью живут, ночами не работают, дома спят, да еще на чай получают. Но никогда этого не говорил, во-первых, по малодушию, а во-вторых – сознавая весь героизм нашей профессии.
А вот сегодняшний мой разговор – он такой немного дезертирский.
– Лидия Васильевна, вы же догадываетесь, что всю жизнь здесь работать я не смогу, а из медицины уходить пока не собираюсь! Вот на досуге подумал и решил себе запасной аэродром завести, – торжественно объявил я, но тут опять зазвонили телефоны, сначала местный, а через секунду городской.
Мы снова вздохнули и взяли паузу.
Я – медбрат. Ходячее недоразумение. Мне уже двадцать два. В этом возрасте все приличные люди институты заканчивают, планы на жизнь строят. А я прячусь от старых знакомых. Ведь разговор обязательно скатится – кем и где работаю. А так не хочется говорить, что в больничной иерархии я нахожусь на самой низкой ступени. Санитаркам и буфетчицам и то легче. Они могут прогуливать, воровать, в запой уходить. С ними заигрывают, на многое глаза закрывают. А медсестры и медбратья – самый бесправный класс. Пушечное мясо. Может быть, это такая расплата за тот мой пионерский инфантилизм?
Врачом я задумал стать давно, практически в детстве, а точнее – в пионерском лагере. Лагерь был от Первого медицинского института, назывался очень просто – “Дружба”, и попал я туда абсолютно случайно, получив грандиозное предложение играть в лагерном ансамбле на гитаре. Вожатыми там были молодые ребята-студенты, которые своими ежедневными медицинскими байками добились того, что я сам не заметил, как растворился во всей этой атмосфере приукрашенной романтики и более ни о чем, кроме как о врачебном поприще, не помышлял. И с тех пор пошло-поехало.
Пролетев первый раз в институт и поддавшись на уговоры друзей-приятелей, я решил годик перекантоваться в медицинском училище. Чем зря тратить время на работу санитаром, лучше пойду один курс поучусь, на гитарке в местном ансамбле побренчу, а там и поступлю. Но ни через год, ни через два никакого поступления не случилось.
И пришлось, согласно диплому, идти работать медбратом в реанимацию Седьмой городской. Причем попал я туда мало того что добровольно, а можно сказать, пролез всеми правдами и неправдами. Настолько сильное впечатление произвело на меня во время зимней практики это отделение и его заведующая Лидия Васильевна Суходольская.
И хотя реальность оказалась много суровее, работать там, особенно в первое время, очень нравилось. В конце концов это и сослужило мне недобрую службу. Я безропотно принимал все просьбы выйти сверхурочно, остаться после суток поработать в день или после суток выйти в ночь, а иногда отбарабанить два суточных дежурства подряд. Постепенно выяснилось, что при таком графике ни о какой более-менее пристойной подготовке в институт и речи быть не может.
И в самом деле, какие репетиторы, какое корпение над книгами и конспектами, когда забежал домой, поел, поспал – и опять на суточное дежурство. А коррупция в медицинских институтах и тогда была неслабая, про существование списков знали все, и мои ежегодные попытки поступить с наскока смахивали на авантюру.
Тем не менее я каждый раз брал отпуск в июне-июле, месяц сидел над учебниками, судорожно пытаясь реанимировать школьные знания. В финале получал двойку по физике, последнему институтскому экзамену, и с чистой совестью, хотя и не без затаенной ненависти ко всем этим Ньютонам и Гей-Люссакам, выходил на работу.
Вот так, вместо короткого и необременительного этапа, я получил тяжелую работу за гроши с отчетливой перспективой деградации. Ловушка захлопнулась. Но мне и правда очень нравилась медицина, я и думать не хотел не то что о смене профессии, но даже о том, чтобы поменять реанимацию на более спокойное место.
Работа в любом другом отделении давала возможность прекрасно спать по ночам, не быть по локоть в дерьме, не драить как проклятый полы и мебель, не ворочать и не перестилать больных. Но представить себя в роли постовой сестры, раздающей таблетки, я не мог, посему продолжал тянуть свою лямку и даже из-за нищенской зарплаты поначалу не дергался. Потому что очень быстро реанимация стала родным домом, да и кличка моя здешняя – Паровозов – мне почему-то нравилась.
Но мысли о дальнейшей судьбе, как ни гнал я их от себя, все более настойчиво сверлили слабый разум. Понятно: хочешь не хочешь, а что-то менять придется.
У меня была парочка закадычных друзей, тоже медбратьев, но которые и не думали впрягаться в сестринскую работу, а устроились по блату массажистами. Их рассказы о каторжном труде всегда вызывали умиление и звучали примерно так:
– Что за жизнь, второй год тачку поменять не могу, сплошные расходы. Ирке своей в прошлом месяце канадскую дубленку купил, а то ей зимой на улицу выйти не в чем, неделю назад достал с переплатой ковер на пол в детскую, чтобы ребята не простужались, а то бегают босиком по паркету, в августе в Гагры двинем всем семейством, забыли уже, как море выглядит. А тут еще только за последнее время троих постоянных клиентов потерял. Одного посадили, другой помер, а третий и вовсе в Израиль свалил. Теперь еле шесть сотен в месяц наскребаю. Нет, конечно, и в клинике перепадает кое-чего, но это так, по мелочи…
Подумал я, подумал и тоже решил в массажисты идти. А что, куплю Лене дубленку, сынку Роме ковер, и махнем мы тогда на радостях в Гагры. А тачку и брать не буду, чтобы потом не менять.
В то время в Москве только одно учебное заведение готовило массажистов и выдавало официальные дипломы. Находилось оно у черта на куличках, в Конькове, от метро “Беляево” несколько остановок пилить на троллейбусе. Но не в расстоянии дело, а в том, что попасть туда “с улицы” было невозможно. Студентами становились лишь те счастливчики, которым присылали путевки из Главного управления здравоохранения по запросу администрации с места работы. Путевок было мало, а желающих хватало.
Не все знают, но большинство сотрудников массажных кабинетов по факту являлись обычными медбратьями и медсестрами. Они, естественно, прилагали невероятные усилия, чтобы получить пожизненно высокий статус массажиста с дипломом.
Терять было нечего, и я решил рискнуть. Задача предстояла непростая, поэтому пришлось разбить ее на два этапа.
Этап первый проходил сейчас в кабинете Лидии Васильевны под неумолкаемый телефонный звон.
Из конъюнктурных соображений я подловил Суходольскую в минуты максимально хорошего настроения, оно у нее случалось, когда на больших консилиумах ей удавалось виртуозно показать, какие все вокруг дурни.
– Ладно, Лешка, делай как знаешь, ступай поговори с Коростелевой! – наконец произнесла заведующая. – Но учти! Если закончишь эти свои курсы, будешь всем нашим больным массаж делать!
И, уже стоя в дверях, я утвердительно кивнул:
– Массаж? Нашим больным? Непременно буду делать. Прямой и непрямой!
Главная сестра больницы Маргарита Николаевна Коростелева была женщиной душевной. И хотя она периодически забывала мое настоящее имя, упорно называя Сашей, я всегда легко откликался, тем более что Александр, пожалуй, звучит мужественнее, чем Алексей.
Вот и сейчас Маргарита приняла меня подчеркнуто приветливо. Правда, по мере того как я выкладывал свой план, на ее лицо набегала тень.
– Сашенька, ты пойми, нашей больнице третий год из ГУЗМА ни одной путевки на массаж не дают. А ведь у нас почти все массажисты не обучены. А ты к массажу никаким боком, Сашенька, при всем моем к тебе отношении! Да и зачем тебе это нужно, ты же профессионал, каких поискать!
Говоря о моем профессионализме, Маргарита конечно же мне польстила. Она имела в виду даже не мою работу в реанимации, а один конкретный случай. Муж ее подруги перед весьма важной заграничной поездкой, а тогда все заграничные поездки были важными, видимо, вообразив себя этаким Винни-Пухом, наелся меда и получил сильнейшую аллергическую реакцию. Ни в поликлинику, ни в “скорую” он обращаться не стал, справедливо опасаясь, что его могут надолго заточить в больницу хотя бы из зависти.
Тогда меня и прислали к ним домой частным образом. Ситуация там была более чем серьезная, настоящая анафилаксия. Я сразу предложил госпитализацию самотеком, но получил хоть и слабый, но категорический отказ. Он готов был умереть, но увидеть свой Париж. Делать нечего, я вздохнул и принялся за работу. Через пару часов, когда стало ясно, что в домашних условиях удалось сделать практически невозможное, меня вернули в отделение. Супруга спасенного позвонила Маргарите и, заходясь от восторга, поведала о моем истовом служении Гиппократу.
А мне магнитофон у них в квартире запомнился. Такого я не то что у друзей-массажистов не видел, но даже у Кольки Рюрикова, служителя Московской патриархии.
– Хорошо, Сашенька, постараюсь тебе помочь, но ничего, сам понимаешь, обещать не могу! – произнесла Маргарита, и я понял: никакого рвения она проявлять не будет.
Эх, пролетел я, похоже!
Человек предполагает, а бог располагает. Несколько мощнейших взрывов в толще солнечной магмы изменили положение гигантских субгалактических электромагнитных полей. Спутники Сатурна ускорили вращение по своим орбитам, на Венеру обрушился метеоритный дождь, а метаново-аммиачный океан на Уране разразился внеочередным штормом.
На планете Земля в то субботнее утро большая ржавая гайка, скрепляющая муфту водопроводной магистрали, проходящей по второму этажу Московской городской больницы номер семь, вдруг треснула и разломилась. Из разомкнувшихся частей огромной трубы забил фонтан. Спустя мгновение остальные гайки, не справившись с дополнительной нагрузкой, последовали заразительному примеру и коварно соскочили с болтов, с которыми многие годы состояли в интимных отношениях.
Из трубы диаметром тридцать сантиметров под могучим давлением вырвался столб холодной воды. Первое встреченное им препятствие – стулья в малом конференц-зале – этот поток разметал, как шарики для пинг-понга.
Субботнее дежурство всегда самое спокойное. Начальства, как правило, нет, за исключением дежурных администраторов. Конференций и пятиминуток тоже нет, персонал, работающий всю неделю по дневному графику, по субботам также сидит дома. И главная прелесть этого дежурства заключается в том, что заканчивается оно утром в воскресенье.
Это значит, что или поспать можно подольше, или, наоборот, пораньше домой свинтить. Если обстоятельства позволят. По субботам всегда выходят заслуженные люди. У медсестер в такую категорию обычно попадают беременные девушки, матери-одиночки и фавориты руководства.
В тот раз, как и во многие другие субботы, я не просто стоял в графике, но вдобавок был элитой из элит, “шоковым” медбратом или, как еще называли, бригадиром. Причина такого необыкновенного карьерного роста заключалась в том, что больше чем за десять лет до описываемых событий одна африканская страна освободилась от оков колониального гнета.
Многократно воспетое в советское время движение за свободу и независимость до сих пор окружено романтическим ореолом. В реальности романтики там меньше, чем на живодерне, а вот крови и грязи на порядок больше. В любой бывшей колонии, особенно африканской, все события были до тошноты схожими. Сначала что-то случалось с метрополией, где менялась политическая ситуация в результате революций или выборов. Затем новое демократическое правительство предоставляло независимость своим колониям, которые в конце двадцатого века, чего уж греха таить, выглядели полным анахронизмом. И тут начиналось самое интересное. В получившем свободу и независимость молодом демократическом государстве разворачивалась борьба за власть. Обычно это выражалось в масштабной резне, приводившей к полному исчезновению одного из населяющих страну народов. Но часто это было лишь увертюрой.
Уцелевшие в сражении за трон царьки, прекрасно понимая, что в скором времени последуют за теми, кого сами они замучили, убили или даже съели, судорожно начинали искать возможности этой участи избежать. И помощь им приходила почти всегда одна и та же, эффективная и долговременная. В виде единственно всесильного и верного учения – марксизма.
Только марксизм надежно гарантировал пожизненное правление, отмену выборов, отсутствие какой бы то ни было критики, попрание всех законов, исчезновение оппозиции, а самому диктатору – своевременную техническую, экономическую, а главное – военную помощь. Заваленная старым советским оружием, полудикая, раздираемая гражданской войной страна бросалась с упоением воевать не только со своим народом, но и с ближайшими соседями, по большей части такими же новоявленными марксистами-ленинцами. И через несколько лет бывшая процветающая колония начинала напоминать марсианский ландшафт, если, конечно, марсианский ландшафт похож на выжженную напалмом пустыню.
Наши престарелые вожди искренне любили своих младших черных братьев, осыпали их высшими государственными наградами, устраивали торжественные кремлевские приемы в их честь, называя их при этом партийным словом “товарищ”. Одного такого президента, Бокассу, известного садиста-каннибала, даже пригласили в детский лагерь Артек, где на торжественной линейке его немедленно зачислили в почетные пионеры. Говорят, товарищ Бокасса был растроган и выразил бурное восхищение упитанностью советских детей.
Страна Ангола, освободившаяся от португальских колонизаторов, оригинальностью не отличалась. Все по полной программе. Сначала марксистская группировка захватила крупнейшие города и посадила президентом своего вожака, потом, стремясь убрать возможных конкурентов, новая народная власть начала этнические и прочие чистки, залив страну кровью по колено.
В ответ с севера и юга в Анголу вторглись коварные интервенты, наймиты мирового империализма. Почти сразу же начался голод, к границам потянулись потоки беженцев, вспыхнули эпидемии. А после того как для защиты завоеваний социализма в Анголу стали прибывать советские и кубинские войска под видом военных советников и переводчиков, пошла настоящая карусель. Оружия за короткий период противоборствующим сторонам было поставлено столько, что можно было воевать аж до второго пришествия.
Десять лет подобной благодати превратили красивую и богатую ресурсами страну в дикое поле. А в такой ситуации самые востребованные гражданские специалисты – это врачи и медсестры.
Наша старшая сестра Надька завербовалась в один из военных госпиталей Луанды. Пару месяцев она ходила на курсы португальского, хотя я ей настоятельно советовал параллельно освоить испанский, справедливо предполагая, что многочисленные кубинцы будут интересовать Надежду Сергеевну куда больше, чем местное население.
В начале 1985 года мы проводили нашу, уже бывшую, старшую в путь-дорогу. В ординаторской накрыли стол, сказали много всяких хороших слов. Когда пришла пора прощаться, у себя в кабинете Надька по очереди расцеловала меня и Ваню и даже всплакнула. При всех ее особенностях она не была подлой и злой. Я растрогался и, погладив Надьку по спине, проникновенно зачитал ей на ушко стихи Корнея Чуковского:
- Маленькие дети!
- Ни за что на свете
- Не ходите в Африку,
- В Африку гулять!
Начались судорожные попытки среди остатков старой гвардии найти достойного кандидата на пост старшей сестры. Почти сразу выяснилось, что быть хорошим исполнителем – это одно, а стать эффективным управленцем – совсем другое.
И вот после череды проб и ошибок на эту должность была предложена самая яркая и оригинальная медсестра отделения Тамара Царькова.
Кавказская пленница
Тамара была родом из абхазского городка Гудаута, находящегося на морском побережье севернее Сухуми. Та часть Тамариной жизни, которая пришлась на Абхазию, была окутана тайной, но, по отрывочным сведениям, ее русская мама работала официанткой в ресторане на озере Рица, а мингрел папа носил фамилию Гватуа.
Когда Тамаре исполнилось семнадцать, ее, студентку медицинского училища, с соблюдением всех горских обычаев похитил местный абхаз, спустившийся для этой цели с заснеженной вершины. Но тоскливая жизнь в маленьком горном селе, разумеется, не могла устроить такую незаурядную личность – Тамару всегда манил большой город. Через пару месяцев, в одну из безлунных ночей сбежав от знойного супруга-похитителя, она убедила маму не мешкая ехать с ней в Москву, что они и сделали. В том же семьдесят четвертом году она быстро вышла замуж за Петьку Царькова, сына священника, у которого в ту пору был самый большой дом в селе Коломенском, на месте которого сейчас стоит кинотеатр “Орбита”.
Столичная жизнь и вправду оказалась яркой и динамичной, что полностью соответствовало ожиданиям темпераментной южной красавицы. Все отлично устроилось, да и мама получила хлебное место буфетчицы в кинотеатре “Ашхабад”. Спустя год у Томы Царьковой родился мальчик Денис.
Она попала в Семерку в семьдесят восьмом, как сама многократно всем рассказывала, договорившись там сделать аборт по блату. Нарядная и современная больница пришлась ей по душе, да и медицинское образование требовало реализации. Через неделю Тамара вышла на работу в реанимационное отделение.
С первых же дней стало видно, насколько новая медсестра Царькова отличается от остальных. Она была веселая, стремительная, схватывающая все на лету и острая на язык.
– Привет, лимита! – так обычно с порога здоровалась Тамара. – Какие дела у нас, какие сплетни?
Сестры из числа деревенских дергались, подобное обращение их обижало, а главное, они знали о немосковском происхождении новенькой. Но назвать лимитой саму Тамару ни у кого не поворачивался язык. Во-первых, все уже поняли, что она отбреет так, что будешь месяц заикаться, а во-вторых, Царькова, особенно на их фоне, выглядела просто королевой. Тамара ходила в дубленке, носила серьги с бирюзой, а на работу, когда было настроение, приезжала на новеньких маминых “жигулях”. А ее недавно приобретенный трехкомнатный кооператив в Чертанове – это было совсем за гранью понимания который год живущих в общаге лимитчиц.
Пару раз пробовали жаловаться начальству. Но, как я подозреваю, само начальство тоже немного побаивалось Тамару, что, в принципе, было разумно. Поэтому та никогда не тушевалась, а вела себя раскованно и непринужденно.
– Ну что, колхоз, все женихов ждем? – с нескрываемой насмешкой произносила она, когда, по своему обыкновению, девушки из общежитий заводили свою бесконечную тоску о том, кто женился, кто развелся, кого поматросили и бросили, кто и на такой вариант согласен, а кто и всякую надежду потерял.
С этим у Тамары всегда был полный порядок. Вот уж кто не страдал от недостатка мужского внимания! Не успела она развестись с сыном коломенского попа Петькой, как тут же на шашлыках в одной развеселой компании познакомилась с красавцем ювелиром и закрутила с ним умопомрачительный роман, закончившийся скорой свадьбой. Молодая жена называла ювелира Анатолий Дмитриевич, а ювелир мало того что обожал Тамару, взяв ее с ребенком, так еще осыпал с головы до ног собственноручно изготовленными драгоценностями и каждую ночь клал к изголовью полные нежности записки. Дело в том, что она просыпалась в четыре утра, а в шестом уже была на работе.
Записки эти Тамара зачитывала вслух при всех, а незамужние ее коллеги с помертвевшими лицами внимали чужой любви. Страстные ночные депеши ювелира начинались примерно так: “Доброе утро, моя сладкая дынечка…”
А вдобавок в Москву прибыл тот самый абхаз, который в свое время умыкнул Тамару и которого она столь коварно бросила ради большой и красивой Москвы.
К слову сказать, меня всегда поражала ее способность легко и быстро расставаться с людьми, особенно с мужиками.
Так вот, видимо, этому абхазу настолько запала в душу юная и строптивая лань, что, измучившись от одиночества на своей поросшей кизилом скале, он собрался и поехал за ветреной Бэлой в Москву – в тайной надежде повторить подвиг многолетней давности. Но, прибыв в столицу, незадачливый абрек устроил грандиозную драку с какими-то мужиками, косо на него посмотревшими, после чего отправился на несколько лет валить лес.
Впоследствии, пройдя такие испытания, как страсть, похищение, коварное бегство, одиночество, следствие, суд и лагерь, бедняга стал истинным христианином, закончил семинарию и теперь – известный в своих краях праведник-священник с большим приходом.
Притихшие девицы обреченно слушали рассказы Тамары, понимая, что ничего подобного, даже сотой доли такого великолепия, в их жизни не будет.
Работала она всегда здорово – быстро и легко. Когда случалось что-нибудь экстренное, Тома превращалась в настоящий вихрь. Недаром из всех сестер отделения только ее и Ленку Щеглову сделали операционными сестрами, послав на специальные курсы. Во время Олимпиады было решено развернуть операционную прямо в нашем отделении, напротив противошокового зала.
К тому моменту, когда я стал работать в реанимации, Тамаркиному Денису исполнилось семь лет и он пошел в школу. Царькова тотчас объявила, что она мать-одиночка и теперь имеет право работать на полставки. В нашем отделении, где все пахали как проклятые, ей поставили только четыре субботы. Из начальства никто не пикнул.
Из этих четырех суточных дежурств два она продавала, причем за большие деньги, на одно брала больничный и только раз в месяц выходила сама. По собственному же признанию – чтобы быть в курсе всех сплетен и новостей. Зарплата ее интересовала мало. Больница превратилась для Томы Царьковой в место, где лежала трудовая книжка, капал стаж. А что? Очень удобно. И для будущей пенсии хорошо, и за тунеядство не привлекут.
Работал я с Тамарой редко, зато дежурства у нее покупал часто. Отказать ей было практически невозможно. Она умела убедить любого, и происходило это по стандартной схеме.
Царькова являлась на работу ни свет ни заря, чуть раньше шести. Мощным пинком распахивала дверь в комнатку, где спала отдыхающая смена, и радостно заявляла:
– Ага, спите, бляди! Кто мои сутки купит? Леха Моторов, купи ты! Один хрен, ничего не делаешь! И хватит дрыхнуть, наглая рожа, пошли покурим!
Это при том, что в лучшем случае я засыпал в половине пятого.
Если мое следующее по графику дежурство наступало уже завтра, Царькова благородно переключалась на новую жертву.
– Так, девочка, тебя как зовут? – спрашивала она, к примеру, Олю Караеву, маленькую, невзрачную девушку, которая к тому моменту работала в отделении больше года.
– Оля… – отвечала та слабым голосом, опустив глаза в пол, понимая, что ничего хорошего такой вопрос не сулит.
Народ сразу же вставал в кружок, чтобы насладиться предстоящим зрелищем.
– Слушай, Оля, купи у меня сутки! – без разведки начинала Тамара.
– Но, Тамар, я сама вот только сутки отработала, – шепотом произносила Караева.
– Ой, поглядите на нее, сутки она отработала! Ну и что ты сейчас собираешься делать? – с усмешкой приступала Царькова. – Домой пойдешь?
– Да… – еле слышно соглашалась Оля.
– Поспишь? – И, заметив утвердительный Олин кивок, с удовлетворением продолжала: – Встанешь, пожрешь?
Оля опять кивала, не поднимая глаз.
– А потом… потом ты наверняка телевизор усядешься смотреть! С папой, с мамой! – Тамара брала паузу, чтобы увидеть очередной кивок, подтверждающий ее слова.
И, не скрывая торжества, зная, что сейчас на нее смотрит куча сотрудников, заканчивала:
– А родители твои будут сидеть и думать: что же за дочь такая у нас, только спит, жрет да телевизор с нами смотрит! И никого-то у нее нет! Ни жениха, ни ебаря, ни мужичонки какого разового! А я тебе, между прочим, за свое дежурство двадцать пять рублей дам!
Не дожидаясь согласия, она вынимала всегда набитый деньгами кошелек и, достав четвертак, засовывала в карман пунцовой, едва не плачущей Оле.
– Так! Кто со мной? Пошли быстро покурим, а то мне домой нужно бежать! – закончив трудовую вахту, ставила точку Тамара.
До сих пор не знаю, почему такая, как она, моментально выделила меня изо всей толпы пришедших в том году новеньких. Может, из-за первого совместного дежурства?
Мы познакомились в октябре восемьдесят второго. Я к тому времени два месяца как пришел в отделение, но Тамару видел лишь мельком, при ее графике это было неудивительно. Тем более что Царькова работала только по субботам, а меня по субботам почти не ставили.
Заступив на сутки, как положено, в начале девятого, я, к своему удивлению, выяснил, что Тамара находится на работе уже больше двух часов. И как только я появился в блоке, она скептически посмотрела в мою сторону, усмехнулась и, обратившись к дежурному врачу, произнесла:
– Виолетта Алексеевна! Мы пойдем с новым мальчиком покурим, вы пока все равно в блоке сидите, а нам всего десять минут нужно!
Мы пришли в гараж, Тамара села напротив, закурила и принялась с большим интересом меня разглядывать. По завершении осмотра она глубоко затянулась, выпустила дым и полюбопытствовала:
– Так, мальчик, как тебя зовут?
Я представился. Тамара прищурилась и задала еще вопрос:
– А ты, Леша, в Москве живешь?
Узнав, что я живу в Москве с рождения, тяжко вздохнула и осведомилась:
– Вот что, Леша, скажи честно, ты дебил или наркоман?
Я как-то сразу растерялся, но Тома охотно пояснила:
– Если ты москвич и прописка тебе не нужна, значит, ты полный придурок, раз добровольно пошел сюда работать, горшки выносить. Тут же все по уши в дерьме, ни пожрать, ни поспать, да и платят копейки! А может, ты наркотики собираешься тырить? Мне ведь с тобой сутки работать, нужно же знать, чего от тебя ожидать!
Я стал сбивчиво объяснять про желание поступить в институт, про то, как мне здесь понравилось во время практики, про то, чему я собираюсь здесь научиться.
Тамара, не дослушав, перебила, облегченно переведя дух:
– Понятно, значит, все-таки дебил! – и, потушив сигарету, стремительно встала. – Ладно, Леша, пошли работать, но смотри у меня!
Уже в блоке Царькова заявила, что пришла сюда в шесть утра и все давно без меня сделала, повесила капельницы, измерила всем давление, пульс, температуру, осталось только сделать кое-какие назначения, и она меня отпускает до обеда.
Я ушам своим не поверил, надо было знать наше отделение – здесь перекурить бывает невозможно отпроситься, позвонить отойти, а тут отпускают, причем не просто, а до обеда!
– Но учти, Леша, когда я тебе скажу, ты меня тоже отпустишь. Все, иди гуляй, время пошло!
Гулять надоело через двадцать минут. Спать, как назло, не хотелось, курить тоже, я слонялся взад и вперед по коридору. Пытался сунуться в блок, но Тамара меня прогнала. Пошел в лабораторию – там все занимались делом. Заглянул в первый блок, где сказали, чтобы я их не отвлекал. Четыре часа показались мне бесконечными.
Наконец время мучений закончилось, и Тамара разрешила вернуться на рабочее место. Мы по очереди отбежали пообедать, потом сделали назначения, потом перекурили, потом перестелили, потом опять назначения.
После ужина Царькова закурила и объявила:
– Все, Лешечка, теперь моя очередь! Я тебя отпустила, правильно? Вот и ты меня отпускаешь на то же время. Я обычно с двенадцати до четырех сплю. Плюс сегодня четыре часа дополнительных. Сейчас без десяти восемь, как раз успею зубы почистить и спать пойду. С восьми до четырех!
Так и сделала. Постелила себе в сестринской на софе и спать легла.
А на прощание добавила:
– Попробуй только хоть на шаг из блока выйти, попробуй икебану не навести и только попробуй хоть на секунду меня раньше разбудить, аферист!
Даже в свое единственное дежурство в месяц Тамара Царькова умудрялась спать полноценных восемь часов.
Вот такую Тамару сделали старшей сестрой отделения. Прошла неделя, и всем уже казалось, что она с рождения только и делала, что работала начальником. У нее это, похоже, было в крови. На какой-то момент ей даже удалось затмить нашу Суходольскую. А в моей жизни перемены начались практически сразу.
Первым делом Царькова вызвала меня в кабинет и сказала строго:
– Моторов, аферист, вот ты здесь уже три года, а мыть полы по-человечески так и не научился! Развезешь грязь, вечно перемывай за тобой, наглая рожа! С этого месяца будешь работать только по “шоку”!
Надо понимать, что это означало.
Пациенты в реанимацию попадали двумя путями. С улицы, по “скорой”, или из других отделений и операционных самой больницы. Те, которые поступали с улицы, находились в критическом состоянии, нередко в агональном. И дабы не тратить драгоценное время, “скорая” въезжала по специальной эстакаде на второй этаж прямо в гараж нашего отделения. Принять такого больного называлось у нас “принять эстакаду”.
Из гаража больной попадал в противошоковый зал, или сокращенно “шок”. И хотя работа по “шоку” была, безусловно, ответственная и невероятно напряженная, требующая высокой квалификации, быстроты реакции и особого склада характера, именно она считалась самой блатной синекурой в нашем отделении. Потому что тут после выброса адреналина можно было передохнуть до следующего поступления. А ночью – и это самое главное – спать, пока не привезут очередного больного. Настоящая лотерея. Иногда не везли всю ночь, а иногда в течение часа приезжали по четыре “скорых”. И тогда хоть вешайся.
На “шок” всегда ставили стареньких, очень редко новеньких и почти никогда – медбратьев. Только в неполных бригадах.
Новации Царьковой сразу вызвали протест в сестринской среде. Тут Тамара показала, что значит административный ресурс в ее исполнении.
– Так, Сорокина, ты сколько тут работаешь? Девять лет? Сколько ты за девять лет заинтубировала? В сердце уколола? Не знаешь? А я тебе скажу. Ни разу! А Моторов каждый день по сто раз это делает! Боровкова, пока ты одну капельницу заряжаешь, пять раз кончить можно. А посмотри, когда остановка, как Лешка работает, даже я сейчас хрена с два за ним угонюсь! А ты, Мартынова, когда вызов в роддом будет, со своей толстой жопой за сколько туда добежишь? Часа за два? А он знаешь как носится? Все, не отвлекайте меня больше, мне аптеку выписать нужно, и хватит тут в моем кабинете торчать, марш работать!
А еще через неделю состоялось собрание, на котором обсуждался вопрос увеличения оплаты санитарской работы. Раньше всем сестрам доплачивали двадцать процентов от санитарской ставки, что было чистым издевательством. Распределение этих двадцати процентов было абсолютно несправедливым, их давали и тем, кто работал на полставки, и тем, кто пахал как вол. Санитарок в нашем отделении отродясь не держали, и все, что было связано с уходом за беспомощными больными и надраиванием помещений, приходилось на сестер. Это была львиная доля их труда, причем за сущие копейки.
Но тут на реанимационное отделение дали дополнительные санитарские ставки, которые было решено распределить по-новому. Собрание я прогулял, мне потом рассказали во всех подробностях, что там происходило.
Всех сестер разбили на три категории. Первую составили редкие полставочники, в основном студенты. Им постановили платить двадцать процентов. Во вторую попали почти все остальные сестры, которым решили дать тридцать процентов.
А третья, самая немногочисленная, группа должна была получать сорок процентов от санитарской ставки. Неслыханное богатство, между прочим! Двадцать восемь рублей. За двадцать пять рублей, к примеру, можно было купить флакон французских духов. Если, конечно, найдешь.
В число таких счастливчиков, естественно, вошла сама Царькова, Оля Никишина как мать-одиночка, и Люся Сорокина как самая заслуженная сестра, работающая с момента открытия больницы и хоть и не одиночка, но мать двоих детей. Никто не возражал.
Тут Царькова посмотрела на всех внимательно и сказала с нажимом:
– И еще Леша Моторов!
Народ сразу загудел. Я, честно говоря, не очень уж надраивал стены и тумбочки, у многих махать тряпкой получалось куда лучше.
Тамара еще раз обвела всех взглядом и спросила, кто конкретно против. Поднялись две-три руки. – Вот что, с Лешкой работать легко и просто! За это и приплатить можно, а вы… – Царькова посмотрела на тех, кто продолжал тянуть руки, – вы можете хоть завтра сваливать в другое отделение, без вас обойдемся! Я здесь начальник, и как решила, так и будет. А теперь марш отсюда и окна откройте, а то надышали!
С этого времени я стал ощущать себя человеком, состоящим при серьезном и важном деле, а не мальчиком-поломойкой с медицинским уклоном. Я принимал пациентов, которых привозили по “скорой”, – от жертв авиакатастроф до бедолаг, перебравших тормозной жидкости.
Чего я только не насмотрелся и в чем только не поучаствовал.
Кроме того, наши врачи, начиная буквально с первого моего дежурства, ежедневно и бескорыстно делились со мной секретами мастерства. И очень скоро незаметно для себя я насобачился производить кучу разнообразных специфических манипуляций, о которых далеко не каждый доктор слышал. В результате эти навыки у меня быстро вытеснили сестринские, и, например, пунктировать перикард у меня получалось много лучше, чем подкладывать грелку.
К тому же я бегал с врачами на вызовы по всем этажам и корпусам больницы. Там тоже было весело. То кровотечение, то эпилептический припадок, то кома. А однажды меня и дежурного доктора Андрюшу Орликова на директорской черной “Волге” с красными бархатными сиденьями отвезли на сверхсекретный нагатинский ракетный завод. Рабочий, шлифуя какую-то деталь, необходимую для функционирования оружия массового уничтожения, выдал остановку сердца прямо у токарного станка.
Я получал неимоверное удовольствие ото всей этой сумасшедшей свистопляски, после которой работа в реанимационной палате, которая у нас называлась блоком, представлялась вытягивающей жилы тягомотиной.
Это заметили многие, но первой высказалась конечно же наша Суходольская.
Как-то раз мы с ней возвращались после удачной реанимации в терапии, куда нас вызвали на остановку сердца. Домчались на шестой этаж пулей и увидели традиционную картину. Врачи и сестры отделения, вместо того чтобы хоть сделать вид, будто отчаянно борются за жизнь пациента, в полном составе с укоризненными и скорбными лицами поджидают нас даже не в палате, а в коридоре. Как будто они не реанимационную бригаду вызвали, а попа для отпевания. Мы, разумеется, наорали на них, параллельно вкололи мужику адреналин и атропин в сердце, заинтубировали и начали качать.
Уже в лифте, затолкав туда каталку с пациентом, которому все-таки удалость запустить сердце, Суходольская, наблюдая, как я между шестым и вторым этажом ухитрился вставить подключичный катетер, признала:
– Да, Лешка, конечно, в экстренной ситуации ты в нашем отделении лучший!
Потом поняла, что перехвалила, нахмурилась и добавила:
– Но все говорят, если Леша Моторов соизволил зайти в блок, то, для того чтобы там его удержать хоть на минуту, нужно бежать и обе двери чем-нибудь тяжелым подпереть! Не любишь ты рутину!






