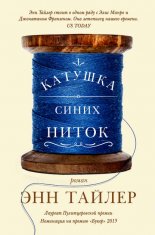Беседы палача и сильги Михайлов Дем

– Буду рад угостить, – повторил я. – Прибереги деньги на черный день. Я слышал, многие из вас пребывают на грани если не нищеты, то бедности.
– Деньги редко падают в наши протянутые ладони, – вздохнула сильга, глядя на меня благодарным взглядом. – Спасибо за понимание. Из этих монет мне достанется немного. Как только смогу попасть в ближайшее представительство Королевского банка, внесу большую часть золота на счет сестринства. Остаток разделю на три части. Одну часть оставлю себе, а оставшиеся две отправятся на общий счет шести сильг. Я одна из них.
– Вы помогаете друг другу….
– Да. Скоро зима. Мы тоже не очень-то любим ночевать на улице в холодное время года. Нам нравится теплая одежда, сытная еда, надежное и уютное место для сна. Для всего этого нужны деньги. И мы стараемся как можем, чтобы во время дождей и холодов не познать горестей из-за безденежья. Но за последний десяток недель я не положила на общий счет ни единой медной монеты…
– Черная полоса?
– Скорее черное болото невезения, – понурила голову девчонка. – Мои пять подружек-сестер не скажут плохого слова. Но…
– Но на душе кошки скребут, – кивнул я. – Я понимаю, сильга Анутта. На самом деле понимаю. В этом мне повезло куда больше тебя – всегда найдутся преступившие закон и заслужившие пытки и смерть. Надобность в моих услугах не пропадет до скончания веков, и, почитай, в каждом селении всегда найдется для меня работа. Поэтому я могу себе позволить угостить тебя несколько раз без ущерба для кошелька. И еще. Хочу, чтобы ты внимательно выслушала следующие мои слова и не сомневалась в их искренности и правдивости. Хорошо?
– Я выслушаю тебя, палач Рург, – склонила голову Анутта.
– Все что я делаю – не накладывает на тебя ни малейших обязательств, – медленно и четко проговорил я. – Ты ничего не должна мне. И я не стану пытаться забраться тебе под юбку… – тут я запнулся, наткнувшись взглядом на ее ладно сидящие штаны и поправился: – не стану пытаться забраться тебе в штаны, сильга. Все что я делаю – я делаю просто так. Ты мне ничего не должна.
– Я поняла и поверила, палач Рург.
Ее церемонность в некоторых случаях казалась частью некоего этикета сильг. Вежливого, но холодного. Я не возражал. Взглянув на меня в упор, девушка добавила:
– Спасибо. На самом деле спасибо.
– Не за что, сильга Анутта, – ответил я, останавливая лошадь перед гостеприимно распахнутыми воротами постоялого двора Щуков Суп. – Советую заказать рыбацкую уху с красноперками и улитками. Ее здесь готовят просто божественно. Но перед ней стоит отведать щавелевой похлебки – она замечательно разжигает аппетит, не занимает много места в желудке и не тяготит его.
– Сколько познаний…
– Уже долгие годы я путешествую этими дорогами. Поверь – я знаю, где в этих местах вкусно кормят, а где просто зря переводят продукты.
– А разве щавель не для лечения от слабости живота пользуют?
– Щавель многим хорош. А в правильной похлебке он просто превосходен.
– Что ж. Положусь на твой опыт, палач Рург.
– Весьма польщен доверием.
– Ох…
Вышедший из дверей бревенчатого приземистого здания невысокий крепыш при виде меня неловко ступил и сверзился со ступенек, тяжело рухнув на утоптанную землю. Охнув еще раз, он приподнялся, утер кровь с разбитой при падании брови и сокрушенно простонал:
– Прибыл уже… значит, сегодня Феникла и отпоем.
В воздухе повис отчетливый запах крепкого перегара. Не рановато ли для возлияний? Солнце в зените…
– Ого, – удивилась сильга, успевшая спешиться. – Так ты не просто проездом?
– Похоже, что так, – с не меньшим удивлением отозвался я, спускаясь с седла. – Видать, сыскалась работа. Но я не слышал о том, что в деревне меня ожидает приговоренный…
Глава третья
Страж Лавр заслуженно гордился многим.
Ухоженными усами, обрамляющими рот и спускающимися ниже подбородка. Густой, несмотря на возраст, седой шевелюрой, горшком вздымающейся над головой, и длинной гривой, ниспадающей на загривок. Тихим местом службы в придорожной деревне, где умелый страж никогда не останется голодным, да и домочадцы его будут накормлены, напоены и одеты. А семья у Лавра немаленькая – дюжина детей, старшие давно уж оженились. И всем помогать надо.
Но Лавр закон чтил. Посему хоть и брал порой невеликую мзду с проезжающих торговцев, но меру знал, не зарывался, за порядком в селении следил строго и нарушителей спокойствия карал жестко. Причем карать предпочитал самостоятельно – благо рука по-прежнему крепка, а палок в округе хватало. Местные Лавра уважали. Серьезных случаев тут хватало. Чаще всего драки и смертоубийства. Кражи редкость великая. Свой у своего не украдет. Разве что заезжий какой вор стянет чего со двора или скотину уведет.
А вот убийства – часто. Больших драк – не счесть. Деревня-то придорожная, одних постоялых дворов целых четыре и пятый уже строится. Шесть харчевен. В каждом заведении вино и эль не переводятся. Пей вволю – коли денежная мошна не пуста. А чем больше пьешь, тем большим задирой становишься, вспыхнуть можешь от малейшего пустяка, на словесный упрек ответишь ударом кулака или выхваченным из-за голенища ножом. Потому стражники покоя вечерами не знали. И почти всегда успевали задавить драку в зародыше, не допустив ее разрастания в кровавую битву, когда о пьяные лихие головы разбиваются бутылки, лавки и прочая утварь трактирная. Утром же проспавшиеся зачинщики обнаруживали себя прикованными к большому круглому камню на обочине дороги недалеко от околицы Луноры. В камень вделаны толстые железные кольца, к ним хмельных удальцов и приковывали. Там они и отсыпались на ночном холодке – а он знатно хмель из дурных голов выгоняет. По пробуждении отпускались, уплатив немалую деньгу за учиненный беспорядок и доставленные стражам хлопоты. Платили с благодарностью – понимали забияки поостывшие, что, быть может, об большой беды местные блюстители порядка их уберегли. Никому не хотелось становиться убийцей по пьяному делу.
В общем – Лавр свое дело знал отменно. У такого не забалуешь.
Он и сейчас был полностью спокоен, сидя за столом под придорожным навесом и задумчиво поглядывая на стоящую поодаль сильгу, осматривающую свою рыжую верховую кобылу.
– Кончить надо голубчика, – развел руками Лавр. – Чего тянуть? Хотел его отправить в Элибур, чтобы прямо в твои руки и попал поганец. А тут ты и сам в гости явился. Так что уж извини – обед мы тебе чуток подпортим.
– Не в этом дело, – ответил я. – Судил его кто?
– Проезжий высокородный. Он как раз ужинал, когда мы Феникла повязали. А сегодня утром задержался он на часок, выслушал все как есть и вынес решение. Приговорил не раздумывая. Как по мне – все верно он решил. Таких сразу давить надо.
Я молча кивнул и протянул руку. Лавр вытащил из-под локтя толстый лист серой бумаги и протянул его мне. Вердикт. Бегло пробежав текст глазами и внимательнейшим образом изучив восковой оттиск печатки от перстня и витиеватую подпись, я кивнул еще раз. Все верно. Все по всем правилам.
По-военному четким и лаконичным почерком удостоверено, что проживающий в деревне Лунора горшечник Феникл был уличен, а затем чистосердечно и полностью признал свою вину в том, что лишил жизни больше десятка ни в чем неповинных людей. Засим приговорен к смертной казни посредством усекновения головы. Столь милостивая смерть дарована по причине того, что суд сомневается в полной душевной здравости Феникла горшечника из деревни Лунора.
– Больше десяти человек, – с легким изумлением проговорил я вслух. – Как так?
– Исподтишка и не один год, – сокрушенно пробормотал Лавр, впервые на моей памяти теряя самоуверенность.
Ну да – на доверенной ему земле не один год убивали людей, а он про то и не ведал. Есть отчего схватиться за голову. Особенно для столь опытного стража, служившего много лет.
– Как не замечали пропажу людей? – спросил я, зная, что мне ответят.
Не из обязанности. Просто Лавр знал меня, а я знал его. К чему кобениться?
– Пропажу? Хе! – покрутил головой страж. – Куда там! Каждого несчастного тотчас же находили – лежащим на грязном полу трактира после очередной общей драки. Он ох и хитер! Исподтишка убивал – всем, что под руку попадется, но только не ножом. Кровь старался не пускать. Ты только послушай, что творил, стервец…
Все оказалось просто и умно. Феникл, местный уроженец, убивал часто и с удовольствием. Убивал не кого-то особенного, а того, кто удачно под руку подвернется. Почитай, каждый вечер горшечник вместе с друзьями усаживался в углу трактирного зала и вволю веселился, выпивая несколько кружек эля, обсуждая с приятелями проезжих гостей, масть лошадей, загруженность торговых повозок и прочее.
При этом Феникл с большим нетерпением и надеждой ждал, когда вспыхнет очередная бессмысленная пьяная драка. И когда схватка разгоряченных выпивкой мужчин вовлекала в себя весь зал, вот тогда-то Феникл потихоньку и заползал на четвереньках в гущу событий, действуя как хитрая и мерзкая змея. Чаще всего он натыкался на уже выбывшего из драки удальца, подбирающего с полу выбитые зубы или с мычанием зажимающего разбитый нос. Вокруг все носятся, кричат, машут кулаками и ничего не видят кроме искаженных лиц противников и дыма от жировых светильников и камина. Никто не смотрит под ноги.
Тогда-то и наносился один смертельный удар. Редко два. Чем-нибудь твердым и увесистым. Иногда острым. Оторванная ножка стула, вилка, целая или разбитая бутылка. Последним орудием – разбитой бутылкой – Фениклу нравилось работать больше всего. Коротким сильным ударом горшечник вбивал скалящуюся остриями битого стекла бутылку прямо в загривок пьяного гостя. Бил чуть ниже затылка, стараясь вонзить поглубже да так, чтобы крови поменьше было. А затем Феникл быстро возвращался обратно к друзьям, выпрямлялся во весь рост, после чего начинал с громкими воплями всех унимать, растаскивать обессилевших израненных драчунов и выводить их во двор – охолонуть и успокоиться. Еще и подоспевшим стражникам помогал. Достойный муж, что всегда пьет в меру и всегда готов помочь в благом деле.
Попался Феникл случайно. Один из его друзей в тот вечер захватил с собой малолетнего сына. Тот забрался под стол и все вечерние часы просидел там, играя с грубо выструганными деревянными фигурками коней и воинов. Когда началась драка, малек остался там же. И вот он-то и увидел, как дядька Феникл сначала отбил от подобранной с пола бутылки донышко, а затем вонзил стеклянные зубья в затылок упавшему на пол дяде извозчику, держащемуся за окровавленное лицо.
Позже рассказал об увиденном отцу. А у того брат в стражниках. Так дошло до Лавра. А тот прекрасно помнил, что в минувший вечер не обошлось без смертоубийства. И убийцу не нашли – а как найти? В трактирном зале, почитай, под сотню народу сошлось в драке лихой. Переломанные руки и ноги, выбитые челюсти, зияющие проломы в зубных рядах, вырванные клочья волос и свернутые носы. Половина из драчунов вовсе ничего не помнит. В подобных случаях всем назначается денежная вира. Собранные немалые деньги складываются в особый крепкий мешок, что отправляется к родственникам убиенного. А что делать? Не всех же драчунов казнить? Те же всем скопом отправляются в храм – возможный страшный грех замаливать.
А тут, на тебе, подробность какая мерзкая и страшная – дядя Феникл бутылкой разбитой ударил. Подбежал аки зверь лютый на четвереньках и ударил без раздумий. Глаза сверкают, рот в слюнявой ухмылке кривится… мальчонка ведь живо все описал и показал в лицах. Очень уж был он потрясен увиденным…
Феникла взяли тотчас. Начали спрашивать, да, само собой, без нескольких тычков и пощечин дело не обошлось. Взялись за него круто. Тот молчал. Пришлось надавить сильнее… и вот тогда-то горшечник и начал говорить. Все думали, он кого-то из мести порешил – застарелая обида или еще что. А оказалось, что он стольких подобным образом на тот свет отправил, что и сосчитать уж не может. Но больше десятка точно… ведь не меньше трех-четырех раз в год он вот так вот душу свою гнилую тешил…
– Тьма… – покачал я пораженно головой, выслушав рассказ Лавра.
– Кромешная! – подтвердил тот. – А ведь я каждый день с ним за руку здоровался. Вся посуда в доме моем из-под его рук вышла – горшечник ведь знатный он! Жена как узнала – все разбила. В овраг отнесла и о камни, о камни! В осколки мелкие. Все до последней миски. Сегодня из корыта деревянного есть станем.
– Да лучше уж из корыта…
– И то верно… И вот ведь что забавно – он не ради выгоды людишек жизни лишал! Карманы не обирал, пуговиц серебряных не срезал, амулетов и медальонов с шей не срывал. Ради чего убивал? Как по мне – потехи ради. Зверь лютый, до крови жадный.
– Я хочу поговорить с ним.
Мы с Лавром удивленно повернулись и воззрились на неслышно подошедшую Анутту. Сильга и не думала скрывать, что услышала каждое слово из нашего разговора. Лавр видел, как мы вместе с ней шли бок о бок. Стало быть, понимал, что она со мной. Потому не стал сразу возвышать голос и посылать неподобающим образом одетую девку куда подальше. Лишь прошелся взглядом по стройным ногам, не скрытым подолом длинной юбки, крякнул неодобрительно, после чего спросил:
– Для чего? Хотя… лучше и не спрашивать. Хочешь поговорить с убийцей – дело твое. Но для него разницы не будет. Палач без работы не останется.
– Феникл будет казнен, – подтвердил я. – Причем незамедлительно.
– Это не займет много времени.
– Тем лучше, – пожал плечами Лавр и встал. – Пойдемте. Провожу вас до места. Но зря время потратишь, сильга. Тут и так все ясно – зверь внутри него сидит до крови жадный. Душевного покоя не дает, требует и требует убийства вершить. Такое не лечится. Один лишь путь – на тот свет. А там уже светлая Лосса рассудит, куда его определить, хотя как по мне, не избежать ему вечного копчения в огненной тьме Раффадулла.
– Звери разные бывают, – ровным тоном ответила Анутта, шагая чуть позади нас. – Некоторые рождаются в душах. А некоторые приходят туда позже…
– Сказки все это, – отмахнулся Лавр, не скрывая пренебрежения.
Я промолчал. Лишь снял с пояса перчатки из окрашенной в красный цвет толстой кожи с нашитыми бляшками из красной меди. И на ходу принялся их надевать. Топор править нужды не было – он у меня всегда острый, за инструментом слежу добросовестно, ибо нет ничего более позорного для палача, чем не суметь отсечь голову одним ударом – конечно, если не было указания намеренно лишь надрубить позвонки, но не перерубать горло. Дабы у приговоренного тело навсегда омертвело и слушаться перестало к ужасу его дикому…
Феникл был прикован к тому самому круглому камню у обочины. Цепями к «похмельному» валуну, как любя называли сей немалый булыжник в деревне. В десяти шагах стояли два стража, старательно не глядя на прикованного. Еще бы – они ведь не раз с ним выпивали, смеялись, сидели бок о бок на скамьях во время деревенских праздников, принимали у него помощь и покупали вышедшую из его рук глиняную посуду. А тут вона как все обернулось…
Когда мы подошли, горшечник лежал на боку в скрюченной позе. Словно почувствовавший скорую смерть больной зверь. Заслышав наши шаги, приподнял голову и повел глазами. И первым делом увидел меня. Его глаза намертво приковало к красной метке на моей груди. Нижняя челюсть мелкими дрожащими рывками поползла вниз, послышался прерывистый свистящий вздох, тут же сменившийся долгим и протяжным скулением. Феникл неловко вскочил, но короткая цепь рванула его вниз, и он рухнул на колени.
Подойдя еще на шаг, я с громким хлопком свел ладони перед его носом. Скулеж резко прервался, горшечник покорно замер.
– Уже поздно бояться, – громко и четко произнес я. – Теперь поздно. Тебя ждет лишь одна судьба, и поверь – учитывая твои мерзкие деяния, она к тебе слишком добра.
– Не хочу умирать, – Феникл взглянул на меня снизу вверх. – Возьмите в солдаты! Всю жизнь служить буду! В каменоломни возьмите! В рудники! Я сильный! Выносливый! Отработаю! Искуплю!
Подступила сильга.
– Посмотри сюда.
Перед лицом дрожащего мужчины мелькнула длинная цепочка с нанизанным на нее округлым медальоном, сейчас раскрытым. Я не увидел, что находится внутри. А вот горшечник увидел… но бросил лишь короткий взгляд и вновь сосредоточился на мне, вкладывая в голос – в свое единственное оружие и средство спасения – все имеющиеся у него силы:
– Я сильный! Работящий!
Я заметил лежащий среди травинок округлый белый камешек и не поленился нагнуться и подобрать его. Стряхнул с камня налипшую почву. Бережно погладил. Рассмотрел матовую поверхность с редкими бурыми вкраплениями. Обычный камешек, разве что слишком уж округлый для этого места – далековато от ближайшей реки или ручья. Как сюда попал?
– Все, – Анутта развернулась, защелкнула медальон и пошла обратно к деревне. – Палач Рург, буду ждать тебя на постоялом дворе.
Вздохнув, я неловко дернул ладонью и уронил на землю находку. Уронил прямо перед Фениклом. Указав пальцем, велел:
– Подай.
– Конечно, господин Рург! Конечно! – горшечник дернул головой вниз, зашарил взглядом по траве, ища белый камешек. Уронив ладонь на пояс, я шагнул вперед и чуть в сторону. Резко развернулся.
Спустя миг голова Феникла слетела с плеч и с глухим стуком ударилась о землю. Хлынул поток крови.
– Приговор исполнен, – произнес я, встретившись взором с Лавром.
– И я свидетель тому, – совершенно ровным голосом ответил старший страж, досадливо косясь на одного из помощников, вцепившегося рукой в захрустевшее деревце.
– Загляну за платой после обеда, – добавил я и неспешно пошел вслед за сильгой, бережно протирая лезвие топора вынутой из кармана тряпкой.
– Буду ждать. Удар у тебя мастерский.
– А камешек ваш, господин палач, – захлебывающимся булькающим голосом донеслось мне вслед.
Тот самый молодой страж, кому поплохело при виде свершения казни.
– Зачем он мне? – не оборачиваясь ответил я.
– Луфс! – с досадой проворчал Лавр. – Ты совсем дурак? Для отвлеченья тот камень был, дурная твоя голова! Палач проявил милость. Казнил в один миг. Феникл и не понял, что уже умер. Ш-шах! И он уже там, у ног Светлой Лоссы, готовится ответ давать за деяния свои. Да разве сумеет он достойный ответ дать? У, мерзость! Прямиком во Тьму его! У кого ключ от кандалов? И притащите рогожу какую-нибудь, чтобы тело прикрыть. А затем дуйте за телегой. Свезем его до родного дома.
– Так семья его еще утром собралась и прочь подалась. Пустой двор… вещи бросили, скотину и птицу оставили. Убежали…
– А ты бы не убежал? Муж и отец убийцей кровавым оказался. Как людям в глаза смотреть? Ох… ну и денек. Тащите уже рогожу… Так… погоди, а кто ж тогда отпевание оплатит, коли его родные сбегли? Не мы же…
Голоса стражников затихли, я же убрал топор на пояс, сложил и спрятал тряпку, стянул перчатки.
Дело сделано.
Теперь можно и отобедать.
– Так ты и живешь?
Вопрос был мягкий, но неожиданный. Анутта умела делать это в совершенстве – долгое время пребывать в молчании, находиться в объятьях собственных раздумий, а затем вдруг повернуть к тебе голову и задать тихий, но отчетливый вопрос.
– Так и живу, – согласился я.
– Путешествуешь от селения к селению и обрываешь жизни…
– Да. Я палач. Кто-то сажает редьку, кто-то подковывает лошадей, выписывает указы, собирает налоги или строит дома. А я казню преступников.
Я был рад поддержать беседу. Не скрою – меня никогда не тяготило молчаливое одиночество. У палача редко бывают попутчики – разве что вынужденные. Так и с теми не поговорить. Трудно разговаривать с трясущимся от страха старым крестьянином или же мелким торговцем, когда их заметно «екает» от страха при малейшем моем движении.
А однажды, когда я слишком резко повернулся в седле к идущему рядом бродячему седому кузнецу, так тот бухнулся на колени и внезапно признался в совершенном десятки лет назад убийстве по неосторожности. Вырвался молоток из потной юношеской ладони и, вылетев в дверь, угодил прямо в висок семенящей куда-то старушке. Много ли надо старой? Дунь разок – и преставится. А тут молоток…. Сердешная померла на месте, а паренек ринулся бежать. Да так и бегает с тех пор, бродя от селения к селению, за гроши выполняя кузнечную работу или помогая тамошним кузнецам как молотобоец.
Но все же я не молчун по своей натуре. Если беседа интересна – я буду рад поддержать ее в меру сил.
– У каждого своя работа, – повторила Анутта мои слова. – Расскажи мне о своей, палач Рург.
– Ты уже сама все сказала – езжу от селения к селению и казню людей. Другие не могут – грех смертный. Никто не хочет после смерти оказаться в огненной тьме. Все мечтают о прохладе горных лугов Лоссы.
– А ты? Не боишься? Скольких ты убил?
– Казнил, – поправил я.
– Одно и то же…
– Нет, – не согласился я. – Я не выношу приговор. Это делает судья. Он решает судьбу преступника, он держит его жизнь на ладони. И если его вердикт смерть… то уже не изменить ничего. Если не я – придет другой палач. И выполнит приговор.
– На Высшем Суде такие отговорки не примут.
– Откуда тебе знать? – парировал я.
– Жизнь священна. Прервавший ее – грешен. Великий грех, что не смыть никаким покаянием.
– Я не силен в диспутах о вере и грехах.
Я прикрыл глаза, ощущая сонливость, что вполне понятно – после столь сытного обеда и большого кубка вина, что я осушил стоя и в несколько больших глотков. Вино мне преподнесли жители Луноры. В благодарность за быстроту, неожиданность и правильность моего удара. Давняя традиция таким образом благодарить палача за хорошо проделанную работу. И за милосердие. Ведь можно и придержать руку, дать жертве ощутить всю полноту чудовищной боли.
Феникл умер слишком легко. Не ощутил почти ничего. Краткая вспышка боли, быстро приближающаяся к лицу земля, а затем милосердная темнота – и все. Он не заслужил такой легкой смерти. Но раз уж были подозрения на душевный недуг – я сделал поблажку и дал ему умереть легко. И жители меня отблагодарили. Да, он убийца, подлый и жестокий убийца. Но он здесь свой. Один из них. Они преломляли вместе хлеб, пили пиво, радовались успешным родам и скорбели об умерших. Он здесь свой…
– Прости, – вздохнула Анутта.
Я тихо рассмеялся и покачал головой. Заглянув в ее недоумевающие зеленые глаза, пояснил:
– Не подумай, что я не хочу об этом говорить, потому что меня страшат беседы о неминуемой смерти и о том, что я предстану пред Высшим Судом, что незамедлительно упечет меня в огненную тьму Раффадулла. Вовсе нет. Просто эта тема немного скучна… и давно уже нещадно избита.
– Ладно… тогда просто расскажи о работе странствующего палача…
– Ну… тогда меняем мою историю на твою. Я расскажу тебе о жизни палача, а ты мне о жизни сильги. Мы оба странники и оба понимаем ценность дорожной беседы. Это будет почти честно.
– Почти?
– Ну, услышанную от меня историю ты запишешь в свою толстую книгу, в которой еще немало чистых листов, как я успел заметить. Затем, когда передаешь книгу сестринству, другие сильги, а может и еще кто-то, смогут прочесть историю про палача. Ведь так?
– Да, – после краткого раздумья, кивнула сильга. – Смогут. Но ведь и ты можешь кому-то рассказать услышанную от меня историю. Рассказы чаще всего передаются устами, а не при помощи гусиного пера, испачканного в чернилах.
– Со временем устная повесть обрастает множеством придуманных деталей и перестает быть достоверной, – парировал я удар.
– А книга может сгореть в огне или размокнуть в реке, еще до того как я доставлю ее в сестринство. Тогда как людская молва и дальше будет носить над реками и полями мою историю.
– Хорошо, – покорился я, решив не продолжать спор, могущий оказаться бесконечным – при равных по уму спорщиках так обычно и случается. – Тогда слушай. Хотя должен сразу разочаровать – нет в нашей работе ни капли того мрачного очарования, что обычно ей приписывается. И палачи не купаются в крови своей сотой жертвы, не вымачивают в ней инструменты, не совершают прочих диковинных и порой мерзких обрядов, что приписывает нам столь восхваляемая тобою людская молва. И нет, не имеем мы дарованного королем права возлегать с приговоренной к смерти женщиной. Мы просто выполняем свою работу на совесть, а возложена она нас лишь по одной причине – никто ее делать ни за какие деньги не намерен. Боятся. Мало кто решится пресечь чужую жизнь вот так…
Странствующие палачи – это издержки веры в Светлую Лоссу, что не приемлет убийства – за редким исключением, где каждый муж будет прощен, если обороняет родной дом от убийц, насильников и прочих. Каждый будет прощен, если защищает собственную жизнь, ибо жизнь есть великая ценность, дарованной Лоссой, и защищать ее надобно, ибо таким даром пренебрегать никак нельзя. Борись за жизнь! Борись на смертном ложе, борись на ратном поле, борись, борись!..
Всегда будет прощен и солдат, что не имеет собственной воли, что вынужден покоряться приказу старших и разить врагов насмерть. Убийство по случайности – тут уж никто не виноват. Как обвинить того же бродячего кузнеца, из чьей усталой мокрой руки ненароком выскользнул убивший старушку молоток? Такое может случиться даже с праведником – каждому известна история про восходящего к храму праведника, оскользнувшегося, сорвавшегося с узкой горной тропы, упавшего и убившего своим падением другого праведника. Выживший от горя хотел разбить голову о камень, но снизошедшая Светлая Лосса утешила его и пояснила – нет в случившемся его вины…
Можно смело прервать жизнь человека, заболевшего узороморьем – страшной заразной напастью, при которой на коже больных проявляются очень необычные красивые узоры. Когда узоры накрывают большую часть тела, заболевший резко слабеет, а затем начинается столь страшная боль, что от нее нет спасения. Лекарства от узороморья не существует. Болезнь известна долгие века, и за прошедшие столетья не удалось спасти ни единого зараженного. Мучительная агония длится днями. И поистине – куда милосерднее убить, чем позволять безвинной душе корчиться в страшных муках.
И все. Лишь в этих случаях Светлая Лосса дает послабление. Лишь в этих случаях причинение смерти не является великим грехом, наказываемым отправкой в огненную тьму. А огненная тьма Раффадулла… как говорят сестры Лоссы, страшней того места во вселенной не существует.
Поэтому лишь некоторые безумцы решаются на то, чтобы убить. Наемные убийцы, отпетые разбойники, верящие лишь в золото наемники, просто безумцы или же ревнивые мужья и жены. А еще палачи. Причем именно последние грешат больше всего.
Пусть они получают плату за пролитие крови, что приравнивает их к наемникам. Но убивают изо дня в день, убивают постоянно, убивают до глубокой старости, в то время как уцелевшие в боях наемники рано уходят на покой. Хотя и тем не замолить страшный грех смертоубийства ради корысти.
Но…
Палачи совсем другое дело. Они не просто убивают. Зачастую они причиняют приговорённым столь страшные страдания, что те от боли сходят с ума. И это возводит грех палачей-истязателей на еще более высокую ступень.
Но и смерть жертвы еще не конец. Часто палачи оскверняют останки – отрубают головы, конечности, разрубают торс, вспарывают животы и крючьями вытаскивают внутренности, обрубают уши и носы, дробят ребра и сдирают кожу. И это лишь малая часть…
Чем страшнее преступление – тем страшнее наказание. В назидание!
Дабы другим неповадно было!
Но сестры Лоссы воспринимают это иначе – ведь над мертвыми телами издеваться нельзя. Мертвое тело надлежит омыть, завернуть в чистый белый саван, положить в деревянный гроб, отпеть в храме, а затем похоронить в светлое время дня. После смерти с тела нельзя остричь ни волоска, ни ногтя. Ибо оно уже не принадлежит живым. Такова наша священная вера. А палачу плевать – он будет кромсать труп беспощадно, а затем насадит отрубленную голову на кол и оставит так гнить на долгие дни… Грех! Ужасный грех! Великий грех! На такую гнусность способны лишь… да никто кроме палачей и безумных преступников, не могущих жить без проливания чужой крови.
И потому палачи редкость.
Бывает на сотни лиг вокруг лишь один палач. И палач всегда нарасхват – людишек много, они грешат и заслуживают наказания. И потому надобность в палаче не отпадает. Ведь только он согласится оборвать чужую жизнь. Стражи преступника могут найти, могут его немного прижать, доказать его вину, отдать дело судье, а тот уже вынесет приговор. Но жизни они никого лишать не станут. Никто не хочет обрекать бессмертную душу на вечные страдания.
Этим и кормятся такие, как я. Палачи схожи с бродячими лудильщиками и кузнецами. Только те починяют, а мы избирательно пропалываем людской род. Бродим и бродим мы меж деревнями и городками. Стоит проехать по главной улице или дороге, а там уж все просто – навстречу выскакивает парочка стражей, и сразу становится ясно, что здесь есть работа. Вездесущие детишки тотчас опознают в чужаке палача – порой еще раньше стражей прознают о госте востроглазые – и мчатся оповещать о прибывшем законном убивце и страшном грешнике, чья душа отправится в ад. И вскоре раздается дикий вой приговоренного к смерти заключенного, понявшего, что дни его сочтены и жизнь его оборвется уже сегодня. Некоторые тотчас кончают жизнь самоубийством, тем самым лишая палача заработка. Но это случается редко – отнятие даже собственной жизни приравнивается к убийству. Грех.
Поначалу, в первые годы, подобное отношение к нему не оставляет палача равнодушным. Кого-то злит или раздражает, кому-то даже тешит самолюбие общий страх, но и это со временем приедается. Я помню, как к концу первого года своей палаческой жизни постоянно глядел в небо, надеясь увидеть густые дождевые тучи – ведь тогда придется накинуть плащ, а он хоть и несет на себе метки палача, все же не так приметен, как остальная моя одежда. А затем приходит тусклое равнодушие, и тебя перестает заботить отношение окружающих. Опять же рано или поздно любому палачу повезет отыскать тех, кто не станет относиться к нему как к прокаженному. И вот этот крохотный круг светлых знакомцев и даже друзей и будет спасать отнимающего жизни от полного одиночества.
Повисшую после моей размеренно лившейся истории тишину нарушили несколько удивленные и даже разочарованные слова сильги:
– И… все? Из этого и складывается жизнь палача? Равнодушие, привычное одиночество, долгие молчаливые путешествия…
– Все так.
– И больше ничего?
– Ну почему же, – улыбнулся я. – Со временем узнаешь, в каких харчевнях и постоялых дворах готовят самые вкусные блюда…
– Уж прости, что перебиваю… но я спрашивала не об этом! Ты описываешь жизнь обычного…
– Человека?
– Да!
– Но я и есть человек.
– Ты хитришь, палач Рург!
– Нисколько…
– Ты описываешь свою жизнь так мирно… но ведь ты не бродячий лекарь и не паломник. Ты палач!
– Да. И что?
– Что может быть мирного в твоем деле? – сильга возмущенно выпрямилась в седле, уперла кулаки в обтянутые штанами бедра, и я поспешно отвел взгляд от ее приподнявшей рубаху груди. – Я… я ожидала услышать что угодно, но только не описание твоей безмятежной дорожной скуки!
– Ты как все. Ждешь от меня историй о том, как я кромсаю и убиваю, – понимающе кивнул я. – Ты ждешь от меня страшилок. Ты хочешь услышать морозящие кожу и кровь рабочие палаческие истории.
– И это тоже!
– Но моя жизнь складывается не из этого, – пожал я плечами. – Моя жизнь – это стелящийся и стелящийся бесконечный узор дорог и тропинок. Не зря палачей порой называют пауками, ведь переплетенья дорог – наши паутины, а мы, услышав дрожанье нити, спешим на этот зов, чтобы оборвать жизнь попавшейся мошки и получить за это свои кровавые деньги.
– Ух! Вот это уже звучит лучше! Куда лучше! Прямо просится на страницы моей книги.
– К чему подыскивать звучные слова, сильга? Пиши, как есть. Без прикрас.
– Так ты так и говоришь, – удивительно звонко рассмеялась сильга и тут же смущенно кашлянула, отворачиваясь и нарочито внимательно глядя на тянущиеся по обочине дороги красные турмосы – удивительно неприхотливые цветы, что первыми просыпались весной и последними засыпали осенью.
Кашлянув еще пару раз, сильга убрала выбившуюся прядь волос обратно за ухо, потеребила одну из свисающих вдоль щек красных нитей и все же не сдержалась:
– Ну все же, почему ты стал палачом, Рург? Может, ты с юности хотел вызывать страх и уважение у простых смертных?
Настала моя очередь фыркать и смеяться, но, в отличие от сильги, я этого не скрывал и рдеющими турмосами любоваться не стал. Сумев справиться с приступом смеха, я утер глаза и покачал головой:
– Глупости… меньше всего я желаю чьего-то там страха и уважения. Хотя… отчасти это ложь. Иногда я испытываю злость и намеренно причиняю особую боль тем из перепуганных приговоренных, кто совершил особо мерзкое деяние.
– И никакие деньги его родичей, что всегда видят в звере любимое чадо, тебя не остановят, палач? Не смягчат твою руку?
– Не остановят. Не смягчат, – ответил я, легко выдержав испытующей взгляд девчонки. – Ты умна, сильга.
– Ого… какие неожиданно приятные слова…
Я опять качнул головой:
– Это не в радость тебе, сильга Анутта. Порой ум и пытливость только во вред. Куда проще жить… проще…
– Проще жить проще? Ха!
– Отвык от долгих разговоров, – усмехнулся я и, глянув на начавшее пасмурно темнеть небо, поправил плащ и ткнул пятками сапог в лошадиные бока. – Поторопимся. Есть тут неподалеку вместительный придорожный амбар с навесами…
– Ты мастерски ускользаешь от ответов, палач.
– А ты мастерски задаешь их снова и снова.
– Хлеб для сильги – дорога, соль для сильги – беседы.
Я промолчал, привычно скользя взором по зажавшим дорогу оберегаемым хвойным лесам. Места здесь мирные, но осторожность никогда не бывает лишней. Даже для палача с красными метками на одежде. И уж точно не для тощей как бродячая кошка сильги.
Амбар был построен на совесть. Бревенчатая крепкая постройка с островерхой дерновой крышей, что по здешнему обычаю установлена на высокие дубовые чурбаны, была окружена широкими навесами, под которыми легко могли укрыться лошади и повозки. Ну и путники, конечно, коих застала на дороге непогода или ночь. Я был давно знаком с приглядывающим за амбаром крепким дедком, что и в зимнюю стужу, и в летний зной не снимал старенького овечьего полушубка и облезлой шапки. Он, как и оберегаемый им амбар, что стоял на границе обширных полей, был родом из селения Торбачи. Раз в год, после жатвы и обмолота в примыкающей сзади риге, когда амбар был полон, сюда ненадолго съезжались местные скупщики, что после быстрых торгов со старостой селения заключали сделки, грузились и убывали. А старик оставался. Как и его две собаки. Крупный полудикий пес Злой и мелкая пятнистая собачонка Шалая, что вечно путалась под ногами.
Как раз Шалая и отлетела с визгом в сторону от небрежного пинка по-городскому одетого парня в модной нынче широкополой шляпе с полосатым пером, что никак не годилась для защиты от дождя из-за частых дыр в полях.
– Не тронь собачку! – заспешивший на шум старик Бутрос торопливо замахал руками, призывая скулящую собаку.
– Да сама под ноги лезет! – рыкнул в ответ горожанин. – Тварь шелудивая!
Подведя лошадь ближе, я спешился, приземлившись правым сапогом аккурат на его опрометчиво отставленную туфлю с загнутым носком.
– Ай! – совсем по-бабьи взвизгнул парень и, выдернув отдавленную ногу, запрыгал на другой.
– Не лезь под ноги, – буркнул я, берясь за поводья и шагая к навесу.
Не выдержав моего взгляда, горожанин опустил побагровевшее лицо и… вздрогнул, только сейчас разглядев красную метку на моем плаще. Ну да… испугался крупного мужика, а затем вдвойне испугался, опознав во мне палача. Но с чего бояться, если не совершил ничего дурного?
– Как здоровье, Бутрос? – спросил я у заулыбавшегося мне старика.
– Да пока кряхчу помаленьку! И собачки живы, хотя Шалая совсем уж дурная стала на старости лет…
– Ну и славно, – улыбнулся я в ответ. – Приютишь? Дождь вот-вот…
– Ливанет как следует, – закивал старик, указывая на боковой навес, чья крыша сплошь поросла турмосами. – Располагайся, Рург. Ох ты… – только сейчас он разглядел спешившуюся рядом со мной девушку и понял, кто она, судя по округлившимся от изумления глазам. – Не иначе как дорожная блудница? Ой… – закашлявшись, захлопав себя по тощим ляжкам, он согнулся и поспешил прочь, явно изнемогая от невероятной силы смущения.
– Правы те люди, кто говорит, что старики с годами как дети становятся, – вздохнула сильга, поправляя ножны меча. – Что на уме – то на языке.
– Поспешим, – сказал я, коротко глянув на совсем уж потемневшее небо. – Не хочется промокнуть. А Бутрос… он старик душевный, простой и с судьбой надломленной. Его жену и детей убил обезумевший бродячий торговец, что напросился к ним на постой. Сам Бутрос получил три удара топором в спину и один в голову. Упал замертво… и только поэтому и выжил. Выхаживали его всем селением, а как поправился – в старом доме жить больше не захотел и ушел жить сюда, в придорожный амбар.
– Святая Лосса… – зеленые глаза остановившейся сильги скользнули по суетливо бегающему вокруг прибывшей тяжелой повозки старику. – Я знаю немало подобных историй, и все же каждый раз царапает по сердцу. Бедный старик…
– Годы прошли, – пожал я плечами. – Душевные раны немного затянулись. Но знаю, что в родные Торбачи он наведывается лишь четыре раза в год – на дни рождения погибших родных, чтобы посидеть у их могил. И на праздник общего поминовения, когда под осенней красной опадающей листвой засыпающих кленов выставляют столы и в больших котлах готовят особую густую мясную похлебку. Я пробовал. Очень вкусно…
– Мне надо с ним поговорить.
– Зачем бередить почти зажившее? – поморщился я, разом пожалев о своей болтливости.
– Я не сказала что хочу, – на этот раз зеленые кошачьи глаза смотрели с укором. – Я сказала «надо». Ты ведь понимаешь разницу, палач Рург?
– Тебя интересует тот бродячий торговец?
– Да. Знаешь что-нибудь?
– После совершения столь страшного деяния он ненадолго пришел в себя и, обливаясь слезами, окровавленный, побежал к дому старосты. Добудился, признался в содеянном, сдался им на руки, позволил себя связать и – перепуганный, трясущийся – выл весь остаток ночи напролет. Серым рассветным утром его поспешно погрузили на повозку и отправили в город – дабы деревенские не осквернили себя самосудом и смертным грехом. Еще через день торговец покаялся в убийстве, отбыл неделю в городской тюрьме и был подвергнут калечащим пыткам, после чего обезглавлен. Тело похоронено в неуказанном месте. Но я догадываюсь, где искалеченный убийца нашел свой последний покой. Все имущество убийцы было продано, деньги пошли в пользу Бутроса, но ему они без надобности – он довольствуется крайне малым.
– Мне надо с ним поговорить, – повторила Анутта. – Но я не хочу бередить его душу, не хочу пугать… Помоги мне, Рург. Попроси его просто рассказать, как все было.
– Как убивали его родных? Еще раз провернуть нож в сердечной ране?
– Нет же! До этого! Я хочу знать обо всем, что случилось до того, как бродячий торговец вдруг обезумел и взялся за топор.
Ненадолго задумавшись, я неспешно снимал с лошади седло, в то время как другая, вьючная, нетерпеливо тыкалась мне в затылок мордой, требуя поторопиться. У старого Бутроса всегда находилось для них что-нибудь вкусное, и лошади это помнили.
– Хорошо, – наконец кивнул я. – Я попрошу. Но не сейчас. Пусть начнется и закончится дождь. Пусть уедут все, кто собрался переждать ненастье. Потом я помогу Бутросу навести порядок, угощу его остатками вина из своих запасов и попрошу рассказать ту давнюю историю. Но…