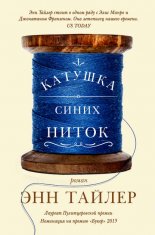Беседы палача и сильги Михайлов Дем

– Но?
– Но я сделаю это все только в том случае, если ты скажешь мне, что все это не забавы ради. Что все это не ради того, чтобы потешить свои чувства мрачной былью, и не ради того, чтобы записать очередную историю в твой дорожный дневник.
– Палач Рург… – ладонями проведя себя по волосам, сильга тряхнула ими, будто сбрасывая брызги еще не начавшегося дождя, и медленно произнесла: – Я бы никогда не стала бередить плохо зажившую душу этого старика ради забавы. Поверь мне.
Выдержав паузу, я кивнул:
– Хорошо. А теперь поторопимся. Не хочется намокнуть уже в самом начале путешествия.
Отвернувшись друг от друга, мы занялись ремнями и пряжками, а поднявшийся ветер прижимал к земле траву, срывал красные лепестки турмосов и гнал их прочь по пыльной дороге. Вместе с ветром пришел запах приближающегося ливня, и мы заспешили сильнее, но все же не успели и втащили седельную поклажу и сами седла уже под теплым дождем, оставив на время радостно фыркающих лошадей трясти пыльными гривами и стремительно намокать. Дождь надолго – я знал это благодаря большому опыту путешествий и потому, оказавшись в сухости, торопиться перестал совершенно, начав основательно располагаться под боковым навесом, где имелась невеликая глиняная печурка и запас хвороста. Разложив свое одеяло, вытащил из седельной сумки тяжелый чугунный чайничек с едва различимым затейливым узором. По привычке бережно проведя ладонью по выпуклому узору, тяжело вздохнул, вспоминая заплаканные глаза его прежней владелицы, чей сын по глупости, безотцовщине и пьянству сполна заслужил всю ниспосланную ему кару. Жизнь его пощадить я не мог, но умер паренек безболезненно. Чайник мне подарили уже позднее – заплаканная мать передала через подружку в качестве благодарности за мое понимание. Тем же вечером безутешная мать совершила страшный грех, наложив на себя руки. Ее нашли повешенной, и чайник я так и не сумел вернуть. Оставил себе, чтобы во время бескровных ночлегов заваривать в нем чай и не забывать…
Растопив печь, убедившись, что вещи в сухости, я накинул на голову капюшон плаща и вышел под дождь. Нилла далась легко, а вот озорную Нарлу пришлось поуговаривать, прежде чем она согласилась наконец войти под навес. Хорошенько растерев лошадей пучками сена, привязал к мордам торбы, сыпанул туда овса и поспешил к закипевшему чайничку. Люблю я эту мирную рутину, что приносит успокоение разуму… Вот я уже и почти забыл того трактирного убийцу с перепуганным темным взглядом запавших глаз.
Обиходившая свою лошадь сильга опустилась на соломенный сноп напротив, накинула на колени одеяло, с наслаждением зарыла босые омытые из деревянного ковшика ступни в сухое сено и затихла, с намеком глядя на чайник и помахивая у колена небольшим тканевым мешочком.
– Что там?
– Сухой шиповник. Дикий. Лесной.
– Пара ягод будет в самый раз, – одобрительно улыбнулся я, протягивая руку. – Позволь угостить тебя чаем, сильга Анутта.
– Приму с благодарностью, – девушка церемонно склонила голову. – Может, все же расскажешь, почему ты решил стать палачом? Погляди – даже погода дала нам передышку в пути.
– Нет у меня особых причин. Разве что…
Разливая дымящийся чай по медным чашкам, каждая из которых имела свою собственную историю и была найдена мной в разных местах, хотя обе они вышли из рук одного мастера медника, я задумался было, но…
– Разве «что»?
Тихое, но настойчивое напоминание сильги заставило меня оторваться от не слишком приятных воспоминаний о далеком прошлом и окунуться в куда более темные и еще более отдаленные от сегодняшнего дня омуты памяти:
– Несправедливость… глумление… жестокая смерть солдат…
– Я… я не понимаю… – с лица девушки исчезла улыбка, а во взгляде возникла тревожность. – Но я чувствую твою боль… всплеск душевной боли… Послушай, Рург… хоть про сильг и говорят, что мы питаемся праздным любопытством, если это слишком личное для тебя…
– Нет, – я успокаивающе улыбнулся и сам уселся поудобней, прижавшись спиной к старым потемнелым чурбакам, что бережно хранились под навесом. – Нет… Это было давно. Не знаю, приходилось ли тебе ее слышать, но есть одна старая горская поговорка… – помедлив, я убедился, что помню ее правильно, и неспешно проговорил вслух: – В землях без смерти на плахе все больше и больше голодных сирот.
– В землях без смерти на плахе все больше и больше сирот, – медленно повторила сильга, и на ее прикрытых одеялом коленях словно сама собой возникла раскрытая книга в кожаном переплете. – Не слышала… и мне не нравится это присловье… веет от него каким-то холодом…
– Страшное присловье, – согласился я и, сделав небольшой глоток обжигающего чая, глядя на перекусывающих овсом лошадей, начал вспоминать: – Впервые я столкнулся с людской гибелью на поле брани. Я был солдатом. Новобранцем. В солдаты я не рвался, но выбора мне не оставили… и пришлось надевать бело-синие цвета. Семнадцатилетняя война Рубинового Венца и Сапфировой Короны…
– Она унесла так много жизней…
Я горько усмехнулся:
– О да… все мои друзья детства очутились в числе погибших. Мы вместе оказались в армии, где нас наспех обучили кое-как владеть тяжелыми боевыми копьями и… бросили в самое пекло Рандуноцвета.
– Поле Рандуноцвета… Святая Лосса… там погибли тысячи…
– Да, – кивнул я. – Тысячи с обеих сторон. Битва началась затемно и закончилась с закатом. Рубиновый Венец умылся кровью и позорно отступил. Сапфировая Корона победила.
– Ты оказался в числе победителей.
– Нет. Я пал от вражеских стрел в самом начале сражения. Даже не успел направить свое дрожащее копье на несущуюся на нас кавалерию. Меня завалило другими телами, и все почернело перед глазами. Очнулся я уже ночью. Очнулся от боли в груди и от тяжести давящих на меня тел. Тогда я еще не знал, что трупы упавших на меня друзей спасли мне жизнь. Стоило мне с трудом приоткрыть один глаз – другой был залит засохшей кровью – и сквозь пальцы чьей-то свисающей у меня перед лицом мертвой руки я увидел их…
– Их? – сильга перешла на шепот, ее рука с пером замерла над страницей походного дневника.
– Приговоренных, – чтобы скрыть обуявшие меня чувства, я наклонился над чайником и потратил некоторое время на то, чтобы подбросить хвороста в угасающий огонь и добавить воды в опустевший чайник. – Понимаешь, сильга Анутта… палачи – великая редкость.
– Вас очень мало.
– А когда палач умирает или по старости или болезни уже не в силах продолжать свое дело… ему не сразу находится замена. Порой на это уходят долгие месяцы. А люди продолжают вершить страшные дела. Их ловят, приговаривают к пыткам и казни, заключают в тюрьму и… кормят их месяц, два, три… иногда полгода… Но это в городах. А вот в затерянных среди долин и лесов селениях никто не станет долго кормить дармоеда. Но и убивать его не будут – ибо грех. Никто не хочет угодить в огненную тьму Раффадулла. Поэтому, обычно в конце осени, когда сытые деньки подходят к концу и пора надеяться только на загодя сделанные припасы, этих приговоренных попросту изгоняют за околицу.
– Погоди… я слышала о таком. Их еще называют живыми мертвецами. Но они редкость.
– Обычно – редкость. Но в те темные дни разом исчезло сразу три палача. Какая-то странная история с пожаром, что разом унес три палаческие жизни. Одному-то палачу замену трудно сыскать. А когда исчезают сразу трое… – покачав головой, я продолжил уже куда спокойней. – Когда я открыл глаз и взглянул на погруженное в темноту заваленное мертвыми телами поле брани, я увидел цепочку плывущих в ночи факелов, а под ними их – Приговоренных. Они обыскивали тела, забирая все ценное. Как оказалось, им просто повезло… Проигравшие отступили, позорно бросив своих умирающих и еще не успев заключить договор о перемирии, дабы спасти раненых и похоронить павших. Победители же были заняты тем же – переговорами. И пока две отошедшие от поля Рандуноцвета армии зализывали раны и переговаривались, Приговоренные решили урвать свое.
– Мародеры.
– И убийцы, – добавил я. – Придавленный телами, я лежал и глядел, как они убивали еще живых солдат. Но убивали не быстро… нет… они жгли их раны факелами, вытягивали и поджаривали на глазах несчастных их собственные внутренности…
– Ох…
– Да, – мрачно кивнул я. – А что им терять? Они приговорены к смерти. И приговора им не избежать – ибо выгнать их выгнали из родных селений, но по одному старинному и строго соблюдаемому закону пометили знаками Четырех Ран.
– Правый глаз, нос, правое ухо и правая ладонь.
– С такими метками куда подашься? Не примут ни в одно из селений. Убить не убьют, но попробуй приблизиться к домам – изобьют страшно, отобьют все внутренности. Поэтому приговоренные калеки сбиваются в шайки, что затем становятся жестокими разбойничьими бандами. И пока не выйдет приказ о их поиске, пленении или изничтожении солдатами… они остаются безнаказанными. И в тот и без того черный день банда Приговоренных явилась на стонущее поле боя, чтобы поживиться и… позабавиться. Мне повезло и не повезло – меня они не заметили, но зато заметили других израненных бедолаг так близко от меня, что я увидел, услышал и унюхал все самое страшное, – помолчав, я отставил опустевшую кружку и улыбнулся. – Лежа под мертвыми телами я поклялся, что если выживу, то стану палачом. Так и случилось. Меня отыскали с рассветом, когда Приговоренные уже скрылись в сырой чаще. Мои раны залечили, война закончилась в том последнем побоище, как и моя армейская служба. Я мог вернуться домой и жить обычной жизнью. Но своего решения я не изменил. Все было решено еще тогда. Мой палаческий путь начался посреди ночи на поле брани Рандуноцвета и продолжается по сию пору.
– Те жестокие твари…
– Я нашел каждого. Не все пали от моей руки, но все они давно мертвы.
– Ты пытал их?
– Да. Они умерли от пыток, – спокойно произнес я и взглянул на свои ладони. – Они умерли страшной смертью. Мужчины, женщины и даже старики. Осуждаешь?
– Осуждаю…
– Почему?
– Разве не может быть такого, что среди тех Приговоренных были сошедшие с ума? Душевная болезнь меняет людей, делает их жестокими, страшными…
– Может и так… может, сегодня я бы решил иначе. Но тогда я был молод, я потерял всех своих друзей в бессмысленной войне… и я был очень зол.
– Скорее твой страх смерти выродился в злобу… а ты не мог не бояться – если бы тебя нашли…
– Я был совсем мальчишкой, – улыбнулся я. – Конечно, я боялся. Я был полумертв от сковавшего меня страха.
– И ты вот так стал палачом? А как же умения?
– В этом мне помог ныне покойный престарелый палач, пребывающий на заслуженном покое. Я нашел его на лесной пасеке, – я прикрыл глаза, вспоминая тот пронизывающий испытывающий взор и сердитый голос. – Он жил отшельником и сразу прогнал меня прочь. Я умолил его выслушать мою историю. Просто выслушать, и – если он повторит свой приказ уйти – я уйду.
– Но он не повторил?
– Нет. Он сказал мне бросить пожитки в дальнем сарае и заняться починкой его прохудившейся крыши, – улыбнулся я. – Еще чаю, сильга Анутта?
Девушка отвечает не сразу, и приходится повторить, после чего она наконец поднимает на меня застывшие глаза и, медленно выплывая из собственных дум, кивает:
– Благодарю, палач Рург. Знаешь… сегодня я узнала тебя немного лучше…
– Чтобы человека на самом деле узнать, одних лишь вопросов не хватит, – глуховато ответил я. – Но, думаю, ты и сама это знаешь не хуже меня, странница.
– Глубина души людской безмерна и темна, – соглашается сильга. – Всего не разглядеть и за годы. Разве что нырнуть поглубже… но это как омут бурливой быстрой реки – может захлестнуть водой и утянуть на дно. И кто ведает, что за страшная рыба обитает в тех мутных водах…
Удивленно моргнув, я, с плеском наливая в чайник воду из треснутого глиняного кувшина, уточнил:
– Это ты о душе так?
– О ней, палач, – подтвердила сильга и зябко поежилась. – О ней.
Набравший силу дождь за мгновение превратился в грохочущий ливень с молниями, чьи зарницы высвечивали на миг утонувшие в сыром сумраке дальние рощицы у окраин полей. Травы и цветы пугливо прижались к земле, перепуганный стихией заяц, покинув убежище, стремглав мчался через поле, преследуемый собственным страхом и нашими взглядами.
– Омут реки бурливой, – повторил я и, хмыкнув, полез за заваркой. – Так вот и узнаешь каждый день что-нибудь новое…
Глава четвертая
Со старым Бутросом, что жил почти отшельником, сильга говорила не слишком долго. Но обычным этот разговор было не назвать. Уже на втором ответе старик заплакал, стащил с головы старую шапку, скомкал и, утирая ею слезы, быстро и сбивчиво заговорил, не сводя затуманенного влагой и воспоминаниями взгляда с мерцающего на ладони сильги крупного сероватого кристалла. А тот, будто тоже слушая, то и дело начинал мерцать ярче, словно в костер подбросили охапку сухих веток, что горят быстро, жарко и недолго. Молодая девчонка со ставшим удивительно старым лицом задавала вопросы и внимательно выслушивала ответы. А закончив, подалась вперед и вдруг крепко обняла старого Бутроса, сдавила ему плечи, что-то зашептала на ухо. И старик заплакал в голос, навзрыд, всхлипывая, он обхватил сильгу за плечи и заревел как умирающее больное животное, исходя дрожью, выкрикивая имена давно умерших членов семьи.
Ливень давно закончился, все разъехались, и под навесом кроме нас не осталось никого. Судя по сильге, ей было привычно подобное проявление чувств от уже седых стариков. Да и для меня тут не было ничего нового – сколько уже раз приходилось мне смотреть в почерневшие от горя глаза седых бабушек, что били меня сучковатыми клюками по плечам и выли в голос, стараясь не подпустить палача-убийцу к порогу, за которым ждут своей участи их приговоренные к смертной казни внуки. Но я никогда не оставался равнодушным, и еще многие дни после казни мне виделись перед сном взгляды на моих глазах умирающих от горя людей. Сейчас же я испытал… облегчение. Большое и сильное облегчение. И я почему-то был готов поспорить, что старый Бутрос испытал то же самое чувство – но в разы сильнее.
В дни странствий по лесным тропам мне довелось видеть, как от сильного порыва осеннего ветра только что багровевшие деревья вдруг разом теряют всю листву. Вот и Бутрос, как изогнутое ветрами и вечной погоней за солнечным светом старое усталое дерево, наконец-то сбросил такую тяжелую умершую листву со своих стонущих ветвей…
Я уже седлал лошадь, когда бесшумно подошедшая сильга остановилась рядом и, вытянув руку, поймала в ладонь несколько искрящихся в лучах заходящего солнца сорвавшихся с навеса капель.
– Теперь ему станет легче, – заметила она, с преувеличенным вниманием разглядывая три медленно стекающиеся воедино капли. – Может, он даже вернется в родное селение. Поздновато для начала новой жизни с новой семьей, но добрая поддержка старых друзей пойдет ему на пользу.
– Лучше сидеть на солнечной завалинке с кем-то, чем одному, – согласился я, выводя лошадь из-под навеса и оглядывая мрачноватый старый амбар с примыкающей к нему ригой. – Ты сделала доброе дело.
– Так ты понял?
– Что вместе со слезами он потерял и немного старого горя? – улыбнулся я. – Не видел, но… почувствовал. Ты словно вскрыла старый нарыв с заскорузлой коркой и выпустила больную кровь.
Сильга с облегчением улыбнулась в ответ:
– Рада, что ты понял правильно. Мы, сильги, часто заставляем людей плакать, и многие думают, что мы злые насмешницы, что любят забавы ради ворошить давно остывшую золу на пепелищах горя…
– Я не из таких.
– Тот бродячий торговец, что убил несчастную семью Бутроса – где он?
– Как я и говорил – казнен.
– Казнен, – с кивком повторила девушка и, поймав несколько красных нитей в руку, начала задумчиво наматывать их на палец. – Это я помню. Но где он?
– Он? Останки?
– Да. Тело казненного. Ты говорил, что догадываешься, где могло упокоиться его тело. Подскажешь?
Кивнув, я развернулся и взглянул на неподвижно сидящего на старом бревне Бутроса, пододвинувшего ноги к остывающей глиняной печурке. Подставив морщинистое лицо затухающему свету, старик едва заметно улыбался.
– Подскажу, – ответил я наконец и одним мягким движением поднял себя в седло. – Если пойму, что это действительно необходимо.
Усевшись следом за мной в седло, сильга первой ткнула лошадь в бок и двинулась к покрытой лужами дороге, неспешно поправляя длинную накидку, что скрыла ее ноги до голеней. Я последовал ее примеру и расправил плащ. Будет жарковато, зато уберегу одежду от пятен грязи, что летит ошметками из-под колес встречных повозок.
– Мне надо осмотреть тело казненного бродячего торговца, палач Рург.
– Это я и так понял. Но для чего?
– Возможно, убивал не сам торговец.
– А кто же? Он сам признался. А старый Бутрос – выживший свидетель.
– Нет-нет, я не говорю, что другие руки держали топор. Но душа торговца… его разум… возможно, они были порабощены.
От ставшего более низким и хрипловатым голоса сильги меня не пробрала дрожь, но вот ленивая сонная дрема ушла мгновенно. Подобравшись в седле, подавшись вперед и заставив коня двигаться чуть быстрее, с плеском окуная копыта в мутные лужи, я спросил:
– Порабощены кем?
– Кхтуном, – доверительно сообщила мне девушка.
Я пытался сдержаться. Но не получилось и, скрючившись, зажав рот ладонью, я испустил приглушенный хрюкающий смешок.
– Ты нашел в моих словах что-то смешное, палач Рург? – голос сильги резко похолодел, сама же она негодующе выпрямилась, уставилась на меня сердитыми глазами. – Что так развеселило тебя в моих словах, Нагой Убийца?
Как назло, навстречу нам трясся в седле почтовый курьер в длинном кожаном плаще, что услышал окончание последней фразы и изумленно вытаращился на меня, уже открывая рот для насмешки или вопроса. Но тут с его сонных глаз спала пелена, он увидел красные отметины на моем плаще, зацепился взглядом за красную рукоять топора и… со щелчком зубов захлопнув рот, поспешно пришпорил лошадь и разминулся с нами в гробовом молчании.
– Прошу, не называй меня так, – мягко улыбнулся я.
– Прошу, не смейся надо мной! – парировала сильга Анутта.
– Я смеялся не над тобой, – возразил я. – Но… кхтун?
– Кхтун!
– Они существуют на самом деле?
– Еще как существуют! И поверь – в них нет ничего смешного!
– М-да, – осторожно произнес я, стараясь не рассердить вспыхнувшую девушку еще сильнее. – Вот так детские сказки становятся былью.
– Скорее детские страшилки… – уже не столь зло пробурчала девушка. – Прошу прощения за мое негодования, палач Рург. Ты имеешь право смеяться.
– Кхтун… – повторил я. – Впервые я услышал о нем в самом юном возрасте. В самом пугливом возрасте… Меня стращал ими отец, говоря, что после заката не стоит выходить за дверь, если я не хочу стать добычей кхтуна.
– И он был прав! А еще нельзя долго любоваться отблеском закатного света в оконном стекле. Ну и уж точно нельзя вглядываться в свое отражение во льду. Кхтуны слабы. Взрослого им не одолеть. А вот детские открытые души – лакомый для них кусочек. Не сосчитать, сколько несчастных детей сошли с ума только потому, что излишне долго вглядывались в темный лед, который сковал за ночь бочку с дождевой водой. Любопытство и жажда познания окружающего мира порой опасны… Еще кхтуна можно случайно пронести через порог внутри гнилого полена или снежка…
– Глядя на твою серьезность… я понимаю, что ты говоришь это не забавы ради. Но… сильга Анутта, я прожил немало зим и ни разу не слышал, чтобы кто-то был порабощен… кхтуном.
– Я слышу нотки веселья в твоем голосе! – девушка снова начинала злиться.
– Все так – я с трудом сдерживаю глупый смех, – признался я. – Но представь себя на моем месте! Кхтун? Порабощенные души? Почему об этом никто никогда не слышал?
– Еще как слышали! Просто с тех страшных времен, когда кхтуны покоряли своей злой волей целые людские селения, миновали тысячи лет! Мы научились бороться. Ты ведь знаешь о приходящих раз в год служительницах Лоссы?
– Ритуал Чистосвета.
– Он самый.
– Кто не знает о нем? Сестры Лоссы с песнопениями проходят по селениям, неся над собой огромные глэвсы. Это красиво, – я прикрыл глаза, погружаясь в детские воспоминания. – Очень красиво и загадочно. Мы с друзьями делали все, чтобы только поймать лицом или хотя бы кончиком пальца цветной солнечный зайчик глэвса…
– А был ли кто-то из твоих друзей, кто избегал принимать участие в празднике Чистосвета? – прищурилась сильга, повернувшись в седле. – Кто-то не хотевший бегать за цветными солнечными зайчиками…
– Все мы носились как оглашенные, стремясь поспеть за медленно плывущими по улицам глэвсами, что поднимались на шестах над головами торжественной процессии, – рассмеялся я. – Мы так старались опередить соседских детишек… сколько раз мы разбивали себе носы и колени о стены или лошадиные стремена, когда, задрав головы, мчались по улицам… Мы с друзьями изнемогали от желания быть первыми, кто дотянется до… – осекшись, я уставился перед собой в пустоту, потянул за поводья, останавливая Нарлу. – Киврил.
– Киврил? Южное долинное имя.
– Он и был родом с южных долин, – кивнул я. – Он был младше меня на полгода. И мы были очень похожи – так похожи, что нас часто путали. Мы не знали устали в наших проказах. Но в день Чистосвета Киврил всегда держался подальше от процессий, музыки и солнечных зайчиков. Чаще всего он вообще не выходил из своей комнаты, и прямо сейчас я вспомнил, что однажды видел его в один из таких дней. В погоне за большим зеленым солнечным пятнышком я забрался на высокое дерево, пришлепнул ладонью ползущий по коре отблеск, повернул голову и увидел его…
– Что он делал?
– Я увидел его через окно, – ответил я, проговаривая каждое слово очень медленно, заново осмысливая свои воспоминания. – Он, закутанный в содранную с постели простыню, был в своей комнате и вжимался лицом в угол задней стены. Подо мной треснула ветка, и он обернулся. Я увидел его лицо – очень испуганное искаженное лицо с раскрытым в ужасе ртом. Тут мальчишки снизу завопили, и я поспешил к ним.
– Кхтун! – сильга произнесла это слово с абсолютной убежденностью. – Никаких сомнений!
– Погоди… я ведь тогда не забыл увиденного. И в тот же вечер, когда сестры Лоссы покинули наш городок, отыскал Киврила и спросил, для чего он кутался в простыню и вжимался в угол. Киврил сказал, что они с отцом играли в «затаись-ка». И я поверил. Его отец был там же и все подтвердил. Они как раз вскрывали с соседями праздничный бочонок пива по случаю очищения городка…
– Еще один кхтун! Малое гнездо тварей! Они всегда покрывают друг друга. Вспомни – видел ли ты хоть раз отца Киврила в толпе рядом с процессией в честь Чистосвета.
– Нет, – уверенно произнес я. – Но я никогда и не искал лица взрослых. Для нас они были мрачными громадинами, пахнущими пивом и табаком.
– Где сейчас семья Киврила?
– На следующий год после того события они вдруг уехали, – отозвался я, опять погружаясь в воспоминания. – За неделю до Чистосвета.
– Что-то особенное должно было случиться в тот год?
– О да – к нам проездом пожаловала одна из святых стариц Лоссы, причем уроженка нашего городка. Все знали об этом загодя. Мэр с ног сбился, стремясь не ударить лицом в грязь. Столы ломились от еды! В сточных канавах было не отыскать и ложки помоев.
– Вот и ответ… любая из старших сестер, а уж тем более из святых стариц, сразу почуяла бы темный запашок кхтунов!
– Кхтуны? – повторил я.
– Кхтуны, – подтвердила сильга.
Я ненадолго замолчал, освежая в памяти все, что когда-то слышал о кхтунах. Зыбкие безголосые тени, что обитали на болотах, в темных сырых чащах и стоячих гниловатых водах. Дай им шанс – и они совьют гнездо у тебя в сердце. А затем станут тебе нашептывать всякое разное, одновременно оскверняя твою чистую душу и тем самым закрывая ей путь в светлое посмертье. Но это ведь всего лишь сказка…
– Зачем тебе тело казненного торговца, сильга Анутта?
– Кхтун всегда оставляет след, – ответила девушка. – Или еще хуже.
– Еще хуже?
– Кхтуны любят влажную гнилость, – тихо пояснила Анутта. – Очень любят. А еще они любят поспать.
Я сразу понял ее намек.
– Кхтун все еще может оставаться внутри искалеченного мертвого тела?
– Может. Если уже не нашел себе нового раба… Так ты знаешь, где мертвое тело?
– Его казнили в Буллерейле, – ответил я. – Мы будем там завтра к вечеру, если погода опять не испортится, а в дороге не встретится помех. К северу от этого городка находятся Скотные Ямы. Там со всех окрестностей захоранивают павший скот, домашних любимцев и тела особо мерзких преступников.
– Вместе со скотом?!
– Нет… – я качнул головой. – Насколько я слышал, там на склоне есть небольшая отдельная пещерка, которую отвели под общий могильный склеп для казненных. Безымянные ниши, заложенные кусками скрепленного известью природного камня.
– Безымянные?
– Нам надо будет поговорить с Нимродом, – вздохнул я. – Он подскажет, кто где лежит, если захочет с нами поговорить.
– А кто он?
– Еще один одиночка – мрачный и нелюдимый. Он приглядывает за Скотными Ямами Буллерейла.
– А почему он может не захотеть с нами поговорить?
– Потому как затаил на меня давнюю обиду, – испустив еще один вздох, я почесал лоб и опять уронил руку на луку седла. – Будем надеяться, что обида уже не столь глубока…
К вечеру нам повезло остановиться у достаточно радушного селянина, что позволил нам разместиться в пустующем сарае. Приземистое крепкое строение с выложенной зеленым дерном крышей удивительно сильно напоминало возведшего его хозяина – невысокого, плечистого, с крупными мозолистыми руками нестарого еще мужчину, чьи предки некогда пришли в эти края с плодородной, но каменистой земли, могущей похвастаться не только богатыми урожаями, но и страшными снежными бурями.
Сменились поколения, появились и разрослись деревенские кладбища, а работы не убавилось – здешняя землица каждую весну выталкивает на поверхность все новые и новые камни, а порой и немалых размеров глыбы, которые приходится окапывать, раскалывать и вывозить кусками. Одно хорошо – хватало материала для искусно сложенных каменных стен, что тянулись вдоль дорог, отгораживая пастбища и поля. Здешний люд ценит каждую пядь с таким трудом возделываемой земли и бдительно следит как за исправностью стен, так и затем, чтобы по их полям не шлялся абы кто. Стоило нам задержаться у жердяных ворот, и хозяин крепким основательным грибом вдруг вырос по другую их сторону. Молча выслушал, коротко кивнул, ткнул рукой в сарай и ушел, пробурчав почти невнятно о том, что лошадей можно без боязни пустить пастись – в нынешнем году это огороженное поле отдыхает незасеянным.
Вскоре немного испуганный паренек, что был чуть менее бородатой и крупной копией своего отца, принес нам большой кувшин с молоком и стопку завернутых в чистое полотенце сладковатых тонких ржаных лепешек. Он же показал, как пробраться к бегущему меж двух межевых стен ручью с небольшой запрудой, после чего ушел, то и дело оглядываясь. И должен признаться, я не был удивлен, видя, что пугливый любопытный взгляд паренька был направлен только на сильгу, которая как раз стащила куртку и выхлопывала ее об угол сарая. Юношу можно понять – судя по отчаянно полыхающим ушам и щекам, по стыдливо метнувшимся к штанам ладоням и ускорившейся походке, он впервые в жизни увидел девку в мужской и местами облегающей одежде. А тут еще девушка молода, красива и качает гибким станом из стороны в сторону, колотя пыльной курткой по торцам бревен… как тут не смутиться… Усмехнувшись, я занялся тем же самым – выколачиванием мелкой дорожной пыли. Я не торопился, по опыту зная, что еще долго буду возиться с лошадьми и пожитками, в то время как над разведенным костерком начнет тихонько булькать вечерняя каша, первая ложкой которой отправится в рот, когда над головой развернется волшебное звездное покрывало…
Скотные Ямы лежали в туманных низинах к востоку от Буллерейла. Отходя от восточного тракта, к Ямам вела одноколейная каменистая тропа, что вполне подходила для повозок с высокими крепкими колесами, чьи обода были окованы железом. Дощатые борта скрывали содержимое, но не могли скрыть запаха разложения, поэтому перевозящие павший скот и отходы повозки отправлялись из города только с приходом ночной темноты, оставляя за собой незримый длинный шлейф вони. Покидая Буллерейл, держась обочины, освещаемые шестами с масляными фонарями, они добирались до идущей вниз пологой тропы и тут же тонули во влажном густом тумане, что, казалось, был здесь всегда.
Я был в Ямах лишь однажды – около трех лет назад. Дело было ясным днем, но стоило мне углубиться в больное редколесье, где невольно чудилось, что из-за каждого дерева с черной отслаивающейся лохмами корой за тобой кто-то наблюдает, меня окутал густой холодный туман. Я хорошо запомнил то место и посему сделал все, чтобы ускорить свой обычно размеренный палаческий путь, а кое-где даже срезал его по узким лесным тропам. Благодаря этому мы оказались на каменистой тропе задолго до заката, но даже это не спасло нас от потянувшихся навстречу языков удивительно холодного лесного тумана, что пугливо стелился над высокой травой. А я надеялся, что в эти еще теплые сухие деньки тумана здесь не будет…
Поежившаяся сильга Анутта невольно придержала лошадь и, приподнявшись в седле, попыталась что-то разглядеть в серо-черном мареве. Белесый туман облизывал лошадиные копыта, словно пробуя их на вкус, и заодно пытался дотянуться до стремян. И дернувшаяся нога Анутты на миг поджалась, пугливо уходя от тянущихся к ней дымных языков. Девушка сердито зашипела, упрямо выпрямилась и, бросив на меня быстрый взгляд, отвернулась, преувеличенно внимательно разглядывая удивительно ровные ряды умерших деревьев.
– Деревья были посажены? – ее голос едва заметно дрогнул.
– Еще есть время передумать, – спокойно произнес я, проигнорировав ее вопрос. – Так мы избежим несущего болезнь тумана и вони разложения.
– Почему я вдруг должна передумать?
На этот раз ей удалось сохранить голос ровным, но я не обманулся.
– Это место мало кому придется по душе, – ответил я, милосердно отворачиваясь и опуская взгляд на выпирающие из земли толстые змеящиеся корни. – Здесь скользко, мрачно и туманно…
– Туман пугает меня, – призналась Анутта и, испустив долгий выдох, уже куда спокойней спросила: – А чего боишься ты, палач Рург? Ты ведь тоже не хочешь спускаться туда… в туман.
– Уж точно не тумана, – улыбнулся я. – И я не боюсь. Просто… не хочу встречаться с Нимродом Вороном. Совсем не хочу.
– Почему?
– У него большая обида на меня. Справедливая обида, – вздохнул я и, по лицу сильги поняв, что она все равно не отступит от своего решения, принялся затягивать потуже горловую пряжку плаща. – Я пытался искупить свою вину, но у меня не получилось. Последний раз я был здесь три года назад и ушел ни с чем, стряхивая с одежды куски брошенных в меня чьих-то гнилых кишок. Год назад я намеревался попробовать еще раз. Но… проехал мимо, так и не решившись последовать этой тропой. И, честно говоря, узнав, что ты хочешь спуститься сюда, в Скотные Ямы Нимрода, понял, что от судьбы не убежать…
– Ты веришь в судьбу?
– Иногда, – усмехнулся я. – Выбирай же, сильга Анутта. Мы спускаемся к Ямам? Или же возвращаемся к тракту?
– Выбирать? Порой ты слушаешь невнимательно, палач Рург. Ведь я уже говорила – сильги лишены такой роскоши, как право выбора. Если есть даже зыбкое подозрение, что тот торговец-убийца был одержим кхтуном… то мой путь лежит в Скотные Ямы.
– Но подозрений пока нет, – возразил я, втягивая носом воздух и убеждаясь, что даже спустя годы здешние ароматы остались прежними. Влажный воздух напитан запахом прелых трав, мокрой коры и едва заметной вонью гниющей плоти. – Ты знаешь эти историю с моих слов.
– Не думаю, что ты солгал хотя бы в слове.
– Я не лгал. Но, в свою очередь, я услышал эту историю от других. А те от третьих… Истина искажена. И поверь, я как палач могу тебя уверить – мне часто приходится обрывать жизни обычных мирных людей, что выпили лишнего и сотворили страшное… кто знает – быть может, торговца обуяла похоть, а может он решил, что его обокрали… Знаю я и того, кто убил товарища, решив, что тот специально привязал его лошадь под яблоней.
– Ох… она объелась паданцами?
– Подмела все подчистую вместе с гнилью, – кивнул я. – И умерла в мучениях. А владелец взялся за нож…
– Понимаю твои доводы, палач Рург. Но тебе не удалось скрыть свое любопытство. Признайся – ведь тебе интересно?
Помедлив, я кивнул и широко улыбнулся:
– Кхтуны? Одержимость? Я был бы лжецом, сказав, что меня не гложет любопытство. Мне любопытно настолько, что я готов выдержать еще одну встречу с Нимродом. Но…
– Еще одно «но», палач Рург?
– Нимрод ненавидит меня, – вздохнул я. – И ему действительно есть в чем меня обвинить. Если ты явишься одна и попросишь – он не откажет в помощи. Но если ты придешь в компании со мной, его обидчиком…
– Обидчиком?
– Давняя история, что случилась чуть больше трех лет назад. Боюсь, что Нимрод Стальной Клюв не станет помогать той, кто путешествует с палачом.
– Так он не любит тебя или всех палачей?
– Кто любит палачей?
– Это не ответ.
– Нимрод Клюв не любит всех палачей. А меня он ненавидит.
– Сколько прозвищ – и ни одно не могу назвать лестным. За что его так?
– Внешность, – коротко ответил я и с очередным вздохом добавил: – У него много обидных прозвищ. Люди любят клеймить даже невиновных ни в чем кроме своей горестной участи.
– Какие глубокие слова для убийцы… хм…
Чуть подумав, сильга решительно кивнула, убрала волосы под капюшон и ткнула лошадь пятками:
– Я все же рискну.
– Что ж, – усмехнулся я. – Я предупреждал…
Осторожно продвигаясь, мы углубились в мрачное редколесье и начали спускаться по узкой каменистой тропе, что то и дело сворачивала, обегая вздымающиеся из земли поросшие травой валуны, от которых вверх тянулись почти заросшие уже глубокие борозды. Видя, что сильга то и дело вздрагивает, когда к ее ногам словно живые тянутся плети тумана, я медленно и спокойно заговорил так, как палаческая жизнь научила меня разговаривать с теми из приговоренных, кто хотел достойно встретить свою участь и взойти на эшафот своими ногами и лично положить голову на плаху. Разум хочет… а перепуганное тело подчиняться не желает. Ноги подгибаются, с губ срывается позорный визг, пальцы сами собой цепляются за решетку или ноги пришедшего за твоей жизнью палача…
С такими, видя их старания, я не спешу. Бывает, усаживаюсь, без нужды неспешно осматриваю или точу топор, давая жертве привыкнуть к виду инструмента, что отсечет остаток отпущенных ему дней. Но главное – я разговариваю. Мерно роняю слова, спрашиваю о рецептах его родины, как скоро там приходит осень и охотно ли отступает зима. Хотя чаще всего я просто рассказываю какую-нибудь историю или вспоминаю о прошлом того или иного городка. Сейчас вот для сильгиного успокоения я вспоминал все мне известное о Скотных Ямах Буллерейла.
Сам же я узнал о Ямах несколько лет назад – после своего последнего неудачного визита. Более чем впечатленный увиденным, я вернулся в город и, пока работница постоялого двора Медный Шиповник за немалые деньги отстирывала от моего плаща воняющие пятна, за кружкой пива успел выслушать немало о Ямах. Вот ведь удивительно – люди обычно боятся разговаривать с палачом и держатся подальше от грешников, что осквернили себя грехом смертоубийства. Но стоило мне спросить о Ямах, как я оказался в тесном кольце подвыпивших местных, что нарассказывали такого…
Еще триста лет назад здесь был здоровый прекрасный лес, что был частью обширных владений тнектора Тарадия Фонр, что первым из своего рода стал губернатором Буллерейла. Лес был полон живности, тщательно оберегался егерями, что никогда не лютовали над простым людом, позволяя грамотно прореживать деревья, забирать хворост, корчевать пни и собирать грибы, ягоды и травы. Охотиться – уже нет. Только для дворян. Всегда успешные охоты проводились здесь регулярно, имелись и охотничьи домики, где по слухам представители рода Фонр предавались похоти с молоденькими селянками. В общем – все как всегда и есть чему позавидовать. Но это лишь прелюдия. И единственное, что я узнал из нее важного – в ту пору лес находился пусть на небольшой, но все же возвышенности.
И что с того?
А ничего. Вот только потом лес вдруг оказался долинным, а еще через столетие все уже говорили о лесе низинном и куда более влажном и… не слишком уж и здоровом. Тут появилась гниль. Многие травы исчезли, зато поперли грибы. Люди приспособились, охот стало меньше – крупная живность предпочла уйти в более сухие места. Лес же продолжал… опускаться. И наконец еще через век он окончательно захирел, большая часть деревьев погибла и была вырублена, а на их место род Фонр принялся высаживать тополя и вязы в надежде, что они осушат почву. Тогда же начали было копать сеть отводных канав, но вскоре забросили это дело – вода вверх по склону не потечет. Высаженные деревья не принялись, местность давно уже никто не называл лесом, охоты исчезли вмести с егерями, а редкие грибники порой возвращались перепуганными. Все дело в том, что земля начала обрушиваться целыми длинными пластами, вместе с деревьями и вылезающими из толщи валунами медленно сдвигаясь вниз. И куда все девалось? Там давно должна была образоваться гора, но до самой середки вся сползшая почва так и не дошла, исчезнув где-то на полпути. Зато туда доходила пока еще целая каменистая тропа – видать, потому и уцелела, что камней здесь больше чем земли – и упиралась в то, что назвали Скотными Ямами. Ими они и являлись – несколько наполовину заполненных жидкой грязью провалов в земле. Туда и скидывали павший скот, сливали помои. Неподалеку был участок посуше, и его использовали под чудное место – кладбище для домашних любимцев, но никто не знает, почему появилась у окрестного люда вдруг такая причуда. Сами они сюда обычно не тащились, передавая сверток с помершим любимцем золотарям, и те добросовестно выполняли поручение.
Землями по-прежнему владел род Фонр, он же и платил тому, кто обитал здесь постоянно и приглядывал как за порядком, так и затем, чтобы повозки приходили каждую ночь и не отправляли в провалы вместе с помоями убиенные человеческие тела или нежеланных младенцев – было уже такое дело не раз. Род Фонр платил присматривающему не доброхотства ради – ему в свою очередь платила казна за такое вот использование их родовых земель. Был лес – приносил деньги и немалые. Превратился в Ямы с грязью – опять же приносит какую-никакую монету.
Почему все так произошло? Тут мнения сходятся – под бывшим лесом жадное подземное болото. Оно-то и проглатывает потихоньку то, что осталось от низины. Скоро и этого не останется – все будет пожрано болотом, что жаждет вырваться из-под давящей его землицы. Так если дело пойдет, может, однажды и сам Буллерейл скатится по склону в болото…
Почему меня так заинтересовало это место? Да потому что никогда прежде не приходилось мне бывать в месте столь неприветливом и угрюмом. И не каждый день услышишь о том, как гора превращается в яму, а светлый верховой лес в темную сырую низину. Есть над чем подумать во время долгих одиноких путешествий. Есть на что отвлечься.
Вот и сильга, глубоко погрузившись в историю, перестала пугливо вздрагивать и жадно ловила каждое мое слово, в то время как ее рука то и дело касалась кожаной промасленной сумки, где, похоже, хранились главные ее сокровища, включая книгу для записей. Мне бы стоило продолжить свою почти убаюкивающую речь, но я замолк и мягко взялся за рукоять меча, что свисал с седла, выставляя напоказ красные ножны палача. Это движение не укрылось от взора девушки, и она мгновенно последовала моему примеру, взявшись за оружие, но пока не став доставать его из ножен.
– Что?
Короткий правильный вопрос выдавал в ней опытную путешественницу, что не раз встречалась с дорожными опасностями, будь то оголодалые звери или разбойники.
Я отозвался не сразу, медленно скользя взором по то появляющимся, то снова скрывающимся в зыбком тумане мокрым деревьям. На их почернелой подгнившей коре мне чудились искаженные в ухмылках рожи с глазами-дырами. Но это лишь обман зрения, и я легко отмахнулся от иллюзий, порождаемых собственным страхом. Да. Я испугался. Испугался разом, так же разом взопрев под курткой и плащом. По моей спине скатывались тяжелые капли пота, а я, убирая руку от меча, уже тихо успокаивающе улыбался:
– Почудилось.
– Почудилось что? – напряжение из голоса сильги не исчезло, равно как и колкие льдинки страха, что поселились на дне ее зеленых глаз, сверливших мне переносицу.