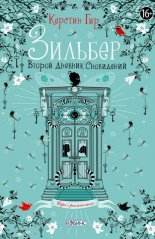Руны судьбы Скирюк Дмитрий

Первейшие упоминания девятилетней давности (ворота Дибиу, Тихутский перевал, предгорья возле Тырговиште, креп. Поэнари, креп. Эшере, позднее – север Трансильвании, Марген, Шесбург, Кронштадт, Германштадт и вся область Siebenburgen, впоследствии – сев. Фландрия). При обстоятельствах самых различных. По собственным рассказам – оставил жизнь в горах в угоду странствиям, по свидетельствам других – изгнан из рода по подозрению в колдовстве. По свидетельствам третьих – был подвергнут соплеменниками казни чрез убийство, но выжил. Сказывается знахарем. Образования не имеет (звание целителя de plagio[11]). На родине замечен был участием в антибоярских смутах. Неоднократно подозревался и неоднократно же был уличён в колдовстве и некротических действиях, в хождении по горячим угольям босым, в вызывании духов, в ликантропии (н/пр.), в составлении бесовских снадобий и эль-иксиров, а такоже в антицерковных высказываниях (подтверждено свидетельствами многосчётных очевидцев). Около семи лет тому назад совершил большое длительное плавание на Запад, в Англию и на Исландию (цель неизвестна). Некоторое время практиковал в Лиссбурге и Цурбаагене, потом исчез в неизвестном направлении (по одним непроверенным данным – удалился в отшельничество, по другим – до сих пор промышляет бродячим целителем). Имеет дома в нескольких городах, в коих домах не живёт.
Вооружён и весьма опасен. Излюбленное оружие – посох или горецкий топорик item valaschka. Владеет мастерски. Весьма возможно, что с некоторых пор имеет меч (свидетельства очевидцев). При задержании соблюдать максимальную осторожность, в ближний бой вступать возбраняется категорически.
Особые приметы: имеет длинный шрам на левой руке (плечо, предплечие и кисть), второй над левою ключицею и третий, малый, справа на виске. Большой рубец есть такоже и на спине (предп. от удара топором или валашкой). Если устаёт, то хромает на правую ногу. Играет на музыкальных инструментах посредством дутья. Не различает цвета (кр. и зел.). Не любит дыма табака. Общества бежит, предпочитает одиночество. Характер прескверный. Не женат».
Досье впечатляло, если не сказать больше – мало кто из еретиков мог похвастаться таким обширным «послужным списком». Томас отложил исписанный лист и стал всматриваться в рисунок. За этим занятием и застал его вернувшийся брат Себастьян.
– Я вижу, этот листок бумаги снова не даёт тебе покоя, – сказал с порога он.
– Д-да, но не совсем. Я восхищаюсь вашей п-проницательностью, брат Себастьян, – смущённо сказал тот. – Что навело вас на м-мысль нарисовать такой портрет?
Священник подошёл к камину, протянул ладони над огнём.
– О, это моя собственная идея, – с оттенком гордости ответил он. – Мне кажется, что этот метод со временем станет достойным подспорьем в поиске и разоблачении преступников и еретиков. Конечно, не всегда рядом может оказаться толковый рисовальщик, но вполне можно содержать такого при тюрьме и канцелярии. Сам посуди, сколь много удалось узнать нам благодаря всего лишь навсего бумажному листку. Что толку в описании преступника, если никто не умеет читать?
– Д-да, это верно. Однако это же не помогло нам разузнать, где он живёт.
– О да, не помогло, – признал брат Себастьян. – Зато, на нашу удачу, тот мальчик оставляет за собой довольно ясный след. – Он вновь поймал взгляд Томаса, направленный на травников портрет. Нахмурился.
– Что-нибудь не так?
– Н-не знаю, – Томас опустил глаза. – Мне всё время кажется, что мы что-то делаем не так. Ведь этот Фриц, он всего-навсего мальчишка. Он даже младше меня.
– Даже если так, что это меняет? Если в детстве он разыгрывает дьяволёнка, то чего тогда ждать от него в старости? Или ты считаешь, будто юный возраст может оправдать то зло, которое он совершает?
– Н-не знаю, – признал Томас. – Нет, наверное. П-парнишка явно одержим. Но вот этот травник… Зачем мы так упорно ищем и преследуем его? Не дьявол же он, в самом деле. Или действительно д-дьявол?
– Дьявол? – хмыкнул брат Себастьян. – Нет, конечно. Слишком много чести. Обыкновенный валашский разбойник. Да и навряд ли Люцифер являлся бы средь бела дня.
– Т-тогда в чём опасность т-таких знахарей, как он?
– Опасность в том, что люди, подобные ему, расшатывают сам фундамент церкви, уподобляясь дровосеку, рубящему сук, на котором он сидит. Не имея никакого основания на то, они присваивают самовольно право исцелять и совершать обряды, и разве что не отпускать грехи. Отсюда разложение и спесь, а с церковью уже никто не считается. Взгляни, что делается всюду и вокруг тебя. Мирская жизнь пронизана религией во всех своих проявлениях и сферах.
– Да, но разве это плохо?
– Не плохо и не хорошо. – Брат Себастьян остановился у окна, как незадолго до него стоял его ученик, и продолжил, созерцая дождь, бегущий по стеклу. – Деревенские знахари врачуют страждущих молитвой наравне с бесовским заговором, цирюльники рвут зубы и пускают кровь, призывая в помощь святую Аполлонию и святого Христофора. Ведь до чего дошло – святых используют не как заступников пред богом, а как звено при исцелении вообще! В лотерее в Бергене-на-Зооме вместе с ценными призами разыгрываются индульгенции. Святые таинства перестают быть таковыми, а порою принимают формы попросту бесстыдные. Вспомни, Томас, ты ведь сам неоднократно видел местные поделки «Hansje in den kelder», то бишь «Гансик в погребке», как их здесь называют – статуэтки Девы Марии, у которой можно распахнуть чрево и внутри увидеть изображение Троицы.
Брат Томас покраснел и сделал вид, что занят своим пером.
– Да, это в самом деле выглядит н-неблагочестиво, – признал он. – Столь фамильярное отношение к сакральному з-заслуживает всяческого порицания.
– Что? – брат Себастьян обернулся. – О, дело совсем не в том, как народ видит Пресвятую Деву. Пускай бы даже так. Подобные статуэтки есть даже в монастыре кармелиток в Париже. Но вот само изображение Троицы в виде плода чрева Марии представляет ересь. И так везде. Гийом Дюфай перелагает в мессы всякие мирские песенки, навроде «L'omme arme или «Tant je me deduis»… А эти богомерзкие мотеты, когда слова подобных песенок, таких как, скажем, «Baisez-moi, rougez nez», вплетают в тексты литургии!? Народ Божий всё больше наклоняется к торговле, к междоусобицам, в городах уже не только изъясняются, но даже и пишут на вульгарных наречиях. Уж не из этого ли проистекает вредное желание переложить Священное Писание с латыни на мирской язык? Вот главная причина ереси! Что будет с верой, если Библию начнут читать и толковать все, кому не лень – и угольщик, и трубочист, и свинопас?
– Свинопасы не умеют читать.
– Не важно. Так во всём. По праздникам на мессу ходят лишь немногие, и мало кто дослушивает её до конца. Коснутся пальцами святой воды, приложатся к иконе и уходят. Молодёжь редко посещает церковь, да и то лишь затем, чтобы пялить глаза на женщин. Церковь стала домом свиданий! Что останется от церковной мистерии, если искупление грехов сочетается с домашней работой: растопить печь, подоить корову, почистить горшки? Упадок, сын мой, мерзостный упадок:
- Бывало, в прежние года
- Во храм вступали неизменно,
- Со благочестием всегда
- Пред алтарём встав на колено.
- И обнажив главу смиренно;
- А ныне, что скотина, всяк
- Прёт к алтарю обыкновенно,
- Не снявши шапку иль колпак!
– Но разве в м-мирскую жизнь не д-должно входить истолкование земного посредством небесного?
– О да, естественно, но в этом нету ничего предосудительного, если человек для выражения своих чувств использует язык Священного Писания. Ведь вспомни, когда Фридрих и Максимилиан въезжали в Брюссель с маленьким государем Филиппом, горожане со слезами на глазах говорили друг другу: «Veez-ci figure de la Trinite, le Pere, le Fils et Sancte Esprit»![12]
Брат Томас промолчал. Расправил на столе рисунок.
– Я чувствую его, – сказал он наконец, глядя на изображение травника. – Он где-то здесь, недалеко, а иногда, когда я гляжу на этот портрет, мне кажется, будто он где-то рядом. Иногда мне почему-то кажется, что он… тоже ищет нас.
Брат Себастьян вздохнул и ободряюще положил ему руку на плечо.
– Будь крепок духом, Томас, черпай мужество в достойном подражания примере Инститора[13]. Мы движемся по верному пути, не смотри назад: за нами не солдаты, за нами – сила нашей правоты. Мы найдём их. В этом наша миссия от Бога, папы и от короля. Не бойся собственных сомнений, сомнения опасны лишь для того, кто бежит Всевышнего, у всех же остальных сомнения только укрепляют веру. Хотя тебе ли сомневаться в собственной стезе? Я сам свидетель, что в твоём присутствии неоднократно совершались чудеса, иконы источали миро, и распятия кровоточили настоящей кровью – это ли не знак, что на тебе лежит благоволение Всевышнего?
Брат Томас не ответил. Воцарилась тишина, лишь дождь стучал в окно да потрескивал огонь в камине.
Травник пристально смотрел на них свинцовым прищуром карандашного рисунка.
Свадьба.
Запоздалый поезд вывернул из-за поворота разукрашенными экипажами и теперь катился к Ялке, с гомоном, гульбой, со звоном бубенцов и песнями цыган. Возок, коляска с молодыми, две двуколки и фургон. Скрипки, дудки, барабан, цимбалы, истошные взвизги гармоники – музыка сливалась в нестройный, но весёленький мотивчик, поверх которого орали песню, разухабисто и пьяно. Ялка отступила в сторону.
В глазах у девушки была усталость. Две последние недели Ялка провела в дороге, изредка ночуя на постоялых дворах. Лишь раз её пустила на постой сердобольная крестьянка. Ночевать в лесу становилось всё тяжелей и неприятней: наступали холода, и если не находилось шалаша, то не спасали ни костёр, ни тёплая одежда. А три дня тому назад у девушки открылась кровь, и, как всегда, не вовремя. То ли от холода, то ли из-за тягот пути месячные очищения прошли особенно болезненно. Ялка поначалу стоически держалась, но потом дожди и холод всё-таки загнали девушку на постоялый двор, уйти с которого она в себе сил не нашла. Пришлось снять комнату и три дня отлёживаться и отстирывать бельё. На проживание и стол ушли все деньги, благо сердобольная хозяюшка не стала брать с неё за мыло и за воду. Всё это время Ялка не могла ни о чём думать, и даже вязание валилось у неё из рук. Но нет худа без добра: вынужденная передышка пошла ей на пользу – за две недели странствий девушка успела основательно запачкаться, одежда, пыльная и грязная, порвалась в нескольких местах. Ещё немного, и Ялка стала бы сама себе противна. Трактирщик, вопреки традиции, содержал при постоялом дворе маленькую баню, и Ялка, вставши на ноги, использовала всё свободное время на то, чтобы привести себя в порядок, затем расплатилась за постой и побрела дальше.
Везде, где она проходила: в деревнях, на постоялых дворах, в трактирах, у колодцев и на мельницах, – спрашивала она про рыжего травника.
Говорили разное. Одни плевались и крестились, кто-то пожимал плечами, кто-то отводил глаза, а кто-то вспоминал, что видел травника, когда тот лечил кого-то где-то. А в одном трактире, где селяне из окрестных деревень гуляли праздник, обронённые девчушкой робкие слова спровоцировали долгий спор с последующим мордобоем и, как водится, последующим же примирением.
– Ха! – заявил ей в кабаке подвыпивший крестьянин в драном кожухе, чадя огромной трубкой и всё время сплёвывая себе под ноги. – А, как же, девка, знаем, слыхивали! Лис, он, значится, и есть такой. Лукавый, значит.
Собутыльники вмешались, сперва спокойно, потом расходясь всё сильней, ругались, спорили до хрипоты, махали руками друг у друга перед носом и крутили кукиши, расплёскивая пиво. Ялка сидела между ними ни жива ни мертва, сжимаясь в комок и стараясь быть незаметнее.
А спор становился всё жарче. Лис? Ого-го, а как же, слыхали! Ходит рыжий, пользует людей, а как же! Кто не слышал-то? Случается, встречают его, и в лесах, и в городах. Он-то себя особо не кажет, человеком прикидывается, а как глянешь на него исподтишка, так у его и морда лисья, и повадки тоже лисьи, волос рыжий, как у лиса, и вообще он как лиса. Да только сразу и не распознаешь. Лукавый? Нечистый? Да бог его знает! Нас не касается, ин ладно. Ходит себе, кого-то лечит, кого-то калечит, в леченье душу вложит, в драке дух вышибет. Потому и зовут его ещё так: Жёглый, Рудый, Райник-лис… А зачем он тебе, девка, а, идёшь ты пляшешь? Всё одно найти не сможешь, сколько б ни искала, потому как, бают люди, он будущее чует наперёд и всякую опасность распознать сумеет, будь то, скажем, там, силок или капкан, и в землю видит в глубину на два аршина, и охотников за десять вёрст учует. Ага, такой уж он, такой, ага – в огне не тонет, в воде не горит! Хох, стало быть, подымем кружки за него!
«Ага, – встревал другой, – ещё чего придумал! За всякую нечисть пить? Вот я те щас как подыму!»
«А чё?»
«Да ничё!»
«Да я!..»
«Да ты?..»
«Да я тебе…»
«Ну что «ты мне», ну что? Ага?»
Пошла потеха…
Ялка слушала и замирала, сердцем чувствуя: и вроде, то, а всё-таки – не то. Деревенские байки всё коверкали, лукавили, переиначивали, как бог на душу положит, где-то прямо, кое-где – наоборот, а иногда и вовсе наизнанку.
Ногами кверху.
Похоже, что за травника принимали всех, кого ни попадя. Окончания спора Ялка не стала дожидаться и, когда стали биться первые кружки, тихонько выскользнула прочь.
Может, в спорах и рождается истина, но уж больно долго длятся роды.
В другой раз ей чуть было не повезло. В очередной деревне, в первом же дворе, где девушка сподобилась спросить, не видели ли травника такого и такого-то, мужчина, коловший дрова, лишь отмахнулся и ответил ей: «Вон там он», и указал топором.
Ялка не поверила своим ушам.
– Что значит «там»? – с замирающим сердцем переспросила она. – В той стороне, да?
– Да ты глухая, что ли? – недовольно повторил крестьянин, опуская топор. – Вон в энтом доме он, под вязами. Вчера припёрся, лис проклятый, до сих пор у них торчит. Эх, если бы не Генрих с братьями евонными… Эй, ты куда?
Но Ялка уже его не слушала: ноги сами понесли её к указанному дому, только башмаки застучали по мёрзлой земле. Крестьянин с изумлением посмотрел ей вслед, покачал головой.
– Вот дунула, скаженная, – пробормотал он. – Тьфу!
И с треском расколол очередной чурбак.
Подворье было крытое, большое. Аккуратный белёный дом стоял наособицу и смотрелся как пристройка к хлеву и сараям. Вязы около него росли и вправду старые, раскидистые, но все уже почти облетевшие. В окошках зажигался свет, смеркалось, изнутри чуть слышно доносились звуки суеты. На стук не открывали долго, а когда открыли, Ялка обнаружила перед собой розовощёкого и высоченного парня лет двадцати пяти, сиявшего, как медный таз. Парень, видно, вышел в темноту из освещённой комнаты и потому не видел дальше собственного носа. По лицу его блуждала глуповатая улыбка, и он, похоже, не сразу сообразил, кто и зачем пришёл.
– Кто тут? – спросил он, поднимая масляную лампу. – Сусанна, ты, что ли?
– Простите, – робко отозвалась Ялка, – я спросить хотела… Добрый вечер, – запоздало поздоровалась она, когда фонарь приблизился к её лицу. – Мне нужен знахарь. Мне сказали, что он тут…
– Э, да ты не местная! – внезапно неизвестно почему обрадовался парень. – А ну, заходи!
– Это зачем? – насторожилась Ялка. – Мне не надо… Я спросить…
– Заходи, заходи! – парень замахал рукой, не переставая улыбаться, обернулся: – Мадлена, Вильма, идите скорей сюда!
– Чего там? – отозвался женский голосок.
– Да гостья же пришла, как обещали!
– Ну?!
– Ага! Да где вы там вошкаетесь?
За спиной у парня объявилась девушка, настолько на него похожая, что Ялка сразу поняла: сестра. Ровесница, а может, старшая. Её лицо при виде Ялки озарилось настолько неподдельной радостью, что Ялка растерялась окончательно и безропотно позволила взять себя за руку и увлечь в натопленную горницу. Дом встретил девушку теплом и паром, мокрым запахом пелёнок, молока и звонким детским плачем. Не слушая ни возражений, ни вопросов, хозяева усадили её возле печки, где теплей, и долго потчевали всякими закусками, поили молоком, а после спросили, как её зовут.
И при этом почему-то сразу замолчали, насторожённо глядя ей в глаза.
Ялка назвалась, подозревая в глубине души, что вот теперь-то всё и выяснится, и её, которую здесь явно приняли за другую, с позором прогонят. Но прогонять не стали, наоборот – переглянулись и заулыбались.
– А что, – сказал румяный парень, – хорошее имя. Редкое.
– Пусть будет Ялкой, – согласилась с ним сестра.
А вторая девушка, которая сидела на кровати, измождённая и бледная, но не печальная, наоборот – счастливая, только кивнула и продолжила качать колыбель. Казалось, тихое счастье наполняет этот дом, внезапное, нежданное и оттого ещё более ценное. Теперь Ялку уже выслушали внимательно, ответили на все вопросы и немного посмеялись над её растерянностью. Всё объяснилось просто. Вчерашним днём Мадлена разрешилась родами, но роды были первыми и шли так тяжело, что все подумали – умрёт. Да и, наверно, впрямь бы умерла, кабы не знахарь, что пришёл, помог принять да выходил и мамку, и ребёнка. Что? Да, был тут знахарь с травами. Да, рыжий. Да, со шрамом на виске, не помним, на каком. Был, но ушёл. Сегодня утром, едва убедился, что с ребёнком всё в порядке. Нет, он сам пришёл, не звал его никто. Куда ушёл? Не знаем, куда ушёл. Сперва хотели в честь него новорожденного назвать, да он им не назвался, усмехнулся только. Девка, говорит, у вас родится, и не с моим корявым прозвищем ей век коротать. И прав ведь оказался – вон она лежит, качается, красавица… А напоследок, уходя, сказал, что если кто до вечера в ворота постучится, женщина какая незнакомая, то имя у неё спросите и девочку потом так назовите.
Так и сделали.
Ялка кусала губы и была готова от досады разреветься: опоздала! Но нелепо было плакать в этом доме, куда вместо ожидаемой смерти пришла новая жизнь. Скоро она успокоилась, да и поздно было бежать и догонять. Куда? Кого?
Зачем?
Так она и сидела, запивая слёзы кипячёным молоком и слушая рассказы про здешнее житьё-бытьё. Хозяева постелили ей лучшую постель, она заночевала на этой гостеприимной ферме под старыми вязами, а потом, уступая настойчивым просьбам, задержалась ещё на два дня – на крестины ребёнка. Связала для новорожденной пару чепчиков и тёплых башмачков, пожелала ей вырасти хорошей девочкой, найти богатого жениха и прожить двести лет и отправилась дальше.
За эти две недели она многое успела повидать и многое услышать. По осени дороги опустели, но не очень. Тут и там скрипели возы. Месили грязь паломники. Гуськом, держась за впереди идущего, брели во тьму слепцы. Звеня бубенчиком и прикрывая лица, медленно тащились прокажённые. То и дело попадались небольшие отряды солдат; девушка пряталась от них. Она шла мимо бедных деревень, где не было даже заборов, а единственная целая крыша была на церкви. Шла мимо деревень богатых, где стада свиней блаженно хрюкали под поредевшим пологом дубрав, трещали желудями, даже не догадываясь, что с приходом холодов почти все они лягут под нож мясника. Шла вдоль каналов, где последние баржи спешили к морю, чтоб успеть до ледостава. Шла мимо сжатых яровых и зеленеющих озимых, мимо грушевых садов, где в траве ещё находились подгнившие сморщенные паданцы, чёрные и твёрдые как камни, сбивала палкой грецкие орехи с макушек высоченных старых деревьев, куда побоялись забраться мальчишки. Два раза повстречав монахов, просила у святых отцов благословения и получала его. Дважды же её дорога пересеклась с чьими-то похоронами. Теперь навстречу ей катила свадьба. Запоздалая, урвавшая хороший день и потому весёлая донельзя.
Возок с коляскою приблизились, притормозили возле девушки. Остановились.
Невеста была темноволоса, миловидна, с синими глазами и большим ртом, который, правда, совсем её не портил, тем более что зубы у девчонки были – загляденье и она охотно и много улыбалась. Ялка испытала лёгкий укол зависти: зубы её были местом, больным во всех смыслах. Жених же, на её взгляд, был сущим деревенским валенком – кудрявый, коренастый, лопоухий, как горшок, и конопатый. Но вместе оба выглядели славно и смотрели весело. Наверное, правду говорят в народе, будто любят не за красоту…
Кто-то из гостей и пара музыкантов соскочили к Ялке: «Эй, девка, к нам иди – гуляем однова!», со смехом закружили в танце, нацедили ей вина в подставленную кружку – выпить за здоровье молодых. Обычай нарушать не стоило, и Ялка выпила. Даже сплясала немного с тем, кто потрезвей. Ещё через минуту поезд тронулся, и лишь цыганская кибитка не спешила в путь. Одна цыганка, ещё девушка, черноволосая, задорная и плутоватая, спрыгнула до Ялки, зазвенела монистами, взвихрила юбками пыль, ухватила за руку: «А дай погадаю, всю правду скажу, врать не стану: где живёшь, куда пойдёшь, где милого найдёшь! А ждёт тебя, милая, ждёт тебя, красавица…»
Глянула ей на ладонь – и осеклась, как подавилась.
Даже в кибитке замолчали.
– Так где мне его искать? – спросила Ялка. Хмель гулял в голове, ей хотелось смеяться. – А?
– Нигде! – выпалила та и отпустила её руку. Развернулась, прыгнула, как кошка, только пятки голые сверкнули, и затерялась средь своих. Возница – бородач в жилетке цвета выцветшей листвы – посмотрел на Ялку как-то странно, пожевал губами, тронул вожжи, и кибитка покатила дальше в настороженном молчании и грохоте колёс, оставив Ялку на дороге, вновь одну, в смятении и растерянности. И лишь когда она отъехала шагов на пятьдесят, опять заиграла музыка – сначала робко, только скрипка застонала, а потом и остальные бубны-барабаны.
А Ялка всё стояла и смотрела ей вслед, и по щекам её текли слёзы.
Свадьба…
Она ненавидела свадьбы.
Фридрих не сопротивлялся, когда его подталкивали к дому, просто ноги не хотели двигаться. Человек, которого ударил Шнырь, был ещё жив. Четыре мужика подняли тяжёлое податливое тело, потащили в корчму. Кровь на малиновом кунтуше не была видна, только вода и грязь, но лужицы на всём пути к трактиру замутило красным. Кто-то побежал нарвать бинтов, две бабы кинулись к колодцу за водой. Фриц тупо глядел перед собой, на кровь, на тело на чужих руках. Горох с лепёшками подпрыгнули в желудке, Фриц согнулся пополам, и его вывернуло прямо на крыльце. При виде этого хозяин совсем озверел и наградил его таким тычком, что мальчишка влетел в трактир и растянулся на полу. Там его вырвало ещё раз. Что-то мерзкое, сосущее ворочалось в желудке, сдавливало грудь и мешало дышать. Фриц разревелся, размазывая грязь и слёзы по щекам.
Раненого меж тем уложили на скамью, стянули с него верхнюю одежду и захлопотали, споря, рвать или не рвать на тряпки простыню.
Мальчишку заперли в чулане.
В глухом закутке под лестницей было пыльно и темно. Фриц опустился прямо на пол, мокрый и замёрзший, долго хлюпал носом, изредка прислушиваясь к беготне за стенкой. Потом стал колотиться в двери и кричать. Чей-то голос из корчмы пообещал, что сам его пристукнет, если тот ещё раз запищит, велел сидеть тихо, и Фриц умолк, оставшись наедине с темнотой и тяжестью в груди, которая давила как бы изнутри. Мальчишке сделалось не по себе. Он мог представить, как ударит человека, смог однажды броситься с ножом на стражника с монахом, преграждавших путь к свободе, но никогда не видел сам, как убивают людей – кроваво, грязно, подло.
Ни за что.
В щели меж досками тянуло сквозняком, промокший Фриц стал замерзать. Темнота смыкалась и душила – Фриц на самом деле начал задыхаться, судорожно шаря по сторонам и обрушивая на себя мешки, корзины с луком и какое-то тряпьё. На миг ему представилось, что он похоронен заживо. Он забился, словно птица в ловушке, и замер, как парализованный, когда вдруг понял, что сдавило грудь и мерзко, холодно ворочалось внутри. То было чувство, которого он раньше почему-то не испытывал.
Это был страх.
Настоящий.
– Отходит, – еле слышно донеслось из-за стены. Фриц вздрогнул и перекрестился. Сказали это тихо, но в корчме все услышали и сразу примолкли. – Царство ему небесное… Как звать-то хоть его?
– Да кто ж знает, я никогда его не видел здесь.
– И я.
– И я.
Опять молчание.
– Он, что же, без прислуги?
– Выходит, что без прислуги. Посмотри в его мешках, может, сыщется какая-то бумага.
– Надыть бы за священником сгонять. А?
– Надо бы, конечно… А, поздно…
Уличная дверь внезапно хлопнула, и в «Трёх ступеньках» воцарилась тишина. Никто не кашлянул, не двинулся, и только дождь шуршал по крыше. Даже Фриц перестал всхлипывать и с недоумением прислушался.
– Грейте воду, – распорядился кто-то хриплым, простуженным голосом с акцентом горца с юга. – Быстро. И погасите трубки, и так нечем дышать! Откройте окно.
– Дык ведь… не открывается, – сказал хозяин. – На зиму забили.
– Тогда дверь, – невозмутимо заявил пришелец. Что-то мокрое упало на пол. Зашуршало. Подвинули стол. Протрезвевшие гуртовщики зашептались, кто-то ахнул. Томительные полчаса прошли в глухой тиши, потом что-то крикнули – протяжными, незнакомыми, какими-то горящими словами – и вдруг раздался стон, переходящий в хриплый кашель. Толпа встревоженно и приглушённо загудела, будто пчёлы в зимнем улье. Зашаркали подошвы, словно люди расступались перед кем-то и смыкались за его спиной.