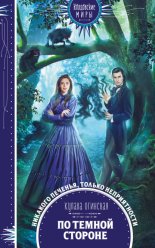Отрок. Ближний круг: Ближний круг. Стезя и место. Богам – божье, людям – людское Красницкий Евгений
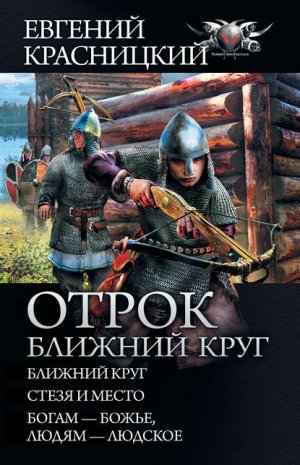
– И знать не хочу! Лучше – не лучше… Лучше, когда вообще никого не убивают! Лучше бы ты, Лис… – Сучок вдруг замолк на полуслове. – Слушай! А даже если бы и была яма, то все равно не получается!
– Это как? – не понял Мишка. – Что не получается?
– А нету там, где мы сейчас строим, такой глины! Шкрябка объяснял, что раньше, когда-то давно, там высокий холм был, потом он осел, а река вокруг него другой глины и песка намыла. Потому эта глина только наверху, в середине острова, есть, а мы-то строим с краю!
– Погоди, погоди. Выходит, что даже если бы вы действительно человека там зарыли, его одежда все равно не могла бы в той глине запачкаться?
– Ну да!
– Что ж, тот, кто на вас напраслину возвел, специально на середину острова бегал, чтобы тряпку вымазать?
– Не-а! Для этого место надо знать. Мы смотрели, на том месте еще недавно, несколько лет назад, глину брали. Она для обжига хороша – посуду делать, другие вещи.
«Так. Кто мог знать, что на этом месте глина иная, чем в округе? Нинея. Сакраментальный вопрос при любом расследовании: кому выгодно? Опять Нинее! Мы от плохого места для строительства отказались, нашли другое. Она нас и подставила. Красава-то на стройке крутится. Но как Нинея отцу Михаилу тряпку передала? Очень просто – через старостиху Беляну, для того сама в Ратное и притащилась. Ну бабка!»
– Вспомнил! – возопил вдруг Сучок. – Вспомнил! Мы же кучу этой глины к себе притащили, хотели попробовать кирпичи из нее делать! Любой к этой куче подойти мог, даже и не зная, что ее в этом месте нет, а надо за ней на середину острова мотаться!
«Пардон, Нинея Всеславна, приношу свои извинения за напрасные подозрения. Все складывается. Первак или Вторуша, проходя мимо кучи глины, мазанули тряпку и отдали Листвяне. Я же говорил, что все должно быть просто!»
– Так, старшина, можешь больше об этом деле не беспокоиться, – уверенно заявил Мишка. – Я сам с отцом Михаилом все обговорю, никаких подозрений на тебе больше не будет.
– Что, так просто?
– Проще некуда. Ну не таскали же вы покойника до середины острова, чтобы в глине вымазать? Да и не знали вы тогда про ту глину, начинали-то вы стройку больше месяца назад.
– Ага. Как положено – в новолуние, а закончили в русалью неделю. Все по обычаю!
Да, обычаи артель соблюдала неукоснительно и строжайшим образом, Мишка однажды сам в этом убедился. Приехав в тот день на стройку «из учебной усадьбы», он стал свидетелем весьма впечатляющего зрелища. Голый по пояс плотник по кличке Куна тащил, надрываясь, к берегу Пивени здоровенное бревно, а остальные артельщики по очереди хлестали его по спине розгами.
По окончании экзекуции, когда бревно было сброшено в реку, Сучок объяснил Мишке смысл произошедшего. Оказывается, Куна проглядел бревно с сучком, выросшим не на поверхности ствола, а изнутри. Такой сучок потом выпадает из бревна, оставляя после себя косую круглую дырку. Это считается очень плохой приметой, способной навлечь на жильцов множество бед.
– Вот-вот, по обычаю, – решил приободрить Мишка плотницкого старшину. – Отец Михаил умён, все поймет. А того, кто на нас напраслину возвел, мы, наверно, никогда не узнаем – тайна исповеди, сам понимаешь.
– Ну и слава богу! – Сучок вздохнул с явным облегчением. – А то, что мы под дом конский череп положили, мед, хлеб, воск… Церковью это не возбраняется. Мы даже череп лошадиный старый взяли, не стали коня губить…
– Ладно, ладно. Закончили с этим, беру все на себя. У тебя еще дела какие-нибудь ко мне есть?
– Есть, Лис. Ха! А ведь и вправду Лис! Как ты это все хитро повернул… А дело такое: помнишь, ты что-то там про лесопилку говорил?
– Говорил, и что?
– Понимаешь… – Сучок снова полез скрести в затылке. – Закуп, конечно, должен на хозяина работать, но никто же не запрещает ему, если может, работать и на себя. Доски – товар дорогой…
– Хочешь долю с продажи?
– Не для себя, для артели. Лис, мы без обмана. Крепость тебе выстроим – залюбуешься! Все, что еще скажешь, сделаем, но ты пойми: людям надежда нужна, верить надо, что из кабалы вырвемся!
– Водяные колеса поставишь?
– Не сомневайся!
– Лес нужен будет выдержанный, из сырого доски дрянные получатся.
– Лес заготовим, под навесами выдержим, все как надо будет.
– Быстро не получится, – продолжил охлаждать пыл Сучка Мишка. – Пока заготовите лес, пока он под навесом вылежится, пока пилы откуете, лесопилку поставите… Может, что-то с первого раза не выйдет, переделывать придется. А там – зима, водяное колесо встанет.
– Ну и ладно! Мы же крепость не завтра закончим. До весны лес под навесом дойдет, весной пилить и начнем.
– А продавать где? В Ратном покупателей на доски много не найдется.
– Э! Был бы товар, а покупателя найдем. Слушай, Лис, а до больших городов здесь далеко? Я, когда сюда плыли, как-то не приглядывался, настроение не то было. Меня выпусти сейчас, так я и дороги домой не найду, больно уж далеко нас Никифор завез.
– А где дом-то твой, старшина?
– В Новгороде-Северском… – Сучок запнулся и тяжело вздохнул. – Нету дома. И у меня нету, и у артельщиков – все за долги продали. И нас тоже продали…
– Как же вы так? Это ж какой долг должен быть, чтобы вся артель в кабалу попала?
– А! – Сучок безнадежно махнул рукой. – Чего уж теперь? Человека мы убили, не простого человека, а княжьего. И не просто княжьего, а ближника.
«Да-а… Это вы попали, ребята. По Русской Правде Ярослава Мудрого за убийство княжьего человека штрафы назначаются немилосердные. Где-то я читал, кажется, у профессора Рыбакова, что доходило до нескольких килограммов серебра, даже до десятков килограммов. И особенно не разбирались – если не находили убийцу, штраф брали с того, на чьей земле обнаруживался труп».
– Ты только не подумай, что мы жертвоприношение перед строительством устроили! – неправильно понял Мишкино молчание Сучок. – Случайно все вышло. У боярина Козлича – ближника князя Олега Святославича – кто-то из родни помер. Он по такому делу церковь-обыденку заказал. Ну, такую, что за один день строится. Мы взялись, а он нет чтобы подождать до вечера, все крутился под ногами, во все нос совал, так извел, что хоть работу бросай. Терпели-терпели, а потом взяли да и подпортили немного подмостья, думали, что свалится, ушибется да и отстанет от нас.
Сучок замолк и принялся одергивать и оправлять на себе рубаху.
– А Козлич не просто ушибся, – подсказал Мишка, – а насмерть.
– Угу. Шею свернул.
– И какая же вира вышла?
– За боярина – пятьдесят гривен, за то, что церковь в срок не достроили – еще пять, за то, что убийство в Божьем храме, хоть и недостроенном, учинили, – еще десять. Двенадцать гривен мы сообща собрали. У баб своих серьги, колты, ожерелья… даже кольца обручальные позабирали. Дома и все хозяйство, по приговору, за бесценок ушло – меньше четверти долга. Остальное Никифоров приказчик уплатил. Сам в долги залез, но больно уж выгодно ему показалось – мы же лучшая артель. Не только в Новгороде-Северском, нас и в Чернигов звали, и в другие места.
– Понятно. А лихву какую Никифор положил?
– Вроде и по-божески – десятину в год, да только десятина от такого долга… – Сучок опять вздохнул и махнул рукой. – На нее одну целый год и горбатиться, если еще придумаешь как.
– М-да. Крепко вас.
«Правильно я тебя понял, Сучок, – горазд ты на опасное озорство. Рано или поздно такие, как ты, обязательно нарываются на серьезные неприятности. Ладно бы сам, а ты еще и людей своих подставил, и семьи их. Нет, не случайно у тебя это все вышло. Не в тот раз, так в другой бы влипли. Нет у тебя в зазоре между желанием и действием мысли. Захотелось – сделал, а подумать, перед тем как делать…»
– Какую долю в продаже досок хочешь, старшина?
– Половину! – выпалил Сучок и настороженно уставился на Мишку. – Вся работа наша, твоя только задумка.
– Да? А то, что на моей земле лесопилка стоять будет? А то, что мой лес вы на доски пилить будете? А то, что в ущерб моей работе прибыток себе зарабатывать станете?
В принципе Мишка был не против предложения плотницкого старшины, но не поторговаться – потерять лицо, уважать не станут. Аргументы оказались весомыми – Сучок поколебался и осторожно спросил:
– Какую ж ты долю себе хочешь?
– Не дергайся, старшина! Я же понимаю: половину ты запросил для того, чтобы выторговать четверть. Что, не так?
– Не так! Половина – цена справедливая!
– Справедливая? А давай-ка подсчитаем! Сколько тебе останется с цены досок, если лес ты у меня будешь покупать, за пользование лесопилкой платить, за задержку строительства тоже платить? Да еще не забудь, что доски до покупателей довезти надо – перевоз ведь не бесплатный. Погрузить – людей опять от строительства отвлечешь. Сколько-то народу с досками отправить придется, пока довезут, пока расторгуются, пока вернутся… Опять люди от работы отвлечены. Ну, много тебе останется?
Сучок совсем сник. Снова сцепил пальцы рук, опустил голову и пробормотал:
– Лис он и есть Лис. Так обведет, что еще и должен останешься.
– Я же сказал: «Не дергайся, старшина». Признавайся: рассчитывал на четверть?
– Чтоб тебя леший… Рассчитывал.
– А я рассчитывал дать тебе тридцать пять досок из каждой сотни. Не кочевряжился бы – так бы и урядились. А теперь даю тридцать. Согласен?
– Много тебе навару с пяти досок!
– Не в наваре дело, старшина. Я тебе возможность на волю выкупиться даю, а ты норов мне показывать принялся. За то и вира с тебя. Грамоту писать будем или на слове согласимся?
– На слове? С Лисом? – начал было Сучок, но, вспомнив о норове, тут же поправился. – Согласен. Верю на слово.
– Тогда еще одно условие.
– Что еще? – опять насторожился плотницкий старшина.
– Не бойся, условие простое. О нашем договоре не болтать. Своим скажи, чтобы охотнее работалось, но больше никому.
– Это можно. Не беспокойся, Лис, не разболтаем.
– Теперь еще одно дело. Подбери несколько вязов обхвата в полтора, отложи отдельно, пусть выдерживаются, я потом скажу, что с ними делать…
Дверь распахнулась, и в горницу вошла Листвяна в сопровождении кухонной девки, несущей поднос с едой. Ключница строго глянула на Сучка и объявила:
– Михайле Фролычу поесть надо, скоро лекарка придет перевязку делать!
Сучок послушно поднялся с лавки, но Листвяна остановила его:
– Погоди, старшина, дело к тебе есть, – ключница жестом велела холопке поставить поднос на лавку и обратилась к Мишке. – Михайла Фролыч, надо бы плотников на новые огороды послать – ограду поправить, да и избушку хоть небольшую поставить, девки в шалашах намучились. А так и снасть огородную будет где хранить, и от непогоды укрыться, и переночевать, если потребуется. Если не хочешь много народу от крепостного строения отрывать, так можно всего двоих-троих плотников, а в помощь им десяток ребят из воинской школы. Хоть бы и десяток моего Первака.
Сучок вопросительно глянул на Мишку, тот согласно кивнул:
– Хорошо. Только, старшина, ты взял бы, да сам съездил или Гвоздя послал. Там надо опытным глазом посмотреть, по-моему, место для деревеньки подходящее.
– Добро, сделаем, – согласился Сучок. – Гвоздя пошлю, он хорошо места для жилья выбирать умеет.
– Так я прямо сейчас пошлю кого-нибудь из ребят в воинскую школу и в крепость? – спросила Листвяна. – Чтобы уже сегодня Первак свой десяток на огороды привел.
– Посылай.
«Чего ей приспичило-то так срочно? Если десяток Первака и доберется, то уже в конце дня. Или хочет, чтобы прямо с утра за работу взялись? Ладно, ей видней».
– Михайла Фролыч, тебя покормить или сам попробуешь?
– Сам, только под спину мне чего-нибудь подложи, чтобы сидеть можно было.
Мишка переждал приступ головокружения, более слабый, чем вчера, и принялся запихивать в себя еду – аппетита не было совершенно никакого, хотя и не тошнило. Листвяна, заметив, что Мишка глотает с усилием, тут же заботливо подала кружку с квасом.
– Запей, Михайла Фролыч.
Дело пошло легче, а Листвяна сидела рядом и ворковала:
– Хорошо молодым быть – любые болячки быстро проходят и силы быстро восстанавливаются, – Мишка решил, что речь идет о нем, но оказалось, Листвяна имеет в виду Юльку. – Молодая лекарка аж три ночи возле тебя просидела, вся серая с лица сделалась. А выспалась – и опять как яблочко наливное.
«Чего ей надо-то? Вежливая, ласковая, заботливая. Меня по отчеству величает, Юльку нахваливает… Точно: нагадила чем-то! Или собирается? То, что номер с кровавой тряпкой не прошел, она еще не знает, но, может быть, еще что-то в том же духе задумала? Зачем ей это? Мотив надо понять, но пока не выходит. Срыв строительства ей никакой выгоды принести не может, для чего же она эту подлянку подстроила? Не понимаю, а надо! Надо разобраться в ее мотивации, тогда можно предвидеть следующие ходы. Блин, и деду-то ничего не скажешь. Даже если найду неопровержимые доказательства ее паскудства и даже если он их примет… Все равно Листвяна – его «лебединая песня», он мне этого не простит. Да и жалко старого, едрена-матрена. Что ж придумать-то? Мотив! Пока не пойму, ничего делать нельзя!»
Мишка продолжал машинально жевать, не прислушиваясь к воркотне Листвяны, но вдруг сознание зацепили какие-то слова…
– Так Юлька уже пришла?
– Да, у Анны Павловны сидит, – подтвердила Листвяна. – Ждет, пока ты поешь.
– Зови, – Мишка протянул ключнице миску и ложку. – Все, наелся, больше не хочу.
– Да ты и половины не съел, Михайла! Анна Павловна сердиться будет. Съешь еще хоть немного.
– Не хочу, тошнит меня. Зови лекарку!
– Ну как знаешь… А еду я оставлю, может, лекарка тебя уломает еще поесть.
– Уломает, уломает… Юлька на что хочешь уломает, зови!
Глава 2
– Здравствуй, Юленька. А я все думаю:
- Да что ж такое происходит?
- Ко мне все Юлька не приходит,
- А ходят в праздной суете
- Разнообразные не те.
«Плагиат, сэр Майкл, да еще такой бездарный. И не стыдно?»
Юлька неожиданно поддержала критику «внутреннего собеседника»:
– Все еще бредишь? А сказали, на поправку пошел.
– Вот ты пришла – мне сразу и полегчало.
– Что-то не заметно. То орал: «Берегись, стрела!» – а теперь и вовсе чушь несешь… хотя складно. Какого только бреда с вами не услышишь.
Несмотря на ворчливый тон, было заметно, что Юлька довольна. Только непонятно чем: состоянием пациента или стихами?
– Давай-ка рассказывай: где болит, как себя чувствуешь?
– Глаз почти не болит, только там все время мокро, а вот ухо почему-то болит, даже жевать больно, – принялся перечислять Мишка. – А еще встать не могу – голова кружится и тошнит.
– А сейчас голова кружится?
– Нет, только когда приподнялся, но быстро прошло.
– Ладно, давай-ка посмотрим, что у тебя там.
Юлька принялась снимать повязки, а Мишка с трудом сдерживался, чтобы не спросить, не принесла ли она случайно с собой зеркало. Он сам не ожидал, что состояние внешности будет так сильно его волновать. К уху повязка присохла, Мишка зашипел от боли, но на Юльку это не произвело ни малейшего впечатления, она даже и не попыталась его успокоить «лекарским голосом».
– Юль, меня сильно поуродовало? – не выдержал наконец Мишка. – Рожа здорово страшная?
– А ты и так красавцем не был, – «порадовала» Юлька. – Такую харю сильно не попортишь.
– А вот и врешь! – запротестовал Мишка. – Красава, внучка Нинеина, на мне жениться обещала. Красавец, говорит, писаный, только собольей шубы и красных сапог не хватает. Но сапоги с шубой – дело наживное.
– Ну я же говорю: бредишь! Может, все-таки она за тебя замуж выйти хотела, а не жениться?
– Не-а! Так и сказала: «Вырасту и женюсь на тебе!» Замуж каждая выйти может, а вот жениться… Но Красава, наверно, способ знает – внучка волхвы все-таки.
Юлька наконец не выдержала и фыркнула:
– Трепач! Надо было тебе лучину в язык всаживать, а не в глаз! А ну не лезь! – лекарка шлепнула Мишку по руке, которой он потянулся пощупать ухо. – Не зажило еще!
– Ну, что тут у нас? – раздался вдруг из-за Юлькиной спины голос Настены.
Мишка даже и не заметил, когда она успела войти в горницу.
«Консилиум, сэр. Видать, дела серьезные. Слава богу, Бурея третьим не пригласили – добивать, чтоб не мучился».
– Вот, мама, – Юлька отодвинулась, чтобы не мешать матери.
– Глаз промой ему, – Настена, внимательно вглядываясь в Мишку, легко притронулась пальцами к его лбу возле брови, оттянула нижнее веко. – Ну-ка попробуй глаз открыть, Мишаня.
Мишка попробовал, получилось плохо.
– Шевелится, – с удовлетворением констатировала Настена. – Все хорошо: глаз видит, веко шевелится, будет чем девкам подмигивать.
– Это я обязательно! – бодро отозвался Мишка и для убедительности пропел:
- На закате ходит парень возле дома моего.
- Поморгает мне глазами и не скажет ничего.
- И кто его знает, чего он моргает,
- Чего он моргает, чего он моргает?
- Тари-тари, тари-тари, тари-тари-там!
– Ну если запел, то выздоравливает! – Настена довольно улыбнулась. – Промывай ему глаз и перевязывай. Пожалуй, через пару деньков поднимется.
– Так что у меня с мордой? – дождавшись, когда Настена выйдет, снова спросил Мишка. – Бурея по страхолюдству переплюну или нет?
– Ну прямо как девка! – возмутилась Юлька. – Ничего особо страшного. Бровь, конечно, сгорела, но вырастет снова… почти вся. Чуть-чуть кривая будет, но несильно. Волосы на голове тоже отрастут…
– А с ухом что?
– Ну… – Юлька помялась, но под настойчивым взглядом Мишки все же продолжила: – Ты когда на спину упал, уголек к уху скатился. Подшлемник волосам гореть не дал, но сам тлеть начал, и как раз там, где ухо… Пока с тебя шлем стащили, пока то да се… В общем, прижарилось у тебя ухо. Даже обуглилось слегка.
– И что?
– Ну пришлось отрезать немного…
– Сколько это – «немного»?
Мишка опять полез щупать ухо и опять получил шлепок по руке.
– Не трогай! Как бы еще кусок отрезать не пришлось. Да ты не бойся, Минь, под волосами не видно будет.
– Эх, молодежь, молодежь. Только б вам резать, – тоном старого доктора из не менее старого анекдота проворчал Мишка. – Юль, вон там воск лежит, дай-ка мне кусочек.
Размяв воск в пальцах, он вылепил из него некое подобие ушной раковины.
– Показывай, сколько отрезали?
Юлька немного поколебалась, потом несколькими движениями отщипнула верхний край.
– Мать честная! Эльф!
– Что? – непонимающе переспросила Юлька. – Какой эльф?
– У латинян сказка такая есть – про лесных людей. Они такие же, как люди, даже детей могут от людей рожать, только уши у них заостренные, как у зверей.
– А-а. Ну у тебя только одно ухо заострилось.
– Так у них полукровок так и называют – полуэльфы.
– Трепач. У него чуть не пол-уха сгорело, а ему все хаханьки, – лица Юльки Мишка не видел, потому что она как раз накладывала ему повязку, но по голосу чувствовалось, что лекарка улыбается. – Ты и на собственных похоронах шуточки шутить будешь?
– Ага! Приходи, посмеемся.
– Дурак!
– Правильно! Дед Корней так и сказал: «Одна половина бунтует, другая половина с ума сошла, остальные – в жопу раненные». Ранен я совсем в другое место, в бунте замечен не был, так что, выходит, сумасшедший.
– Хватит! – решительно заявила Юлька. – Шутки шутками, а Роська твой до горячки доигрался – в жару лежит. Ты думаешь, мать сюда на морду твою шпареную любоваться пришла? Она с Роськой сидит, а попа, дружка твоего, за волосья с крыльца стащила. Приперся! Сам одной ногой в могиле стоит и парня туда же тащит!
– Да ты что?
– То! И тетка Варвара чуть не померла. Вам, дуракам, смешно – стрелу в задницу поймала, а того не знаете, что там кровяная жила проходит. Порвать ее – смерть, нету способа такие раны лечить. Фаддей, дурень, стрелу дергал, как морковку из грядки, а стрела-то от шлема отскочила – кончик погнутый! Разворотил, когда вытаскивал, так что тётка Варвара чуть кровью не изошла. Еще бы на волосок в сторону, и все – порвал бы жилу кровяную. Правильно его твои ребята отлупили – чуть собственную жену по дури не угробил.
– Ну Варвара тоже хороша! Любопытство ее когда-нибудь угробит – вечно ей все новости раньше всех надо знать… А остальные ребята мои как?
– Про Гришу тебе уже сказали?
– Да. Царствие ему небесное, – Мишка перекрестился, Юлька даже и не подумала. – С Роськой все понятно, вернее, ничего не понятно. Как думаешь, выкарабкается?
– Не знаю, горячка от запущенной раны… хуже нет.
«Эх, пенициллину бы сюда, а так… У них же почти никаких средств для борьбы с сепсисом, а Роська еще и в депрессию впал. Совсем хреново».
– Ладно, будем надеяться, – Мишка в упор посмотрел на лекарку и отчетливо произнес, снова осеняя себя крестом, – Бог милостив.
– Помолись, помолись, – Юлька скептически покривила рот. – Только не вздумай, как Роська, сутки напролет в церкви корячиться. Возись потом с тобой.
– Не буду. Как остальные раненые?
– Яньке Бурей шею вправил, уже и не болит. У Марка плечо еще немного опухшее, правой рукой не скоро сможет свободно шевелить. Серьке палец на ноге пришлось отнять, на костылях прыгает.
– Что? Даже на пятку наступать не может?
– А ты думал? Ступня – такая вещь… Потом-то ходить нормально будет, а пока – на костылях.
– Говорят, ты около меня три ночи просидела, – Мишка осторожно взял Юльку за руку. – Спаси тебя Христос, Юленька, который раз ты уже меня спасаешь… и ребят моих, тоже.
– Да ладно тебе… – Юлька смущенно потупилась, на щеках заиграл румянец. – Такое уж у нас дело – лекарское. А зато я, когда Серьке палец отнимали, половину дела сама сделала, мама только присматривала!
«Едрит твою… Ну и герлфренд у вас, сэр Майкл! Тринадцать только в октябре исполнится, от живого человека кусок отхряпала, а радуется, будто ей новое платье подарили! Сумасшедший дом, чтоб мне сдохнуть! А… а вот возьму и уговорю мать Юльке платье сшить, такое же, как у сестер. И вальс танцевать научу! И вообще закатим бал по случаю новоселья воинской школы, и танцевать буду только с ней одной, пускай все святоши удавятся!
Вообще-то надо бы ее похвалить, вон как радуется. Что б такое сказать, вроде комплимента? Блин, сразу и не придумаешь, больно уж повод специфический. Ну и ладно, в определенных случаях комплимент вполне успешно заменяется доброжелательной заинтересованностью».
– Так ты что же, скоро уже и сама сможешь, без материной помощи?
– Еще долго не смогу, – Юлька тоскливо вздохнула. – Тут ведь не только правильно отрезать да зашить требуется. Надо еще и так сделать, чтобы у больного сердце от боли не зашлось, а я пока не могу.
– Как же так? Ты когда моих ребят на дороге лечила, они вообще боли не чувствовали.
– Боль, Минь, разная бывает, настоящей, самой страшной, ни ты, ни твои ребята еще и не чувствовали. И больные тоже разные бывают. Ребята твои мне легко поддались, а для взрослого мужа я не лекарка, а девчонка сопливая, он мне не верит, а значит, и наговору моему не поддастся.
«Да, с анестезией у ЗДЕШНЕЙ медицины проблема, и еще лет семьсот эту проблему решить не смогут. Под нож лучше не попадать. Слава богу, Максим Леонидович обещал, что я умру здоровым, видимо, руки-ноги в погребении были в полном комплекте и следов переломов не наблюдалось. Что еще можно определить по старым костям? Не знаю, но и сказанное утешает».
– Минь, – заговорила вдруг Юлька каким-то непонятным тоном, – как только полегчает, уезжай-ка ты побыстрее в свою школу, не болтайся в селе.
– Юль, ты чего?
– Ратники на тебя сильно злятся, говорят, что Корней стаю щенков на людей натаскал, а ты в той стае вожак. Утром сход был, Корней указывал: кого изгнать, кого оставить. Устинья, жена Степана-мельника, и Пелагея, невестка его, дочь Кондрата, – тебя прилюдно прокляли. Устинья совсем ума лишилась, шутка ли – муж и все три сына убиты. А у Пелагеи муж, брат и отец. Бурей их обеих оглушил, прямо кулаком по голове, а мужи раскричались, говорят, Корнея хватать начали… может, и врут. Там же Лука Говорун и Леха Рябой со своими десятками конно и оружно были. И твоих три десятка Митька привел, верхом, в бронях с самострелами. Так что вряд ли кто-то решился рукам волю давать, но горячились сильно. Данила прямо на копье Луке кинулся, рубаху на груди рванул, кричит: «Бей, все равно не жить!»
– А Данила-то с чего?
– А ты не знаешь? Устинья-то – его дочь от холопки. Так что сыновья Степана – его внуки, все трое. Он же всего года на три-четыре моложе Корнея, а дочку с холопкой прижил, когда ему еще четырнадцати не было.
«М-да, когда все друг с другом в каком-нибудь родстве, только тронь, и пойдет цепляться одно за другое. Кто ж знал, что сыновья Степана приходятся внуками Даниле? И куда Данила смотрел? Ведь знал же о заговоре!»
– Сам виноват! Знал о заговоре, а внуков не удержал! А может, рассчитывал снова сотником стать?
– Не знаю, Минь. Говорят, Данила у десятников в ногах валялся, просил дочку на поруки взять. Никто не согласился, не любят его. А Пелагея Корнею в глаза поклялась обоих сыновей воинами вырастить и в ненависти к тебе воспитать, чтобы не было ему покоя, а под конец жизни чтобы могилу твою увидел.
– Ну это мы еще посмотрим, кто чью могилу увидит!
– Уезжай от греха, Минь! Пока ты в доме, ничего не случится, а как поправляться начнешь, уезжай, не задерживайся в селе. Подстерегут где-нибудь и убьют. Все же понимают: ни Лука, ни Леха Рябой, ни Игнат против Корнея не пойдут. Тихон тоже. А с остальными, если что, ты расправишься. Корней ведь ратников друг на друга натравливать не станет, для этого у него теперь Младшая стража есть.
– Не будут бунтовать – ни с кем расправляться и не придется.
– Да что ж ты непонятливый такой! – взорвалась возмущением Юлька. – Взрослым ратникам мальчишек бояться – это же унижение какое! Не простят тебе, не забудут, рано или поздно найдут способ отыграться! Уезжай, Минька, хочешь, Христом твоим тебя попрошу? Уезжай!
Такой Юльку Мишка еще не видел: кажется, девчонка знала, о чем говорит, и напугана была всерьез.
– Да что ж ты, Юленька… – он притянул Юльку к себе. – Успокойся, уеду я. Как только смогу, так сразу и уеду. У меня скоро еще полсотни ребят появится, крепость достроим, пусть только кто-нибудь сунется…
Мишка шептал своей подружке еще что-то успокаивающее, называл ее ласковыми прозвищами, гладил по голове, сам поражаясь всплывшей неизвестно откуда странной смеси нежности и готовности порвать любого, кто нанесет Юльке малейшую обиду. И не было в этом чувстве ни намека на сексуальность, хотя по ЗДЕШНИМ понятиям юная лекарка уже входила в возраст замужества (выдавали замуж и в двенадцать), было желание успокоить, защитить, оградить от жестокости окружающего мира и…
Совершенно неожиданно начало приходить чувство слияния, которое они уже переживали, когда удерживали на грани жизни и смерти раненого Демьяна. Но сейчас оно было несколько иным: во-первых, непреднамеренным, возникшим спонтанно, во-вторых, слияние не несло радостного чувства переполненности энергией. Юлька, видимо неосознанно, пыталась донести до Мишки свою тревогу, а он всячески сопротивлялся, стараясь ее успокоить и внушить оптимизм. Сознание взрослого человека, более богатый жизненный опыт, накопленный за долгие годы запас скептицизма позволяли Мишке легко сопротивляться внешнему потоку информации, делали его ментально сильнее… хотя правильнее было бы, наверно, сказать не сильнее, а защищеннее. Юлька через этот барьер пробиться не могла, тем более что не осознавала его существования, да и не смогла бы понять сути.
Остатками рационализма, растворяющегося в слиянии двух сущностей, как сахар в горячем чае, Мишка понял: сопротивляться не нужно. Юлька пусть еще совсем молодая, но лекарка. Она привыкла проникаться ощущениями больного – по едва заметным признакам определять его настроение и самочувствие, через ее руки прошло если не все, то большая часть населения Ратного. Она чувствует на эмоциональном уровне общее настроение и, как прирожденный медик, будучи не склонной к панике или преувеличениям, способна оценить настрой селян достаточно объективно.
Мишка мысленно расслабился, барьер истаял, и тут же возникло ощущение близости зверя – большого и опасного. Зверь еще не испуган, но уже обеспокоен, еще не разъярен, но уже подобрался и напрягся. Сразу же родилась и ассоциация – медведь, окруженный собаками. Охотник еще не подошел, но уже где-то рядом, и собаки только и ждут появления хозяина, чтобы накинуться со всех сторон. Каждую из них в отдельности медведь убил бы или обратил в бегство без особых усилий, с охотником он тоже без страха сошелся бы один на один, но вместе… Убить! Убить вожака стаи, потом перебить или разогнать остальных собак, а тогда уж и с охотником можно разобраться, тем более что без своих зубастых помощников тот может и не решиться напасть.
Вот он, этот зверь, – ратнинская сотня, и вот он, вожак стаи, – сотников внук Мишка, старшина Младшей стражи. Убить или иным способом избавиться от него, и охотник отступит – зверь слишком силен…
Деликатный стук в дверь прозвучал прямо-таки громом небесным. Юлька торопливо высвободилась из Мишкиных объятий, схватила старую повязку и преувеличенно тщательно принялась ее сматывать. Мишка чуть не выматерился вслух от досады, но сдержался – рядом сидела девчонка, а такую куртуазность, как предварительный стук в дверь, во всем Ратном мог изобразить только один человек – отец Михаил.
– Входи, отче! – громко произнес Мишка и подмигнул удивленно оглянувшейся на него Юльке.
– Мир вам чада, я не помешал?
– Нет, отче, я уже закончила.
Юлька начала торопливо складывать в сумку лекарские принадлежности, потом спохватилась и, перекрестившись, подошла под благословение. Как бы скептически Настена ни относилась – не к религии, разумеется, а к жрецам, – соблюдать внешнюю благопристойность она дочку приучила.
– Не спеши, Иулия, переговорить с тобой хочу… Или тебя больные ждут?
– Нет, никто не ждет, отче.
– Вот и поговорим об отроке Василии. Миша, ты, наверно, тоже о нем со мной поговорить хотел?
– Хотел, отче, – не стал отказываться Мишка. – Только разговор неприятным оказаться может. Ты уж прости, но я за десятника Василия перед Богом и людьми отвечаю, и если с ним беда приключилась, хочешь не хочешь, спрос и с меня тоже.
– В этом ты прав, и спорить с тобой было бы глупо и несправедливо, – отец Михаил помолчал немного в раздумье. – И что же ты мне сказать хотел?
– Отче, ты бы присел, разговор долгий, да и неудобно – ты стоишь, я лежу, – Мишка подождал, пока священник устроится на лавке, и продолжил: – Василий воинское обучение проходит. Ты, отче, надеюсь, не будешь спорить с тем, что воину плоть умерщвлять, подобно чернецу, неуместно. Воин иным способом усердие в вере проявляет, телесная слабость ему не пристала.
– Так, – отец Михаил кивнул. – Иулия, как здоровье отрока Василия?
– Плохо, – произнесла Юлька прямо-таки прокурорским тоном. – В беспамятстве он, в жару, в горячке.