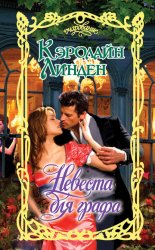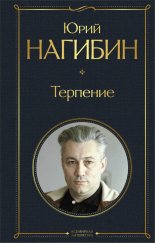Испанский вариант (сборник) Семенов Юлиан
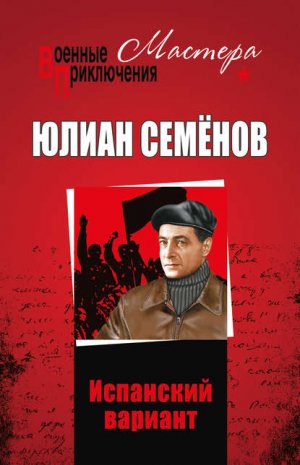
Бломберг, представлявший армию, отказался высказать свое мнение первым.
– Адмирал – истинный авторитет в испанских вопросах, – сказал он, – вероятно, следует послушать его мнение.
– Мнение одно, – ответил Канарис, зная, что сейчас он выступает против Бломберга, – мнение единственно разумное и нужное рейху: немедленная помощь испанским борцам против большевизма.
– Адмирал прав, – сказал Геринг, – мы таким образом поддержим сражение против Коминтерна – это первое, и, второе, получим театр для великолепного спектакля, где стреляют не холостыми пулями, а трассирующими: я опробую в Испании мою авиацию. Маневры таят в себе элементы игры, а сражение с республиканцами есть генеральная репетиция битвы, которая предстоит нам в будущем.
Назавтра в министерстве авиации был создан секретный штаб «В». Через три дня начальник штаба «В» генерал Вильберг лично отправил в Испанию первую партию «юнкерсов». Затем в Бургос был переброшен корпус «Кондор».
Канарис занялся своим делом. В абвере был организован сектор из двух подразделений. Первое снабжало франкистов оружием через «фирму Бернгарда», второе – через подставных лиц – «снабжало» оружием республиканцев. Но если первое подразделение отправляло автоматы последних моделей, то второе поставляло оружие заведомо бракованное, прошедшее специальную обработку в мастерских абвера.
Испания стала полигоном гитлеризма. Асы Геринга учились здесь искусству войны с родиной Исаева. За те два года, что Исаев провел при штабе Франко, встречаясь и почтительно раскланиваясь с «сеньором Гулиермо», он поседел: люди быстро седеют, когда им приходится быть среди тех, кто воюет с друзьями твоей родины, да и с твоей родиной тоже, – сбивали-то и советских летчиков – единственной страной, которая, отвергнув политику «невмешательства» Лондона и Парижа, открыто помогала республиканцам в их борьбе с фашизмом, был Советский Союз.
– Звоните по этим двум телефонам каждые полчаса, – сказал Хаген радисту, который был приписан к их развед-центру. – Объясняйте, что пресс-атташе германского посольства фон Штирлица настойчиво разыскивает его друг Август.
– Слушаюсь, гауптштурмфюрер.
Хаген поймал себя на мысли, что он хотел в штирлицевской усталой манере сказать телефонисту: «Да будет вам… Зачем так официально, вы же знаете мое имя». Но потом он решил, что телефонист еще слишком молод, и он не стал ему ничего говорить, а сразу пошел в кабинет, где его ждал Ян Пальма.
– Знаете, об университете мы поговорим позже, а сейчас меня будет интересовать Вена.
– Что конкретно вас будет интересовать в Вене?
– Вы.
– Я был в Вене шесть раз.
– Меня интересует тот раз, когда вы там были во время коммунистического путча.
– Если вас интересует эта тема, поднимите правительственный официоз – в нем печатались мои статьи.
– Они были напечатаны лишь после вашего возвращения в Ригу. Я их читал. Меня интересует, что вы делали в Вене – не как журналист, а как личность.
– Это разделимые понятия?
– Для определенной категории лиц – бесспорно.
– И говорите-то вы в полицейской манере: «категория определенных лиц»… Не диалог, а цитата из доноса…
Хаген засмеялся:
– Это свидетельствует о том, что я как личность неразделим с профессией, которой посвящаю всю свою жизнь.
– Браво! Я аплодирую вам! Браво!
– Итак… Вы в Вене…
«А он ничего держится после той оплеухи с Мэри, – отметил Пальма. – Или он все-таки имеет что-нибудь против меня?»
– Бог мой, ну опросите обитателей кафе «Лувр». Там сидели все журналисты, немецкие в том числе.
– Они уже опрошены, милый Пальма.
– Значит, они вам подтвердили, как я проводил в «Лувре» свободное время?
– Почти все свободное время. А где вы бывали по ночам?
– Как где? У женщин. В вашем досье это, наверное, отмечено…
– И ночью второго февраля вы тоже были у женщин?
– Конечно.
В ту ночь он был не у женщин. В ту ночь нацисты загнали восставших в заводской район; выхода за город оттуда не было. Решили уходить подвалами и проходными дворами к Дунаю. Там никто не ждал восставших, оттуда можно было рассредоточиться по конспиративным квартирам или скрыться в пригородах.
Пальма утром видел, как в центре нацисты расстреляли двух повстанцев – пьяно, со смехом и жутковатым интересом к таинственному моменту смерти. Он бросился в те районы, где еще шли бои. Пройдя фашистские патрули – представителей иностранной прессы здесь не ограничивали в передвижении: в Вену съехались журналисты из Парижа, Лондона, Белграда, Варшавы, – Пальма оказался в самом пекле. Шуцбундовцы – и коммунисты, и социал-демократы, засев на крышах домов, сдерживали нацистов, пока люди спускались в подвалы.
– Можно мне с вами? – спросил запыхавшийся Пальма у высокого старика с забинтованной головой, который вместе с молчаливым парнем помогал людям спускаться по крутой лестнице, которая вела в подвал.
– Кто вы?
– Я из Риги, журналист… Я пишу о вас честно, я хочу, чтобы…
– Нет, – отрезал старик. – Нельзя. – И махнул рукой тем, кто в арьергарде сдерживал нацистов: им было пора уходить, потому что «коричневые» подкатывали крупнокалиберные пулеметы.
– Покажите-ка ваш паспорт, – попросил Пальма тот парень, что помогал старику. Его немецкая речь показалась Яну чересчур правильной, и он решил, что это не австрияк, а берлинец.
Пальма протянул паспорт, тот мельком просмотрел его и сказал:
– Лезьте. Мне будет стыдно, если вы потом предадите этих людей.
– Зачем, товарищ Вольф? – спросил голубоглазый старик с забинтованной головой. – Нам не нужны чужие. Зачем?
– Затем, что при иностранце им, может быть, станет неудобно нас расстреливать, если они все-таки успеют перекрыть выходы к Дунаю.
Они тогда шли проходными дворами и подвалами долго, почти шесть часов. Женщина, которая брела впереди Пальма с девочкой лет трех, вдруг остановилась и стала страшно смеяться, услышав растерянный голос голубоглазого старика:
– Товарищ Вольф, иди ко мне, тут стена, дальше хода нет!
А люди, двигавшиеся сзади, все напирали и напирали. Пальма тогда поднял девочку на руки и начал ей что-то тихо шептать на ухо, а женщина все смеялась и смеялась, а потом увидела дочку на руках у Яна и заплакала – тихо, жалобно.
– Зачем все это? – шептала она сквозь слезы. – Зачем? Карла убили, папу убили, а нас тут хотят задушить… Зачем это? Пусть бы все было, как было, чем этот ужас…
…Вольф вылез из подвала первым. Следом за ним, хрипя и задыхаясь, вылез голубоглазый старик с забинтованной головой.
Вдали высверкивал Дунай, в котором электрически синели звезды. Выстрелы были слышны по-прежнему, но теперь где-то вдалеке. Старик сказал:
– Надо увозить людей за город.
– Увозить? – спросил Вольф.
– Конечно.
– А разве уйти нельзя?
– Нельзя. Люди устали. А на них охотятся. Их перестреляют на дорогах.
– Пускай позовут латыша, – устало сказал Вольф. – Он был где-то рядом с нами…
…Они шли вдвоем по маленьким темным улочкам.
– Зачем вы здесь? – спросил Вольф. – Только для того, чтобы писать в газету, или вам хочется аплодировать победе «правопорядка»?
– Мне хочется оплакивать поражение антифашистов.
– Куда вы пишете?
– В свою газету, французам и англичанам, в «Пост».
– «Пост» не тот орган, где оплакивают коммунистов.
– Почему же? Мертвых там оплакивают, и с радостью.
– Пальма… Ян Пальма… Я где-то слышал эту фамилию.
– Возможно, вы слышали фамилию Пальма-отца, а я – Пальма-младший. Последний раз мы виделись с папой двадцать лет назад.
– Это какой папа Пальма? Шпион из Индии?
– Разведчик, я бы сказал… – несколько обидчиво ответил Ян, – всякий дипломат негодует, когда его легальную профессию смешивают с нелегальной…
– Что это вы так откровенно со мной говорите? – спросил Вольф. – Сыновья должны биться насмерть за достоинство отцов.
– Спасибо за совет. Я учту его. Но использовать на практике, увы, не смогу – человек должен отстаивать свое личное достоинство: только тогда сын жулика может стать пророком, а сестра блудницы – святой.
Вольф хмыкнул, полез за сигаретами:
– Если у вас есть желание стать пророком – достаньте грузовик.
Пальма вытащил из кармана бумажник, открыл его:
– Двести фунтов.
– И у меня полтора.
– Купим машину. Марксистская формула «деньги-товар» не может не подействовать здесь, пока коммунисты не победили, – улыбнулся Ян.
– Эта формула не сразу исчезнет, даже когда коммунисты победят, – ответил Вольф.
Вольф увидел вывеску: «Похоронное бюро». Сквозь жалюзи пробивался свет. Вольф пересек дорогу и распахнул дверь.
Владелец похоронного бюро – маленький толстенький человек с изумительно розовым, здоровым цветом лица, но совершенно лысый – сидел возле телефона:
– Да, да, хорошо господин. Катафалк у вас будет сегодня к утру. Да, господин, я правильно записал ваш адрес. Я знаю этот район, господин.
Он положил трубку, бросился навстречу вошедшим:
– Пожалуйста, господа! У вас горе? Я соболезную, я готов помочь вам.
Снова зазвонил телефон, и хозяин, сняв трубку, ответил:
– Слушаю вас. Да, милостивая дама, я записываю. Берлинштрассе, пять. Сколько мест? Ах, у вас погибло трое! Да, госпожа. Сегодня же у вас будет катафалк. Примите мои соболезнования.
Он положил трубку, развел руками и сказал:
– Господа, тысяча извинений. У меня сегодня очень много работы. Я слушаю вас. – Он раскрыл тетрадку, готовясь записать адрес, куда нужно прислать похоронный катафалк.
В это время снова позвонил телефон.
– Слушаю. Да, господин. К сожалению, я могу принять заказ только на вечер. Одну минуту, сударь. – Он зажал трубку ладонью и, распахнув ногой дверь, ведшую во внутренние комнаты, крикнул: – Ильза, тебе придется самой повести катафалк.
– У меня разваливается голова, – ответил женский голос. – Я работаю вторые сутки. Я не могу, милый, моя голова…
– Твоя голова развалится после того, как мы кончим работу, – хозяин похоронного бюро рассмеялся. Вдруг он оборвал себя, вероятно, смутившись перед вошедшими, и сказал скорбным голосом: – Да, господин, катафалк будет у вас вечером, я записываю адрес.
Положив трубку, он поднялся навстречу Вольфу и Яну, но в это время снова зазвонил телефон.
– Пошли, – сказал Пальма, – тут ничего не получится.
– Минуту, – остановил его Вольф, – погоди.
Они дождались, пока хозяин кончил разговаривать с клиентом – на этот раз его просили о конном катафалке.
– Нам нужны две машины, – сказал Вольф.
– Когда похороны, господин?
– Хоть сейчас.
– Увы… Вы же видели мой объем работ… Если бы не хорошая организация похоронного дела, у нас бы обязательно вспыхнули эпидемии… Столько трупов… Я могу похоронить ваших…
– Друзей…
– Друзей… Какое горе, какое горе… Я могу похоронить их завтра – между тремя и пятью пополудни.
– Мы хорошо заплатим, если вы поможете нам сейчас, – сказал Пальма.
– Очень сожалею, сударь, очень сожалею…
Они шли по совершенно пустой улице, когда их остановили трое патрульных. Старший, очень высокий человек со шрамом на щеке, картинно козырнув, приказал спутникам:
– Проверьте документы.
– Слушаюсь, господин Лерст!
Пальма достал свой паспорт. Лерст увидел латышский герб, снова козырнул – ему, видимо, нравилось это – и спросил Вольфа:
– Вы тоже иностранец?
– Да.
– Можете идти. Только осторожнее. Здесь еще стреляют бандиты.
Когда патруль отошел, Пальма спросил:
– Какой у вас паспорт?
– У меня вовсе нет паспорта, – ответил Вольф. – Давайте завернем налево, там, кажется, таксомоторный парк.
– Ничего себе нервы, – ухмыльнулся Пальма.
– А у меня их нет, – тоже улыбнулся Вольф, – как и документов.
«Центр. …После того как он достал грузовик в латышском посольстве и лично провез семьи восставших через нацистские патрули в лес, я обратился к нему с предложением отправиться в Прагу для встречи с Борцовым, который доставил деньги, собранные МОПРом, столь необходимые для спасения наиболее активных шуцбундовцев. Он принял это предложение, спросив меня, кто я на самом деле. Понимая, что встреча с Борцовым у него неминуема, я сказал ему, что являюсь представителем МОПРа. Он долго раздумывал, видимо, колебался, прежде чем подтвердил свое согласие отправиться в Прагу и провезти через границу чемодан с деньгами, чтобы обеспечить спасение шуцбундовцев. Вольф».
Шифровка Вольфа была доложена руководству. В тот же день, двумя часами позже, в Ригу ушло задание: срочно установить личность журналиста Яна Пальма, сына известного дипломата и разведчика, работающего ныне послом на Востоке.
– Ну, а из отеля, как мне помнится, – продолжал Пальма, наблюдая за тем, как торопливо записывал его слова Хаген, – я сразу же уехал на вокзал, купил билет и отправился в горы – отдыхать и кататься на лыжах.
– В горы?
– В горы.
– В какое именно место?
– Суходревина, по-моему. Это между Братиславой и Веной. Так мне сейчас кажется.
– И вы категорически утверждаете, что с Уго Лерстом в Вене не встречались?
«Что он пристал ко мне с Веной? Я ведь действительно не встречал там Лерста. А если встречал, то, значит, все эти годы он держал меня под колпаком, – быстро думал Пальма, пока Хаген записывал свой вопрос. – Нет, я Лерста там не видел, это точно. Я видел там тысячу лерстов – это было самое страшное».
Он вспомнил, как лерсты, похожие на него лерстенята и лерствятники ворвались в подвал, где прятались женщины и дети, и как они врезались в толпу со своими дубинками, и как в первое мгновение ему показалось, что это все спектакль, что это все в шутку – и быстрые взмахи рук, и крики, и тела на полу, и сладкий запах крови, и сухие выстрелы, почти неслышные в этом вопле. Только когда он увидел, как женщина вытащила за ноги трупик ребенка и стала играть с ним, будто с куклой, – только тогда Ян понял, что все это значит…
– Повторяю: впервые с Лерстом я встретился значительно позже.
– И в Прагу вы из Вены не ездили?
– Значит, Прага вас тоже интересует?
– Интересует, Пальма, интересует.
Пражский отель «Амбассадор» был забит журналистами в тот солнечный, теплый, совсем не февральский день. Здесь проходила пресс-конференция советского писателя Борцова. Маленький черноволосый человек в профессорских очках, весело щурясь, оглядывал зал и рассеянно прислушивался к очередному вопросу корреспондента «Фигаро» из Парижа.
– Вы прибыли сюда только с одной целью, мсье Борцов? – спрашивал журналист. – Только с целью встретиться с вашими издателями? Или у вас есть какие-то иные задачи?
– Задач у меня много, а цель одна: встретиться с издателями моих книг в Чехословакии. Вы информированы совершенно правильно.
– Испытывают ли писатели в России гнет со стороны режима? – спросил журналист из Швейцарии.
– Писатели фашистского, порнографического или расистского толка в нашей стране испытывали, испытывают и будут испытывать гнет со стороны пролетарской диктатуры.
– Я представляю «Тан», мсье Борцов. Скажите, пожалуйста, что вас больше всего волнует в литературе?
– А вас? – улыбнулся Борцов.
– Меня волнуют в литературе вопросы любви и ненависти, террора и свободы, младенчества и старости!
– Здорово! Вы помогли мне ответить. Считайте эти слова моим ответом на ваш вопрос. Вы, видимо, писали в юности новеллы, не так ли?
– Я не писал новелл в юности. Просто, как мне кажется, эти темы в сегодняшней России запрещены, ибо существуют, насколько мне известно, лишь две темы, санкционированные Кремлем: коллективизация и индустриализация.
Борцов ответил, по-прежнему снисходительно посмеиваясь:
– И коллективизация, и индустриализация невозможны без столкновения любви и ненависти, юности и дряхлости, террора и принуждения. Кстати, какие книги советских писателей вы читали?
– Кто кого интервьюирует, мистер Борцов? – спросил журналист из «Вашингтон пост». – Мы вас или вы нас?
– Демократия предполагает взаимность вопроса и ответа.
– Вы женаты?
– Я женат, но правильнее было бы спросить: «Вы влюблены?»
– Вы влюблены, мсье Борцов?
– Я отвечаю на свои же вопросы лишь самому себе.
– У вас есть дети?
– Нет.
– Какое человеческое качество вы цените превыше других?
– Талантливость.
– Ваш самый любимый писатель?
– Вопрос деспотичен. У меня много любимых писателей. Одного писателя любить невозможно – это свидетельствует о вашей малой начитанности.
– Правда, что вы являетесь резидентом Коминтерна в Европе? – спросил корреспондент «Берлинер цайт».
– Лично мне об этом неизвестно.
– Я представляю здесь газету «Жице Варшавы», – сказал молодой журналист, поднимаясь. – Пан Борцов, вы утверждаете, что представляете свободную литературу демократического государства. Не видите ли вы парадокса в том, что утверждаете себя свободной личностью, в то время как в вашей стране отсутствует многопартийная система?
– По-моему, вы смешиваете свободу личности с многопартийной системой. Эти понятия между собой не связаны, хотя я убежден – исторически они развивались параллельно. Строго говоря, свобода личности может развиваться и при многопартийной, и при однопартийной демократии. Вопрос в том, как относиться к понятию свободы личности. С моей точки зрения, свобода личности – суть свобода развития заложенных в личности задатков. Вопрос о том, сколько партий ссорятся в парламенте, не имеет отношения к развитию задатков в индивидууме. Сколько партий в Советском Союзе? Одна. Сколько партий в Соединенных Штатах? Две. Следовательно, по вашей логике, в Соединенных Штатах в два раза больше демократии, чем в Советском Союзе? Сколько партий во Франции? Шестнадцать. Следовательно, во Франции свободы в восемь раз больше, чем в Соединенных Штатах? Счет в математике начинается с единицы, а не с двойки. Я взорвал ваш вопрос. Я не дал вам развернутого ответа. Я считаю своим ответом на ваш вопрос книги моих друзей, советских писателей, мои книги… Может быть, поначалу вам следует прочитать книги моих друзей. Тогда мы будем говорить на равных, тогда вы будете доказательны.
– Могу я просить мистера Борцова о личной беседе? – поднявшись, спросил Пальма.
– Просить можно кого угодно и о чем угодно, – улыбнулся Борцов. – В двенадцать часов ночи я буду у себя в номере, милости прошу. Еще вопросы, господа?
Штирлиц на всякий случай проверился: свернул в маленький переулок и подождал, не покажется ли сзади хвост. Он в общем-то был уверен в том, что чист, но, поскольку сейчас он ехал на квартиру, куда раз в месяц приходил резидент советской разведки, известный Яну Пальма как Вольф, в Лондоне – как Бэйзил, а Исаеву – как Василий Ромадин, Штирлиц был особенно тщателен: хвост мог притащить за собой Вольф, а это было равнозначно обоюдному провалу.
Сегодня на рассвете, когда Хаген разыскал его и сообщил, что найдено тело Лерста и что пришло предписание брать Пальма как человека, подозреваемого в убийстве, Штирлиц успел позвонить по известному ему телефону и сказать, что «вчера он условился о встрече с девушкой из кабаре „Лас Брохас“, но, к сожалению, дела помешают ему воспользоваться заказанным для них номером». Это был пароль, который означал для Вольфа, сидевшего в горах у партизан, сигнал тревоги и вызов в Бургос, на Калье де ла Энсенада. Здесь было удобно, потому что старый дом имел два выхода – и на шумную улицу, где можно затеряться в толпе, и в тихий переулок с тремя проходными дворами.
Штирлиц пришел на встречу за две минуты до условленного времени. Дверь ему открыла Клаудиа. Испанка, она содержала эту квартиру уже полгода, не сомневаясь, что работает на разведку Гейдриха. Штирлиц несколько раз принимал здесь своих испанских «гостей» и дважды дипломата из итальянского посольства. Штирлиц написал в свое время рапорт в Берлин, что работает с Клаудией, – несколько раз он возил ее на корриду, брал в горы, когда ездил ловить рыбу. Женщина была влюблена в него, хотя считалась обрученной с офицером, воевавшим на фронте.
– Добрый день, моя прелесть, – сказал Штирлиц, погладив ее по щеке, – идите к себе и не высовывайте носа: я жду гостя.
Он постоял в сумрачной, пахнувшей темнотой прихожей, пока Клаудиа ушла в дальнюю комнату, придвинул к двери стул, чтобы услышать, если дверь откроется, и сел на маленькую софу возле вешалки, сделанной из оленьих рогов.
Направо была «жилая» комната Штирлица, а налево – ателье: здесь, в Испании, он начал заниматься живописью. Это была единственная возможность отдохнуть: цвета Испании таковы, что сами по себе просятся на холст. Штирлиц писал маслом и гуашью. Когда он стоял у мольберта, наступало расслабление, и он ощущал цвет, форму и солнце, все время солнце: такова уж Испания – здесь во всем чувствуется особое, желтое, синее, дымно-серое, раскаленно-красное, голубоватое, белое солнце…
«Вася придет через полторы минуты, – устало подумал Штирлиц, закрыв глаза. – Не Вася. Вольф. Какой, к черту, Вася?! Нельзя позволять себе даже в мыслях называть его Васей… Ну и что мы сделаем – даже вдвоем – за то время, которое нам отпущено? Нельзя, чтобы Дориана увезли в Берлин. Черт, отчего так болит желудок? Эти бесы в кабаках здесь легко продаются, могут сыпануть какой-нибудь гадости проклятому немецкому дипломату, который никак не соглашается подвербоваться ни к грекам, ни к мексиканцам… Самые могучие разведки мира! Зуд в простате, а не разведки, а ведь как суетятся… Кто, интересно, через них работает? Мои шефы из СД или Лондон? Или Париж? Или?… Гробанут ведь за милую душу от чрезмерного энтузиазма…»
Штирлиц открыл один глаз и посмотрел на часы. Прошло полторы минуты. В дверь постучали. Штирлиц поднялся и негромко сказал:
– Вводите. Не заперто.
Он сказал это по-итальянски: о том, что вокруг него вертелись «римляне», он написал в свое время официальный рапорт Лерсту и получил его санкцию продолжать встречи. На всякий случай, пока они с Вольфом не ушли в комнату и не включили музыку, здесь, возле лестничной площадки, стоило соблюдать осторожность.
Вольф был в больших очках и в берете, гладко обтягивавшем его шевелюру, голова поэтому казалась лысой. Он специально подбривал виски очень высоко, чтобы сохранялась эта иллюзия, когда приходил из отряда, где была рация, в Бургос.
Они обменялись молчаливым рукопожатием и пошли в комнату, окна в которой были забраны толстыми деревянными ставнями – даже днем здесь поэтому бывало прохладно.
Вольф выслушал Штирлица молча, тяжело нахмурившись.
– Это страшно, – сказал он. – Я уж не говорю о том, что в Берлине бедняге Дориану будет крышка…
– Эмоциональную оценку я бы дал более конкретную, – хмыкнул Штирлиц. – Нас с тобой ожидает аналогичная крышка. Какие предложения?
– Никаких.
– Смешно выходить на связь с центром только для того, чтобы сообщить им эту новость. Надо входить с предложениями.
– Выкрасть Дориана можно?
Штирлиц отрицательно покачал головой.
– Даже если мы пойдем на риск устроить нападение на твою контору?
– Когда Хаген почувствует, что вы одолеваете, он пристрелит Дориана. Кофе хочешь?
– Нет. Воды хочу.
– По-моему, у Клаудии нет холодной воды. У нее всегда есть холодный тинто[1].
– Угости холодным тинто.
– Сейчас схожу на кухню.
Штирлиц убавил громкость в старинном граммофоне, но Вольф остановил его:
– Пусть играет, я люблю это танго.
Штирлиц вернулся через минуту с холодным глиняным кувшином и двумя стаканами.
– Смотри, – сказал Штирлиц, – этот высокий граненый стакан похож на…
– Да… Только у нас из таких пьют водку…
– Слушай, а в Барселоне есть немецкий «юнкерс»?
Вольф долго пил красное вино. Он делал маленькие глотки, глядя при этом на Штирлица, и тот заметил, как в уголках четко очерченного рта его товарища появилась улыбка. Вольф поставил стакан на стол, достал из кармана платок, вытер грани так, чтобы не остались следы пальцев, закурил и сказал:
– Ты чрезвычайно хитрый человек.
– Ну и как ты оцениваешь это мое качество?
– Я оцениваю его самым положительным образом, несмотря на то что ни в Барселоне, ни в Мадриде «юнкерсов» у республиканцев пока нет…
Борцов спросил:
– Вы проверились?
– Что, что? – не понял Пальма.
– Никто за вами не шел?
– Так я же спросил на пресс-конференции, могу ли я вас навестить, и все слышали ваш ответ.
Борцов перевел шкалу приемника на другую станцию – передавали последние известия из Вены.
– Это все верно, – сказал он, медленно стягивая через голову галстук, – только выходить вам отсюда придется с саквояжем, в котором лежат деньги, много денег, и провозить их вам придется через границу – нелегально, вот в чем вся штука. Сунут вам провокацию тут – что тогда?
Пальма усмехнулся:
– Мне говорили, что ваши люди очень боятся провокаций в демократических странах.