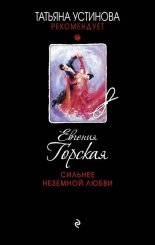Прощание с Матерой Распутин Валентин

– Я на нее смотрела, а она на меня не смотрела, а потом глазы открыла и тоже начала смотреть. И показала.
– Она тебе ничего не говорила?
– Не говорила.
– Ой-ёшеньки, – тяжело вздохнула Варвара. – Чё ж это будет-то?
– Она у нас вообще-то не пакостливая, – вступился за Нинку Михаил. – Никогда не замечали. Может, на мать правда озаренье какое перед смертью нашло. А Нинка тут подвернулась.
Упоминание о смерти заставило их насторожиться, присмиреть, даже задышали с опаской, словно воздух уже был отравлен въедливой потусторонней затхлостью, пускать которую живым в себя нельзя. Потом тихонько придвинулись к старухиной кровати, стараясь найти в матери перемены, и не нашли: теперь, когда свет стал богаче, чем утром, лицо старухи казалось еще мертвее, но сердце по-прежнему продолжало колотиться, не пуская ее оторваться от людей.
Михаил вышел на улицу к Илье, который все это время забавлялся тем, что крошил курицам хлеб, и рассказал:
– Нинка говорит, мать-то наша глаза открывала.
– Смотри-ка ты! – удивился Илья, отпугивая ногой петуха. – Чего это она?
– Не знаю.
– А жива?
– Живая. Смотрели.
День все же выдался с умыслом, не просто так, и умысел этот вполне мог касаться старухи – день был мягкий и легкий и ровно сошелся над самой деревней, а то и над самой старухиной избой. Время уже придвигалось к обеду, а он так и не расшумелся, тек тихо и близко, оберегая кого-то от вредного беспокойства. Небо с утра приспустилось ниже и вроде бы задумалось, но и не сильно, в ожидании. В сентябре дни тоже стоят не молоденькие, много чего с весны повидали, а этот, похоже, и вовсе все под собой знал и в чем-то, может, хотел помочь старухе, чтобы не находиться ей больше на суровом, судном месте, – только и надо было: незаметно передвинуть ее вперед или назад, чуть подтолкнуть оттуда, где она застряла.
Михаил и Илья, притащив водку, теперь не знали, чем заняться: все остальное по сравнению с этим казалось им пустяками, и они маялись, словно через себя пропуская каждую минуту. Они поговорили о том, что Татьяны почему-то все нет и нет, хотя можно было уж десять раз приехать; Илья спросил у Михаила, когда ему на работу, и Михаил ответил, что он на эти дни отпросился, – слова выходили пресные, без особой надобности и не складывались в разговор. Братья понимали, что сейчас все главное для них состоит в том, чтобы ждать, но и ждать тоже можно по-разному, и они исподволь уже начали тревожиться, так ли ждут, как надо, не теряют ли даром время. Напоминание об умирающей матери не отпускало, но сильно и не мучило их: то, что надо было сделать, они сделали – один дал известие, другой приехал, и вот водку вместе принесли, – все остальное зависело от самой матери или от кого-то там еще, но не от них – не копать же в самом деле могилу неготовому человеку! Всегда у них была работа, а тут вдруг ее не стало, потому что перед бедой, которая заступила за порог, справлять постороннюю работу считалось нехорошо, а от самой беды никакого дела больше не шло.
– Скажи все же, а, – начал опять разговор Михаил. – Ведь знали, что вечно жить не будет, что близко уж. Вроде привыкнуть должны, а не по себе.
– А как иначе, – подтвердил Илья. – Мать.
– Мать… это правильно. Отца у нас нет, а теперь мать переедет, и всё, и одни. Не маленькие, а одни. Скажем, от нашей матери давно уж никакого толку, а считалось, первая ее очередь, потом наша. Вроде загораживала нас, можно было не бояться. А теперь и думай…
– А зачем об этом думать? Думай не думай…
– Оно и незачем, а все равно. Вроде как на голое место вышел, и тебя видать. – Михаил крутнул кудрявой головой, помолчал. – Опять же о своих ребятах если сказать. При живой бабке они все будто маленькие, и сам ты молодой, а теперь вот умри она, ребяты сразу начнут тебя вперед подталкивать. Они же, холеры, растут, их не остановишь.
Михаил не успел закончить – выскочила Надя, быстро, не своим голосом позвала:
– Мужики, идите скорей. Скорее.
– Что там такое?
– Мать…
Пока они подоспели, старуха уже опять впала в беспамятство, но перед тем она вдруг выговорила какое-то слово, какое – не расслышали, а когда Люся и Варвара подбежали, она еще смотрела перед собой, но глаза уже смыкались. Что-то происходило в ней, хоть она больше и не двигалась, что-то внутри заработало – видно было, что старуха вот-вот стронется с остановившего ее места, даже в лице наметились изменения: оно стало глубже, смелей, и оттуда, из глубины, вздрагивало оставшимися в нем силами, как бы подмигивая закрытыми глазами.
Они стояли вокруг матери, со страхом смотрели, не зная, что думать, на что надеяться, и этот страх совсем не походил на все прежние страхи, которые выпадали им в городской и деревенской жизни, потому что он был всего страшнее и шел от смерти, – казалось, теперь она заметила всех их в лицо и больше уже не забудет. Страшно было еще и видеть, как это происходит: когда-нибудь это должно было произойти и с ними, а они считали, что это то самое, и не хотели смотреть, чтобы не помнить о нем постоянно, и все-таки не могли отойти или отвернуться. Еще и потому нельзя было отойти, что она, занятая их матерью, могла остаться этим недовольной, а обращать лишний раз на себя ее внимание никому не хотелось. И они стояли, не двигались.
Что-то стало биться в старухины глаза, шевелить их, и глаза не сразу, не легко, но открылись, попробовали пойматься за свет и не смогли, сорвались. Несколько минут они лежали спокойно, затем опять пришли в движение и разомкнулись, на этот раз силы в них было больше, и они в своем ненадежном свете что-то увидали, что-то такое, что тоже было ненадежным и туманным, как видение; на лице старухи появилось выражение отчаяния и боли, и она, поморгав, стараясь отогнать видение, не смогла отогнать его и укрыла глаза, быть может, сама. Но то, что привиделось старухе, уже не отпускало ее, звало проверить, – казалось, к ней пришли воспоминания о том, что она жила, и ей захотелось узнать, где она теперь и в уме ли она; старуха тихонько раздвинула веки, над которыми у нее нашлась власть, и выглянула – нет, они не пропали, она увидала их ближе и признала, – этого она уже не вынесла в молчании, из ее груди посыпались слабые сухие звуки, похожие на клохтанье.
Варвара ахнула, пришлепнула ладонями и прижала их к горлу, останавливая себя, чтобы не закричать.
Старуха умолкла, словно истратила в себе остатки живого, глаза ее нехотя сморились, но дыхание было сильным, и она от него вздрагивала, потом и дыхание направилось, но не пропало, по нему было ясно видно, как шевелится на старухе одеяло.
Они ждали, особенно близко чувствуя, что они сыновья и дочери этой старухи, и жалея ее, а еще больше жалея себя, потому что после ее кончины им останется горе, навязанное смертью, которое кончится не скоро. И еще каждый из них по-своему чувствовал новое, не бывавшее прежде в нем горькое удовлетворение собой оттого, что он здесь, при матери, в ее последний час, как и положено сыну или дочери, и тем самым заслужил ее прощение – какое-то другое, не человеческое прощение, мало имеющее отношение к матери, но все же необходимое в жизни. Это были страх и боль вместе, больше всего их пугало, что они, глядя на долго отходящую мать, видели, казалось, то, что людям смотреть нельзя, и, сами не веря себе, они хотели, чтобы это кончилось скорей.
Старуха все дышала.
Илья, не вытерпев, шепнул что-то Михаилу, и старуха, как бы отзываясь на этот шепот, вдруг опять открыла глаза и не убрала их, всмотрелась. Она хотела заплакать, но не смогла, плакать было нечем. Ей кинулась помогать Варвара, заголосила легко и громко, и старуха, поддержанная нужным ей голосом, осталась, не провалилась; слова уже ушли от нее, и все-таки те, самые родные, которые всегда были на языке, она вспомнила.
– Лю-ся, – с усилием выговорила она. – Илька. Вар-ва-ра.
– Мы здесь, мама, здесь, – удержала ее Люся. – Лежи. Мы здесь.
– Матушка-а! – зашлась Варвара.
Старуха поверила и голосам, и себе, в последней радости и страдании затихла. Она смотрела на них, а сама, казалось, погружалась куда-то все глубже и глубже. И вдруг ее что-то остановило, она вернулась, лицо ее сморщилось, глаза кого-то искали. Варварин плач мешал ей, и Варвару догадались остановить.
– Таньчора, – с мольбой выговорила старуха.
Они переглянулись, вспоминая, что мать звала так Татьяну, и враз ответили:
– Еще не приехала.
– Вот-вот будет.
– Теперь уж скоро.
Старуха поняла, чуть кивнула. На лицо ее нашло спокойствие, глаза закрылись. Она опять была далеко.
Они отошли – надо было отдохнуть. Возле старухи осталась одна Варвара, она тихо плакала, и плач ее никому не мешал. Умолкни она, и им стало бы не по себе.
3
Чудом это получилось или не чудом, никто не скажет, но только, увидав своих ребят, старуха стала оживать. Еще два или три раза она теряла память, будто незаметно проваливалась куда-то в темную глубь под собой, и все же всякий раз приходила в себя и с боязливым стоном приоткрывала глаза: тут они или они ей пригрезились? Кто-нибудь из них обязательно был рядом и звал остальных – она узнавала их и, успокаиваясь, старалась заплакать. В последний раз ей это удалось, и она сама услыхала свой слабый, издержавшийся голос, который, видать, не собирался больше выходить наружу и оттого вышел с таким мучением.
Мало-помалу старуха выправилась, и все, что в ней было и что должно было ей подчиняться, одно за другим находилось и как будто даже годилось для жизни. Перед вечером она отошла уже настолько, что позвала Надю и попросила:
– Ты бы сварила мне кашу… ту, которую маленькой Нинке варила. Из крупы. Жиденькую.
– Манную, что ли?
– Ну-ну, ее. Маненько. Горло промочить. Жиденькую.
В доме забегали, захлопотали. Слава богу, манка у Нади была, но печь к той поре после обеда совсем остыла, и кашу решили варить на электроплитке, долго искали ее, кое-как нашли, да оказалось, что электричество еще не подают. Отправили Михаила растапливать во дворе каменку, Люся с Варварой заспорили, в чем варить кашу, потому что Варвара готова была сразу скормить матери ведерный чугун, а Люся стояла на том, что много нельзя, вредно, лучше потом сварить снова; Илья топтался возле Михаила, приговаривал:
– Мать-то наша, а? Видал?
– Родова, – соглашался Михаил. – Нашу родову так просто в гроб не загонишь.
– Кашу, говорит, хочу – ага. Видал? А я, правду сказать, не верил, думал, все, концы. А она: кашу, говорит, хочу, варите, говорит, мне кашу. Проголодалась, значит. Ишь ты!
– Старухи вообще долго живут. Чем дряхлее старуха, тем дольше живет – вот заприметь. На нет вся сойдет, душе не в чем держаться, а все шевелится. Откуда что и берется.
Илья удивленно настаивал:
– Но мать-то, мать-то наша! Кто бы мог подумать! Мы с тобой ей водку на поминки берем, а она говорит: «Подождите, – говорит, – добрые люди, дочери мои и сыновья, я еще каши не наелась». – Он смеялся и повторял: – «Каши, – говорит, – еще не наелась, а без каши я ничего не знаю».
– Ослабела, – более сдержанно отвечал Михаил. – Оно конечно: столько дней крошки в рот не брала. Хоть до любого доведись.
Набежали женщины с банками и склянками, засуетились вокруг печки, будто в шесть рук собирались готовить бог знает какое заморское кушанье, а не обыкновенную манную кашку в маленькой кастрюльке. Тут же путалась под ногами Нинка; Надя гнала ее и никак не могла прогнать: Нинка понимала, что произошло что-то важное, необыкновенное, и боялась пропустить то, что произойдет дальше. Варвара вспотела, она то и дело бегала от печки к старухе, придерживая в беге живот, как беременная, и подбадривала мать:
– Потерпи, матушка, потерпи, скоро сварим.
Кашу подала старухе Люся, не отпуская кружку, чтобы мать не выронила ее на себя. Старуха пила маленькими, осторожными глотками: отхлебнет два раза и отдохнет, еще отхлебнет и еще отдохнет. И отпила-то как грудной ребенок, не больше, а уж откинулась, изнемогла, махнула на кружку рукой, чтобы убрали, и долго еще не могла отдышаться.
– Ой, задохнулась вся. Хуже работы. У меня и животишко-то уж в узелок завязался. Где же его растянешь?
– Ничего, мама, ничего, – сказала Люся. – Так и надо. Сейчас желудок перегружать сразу нельзя. Мало ли что. Пусть он сначала это переварит, потом можно еще попить.
– Животишко-то уж в узелок завязался, – с горькой радостью повторила старуха. – Думал, па-е-хали, Анна Степановна, на новую фатеру. Па-е-ехали с орехами. – Налаживая дыхание, она невидяще смотрела куда-то вверх, и оттого казалось, что она бредит. – А я-то, бесстыжая, омманула его, назадь повернула, а тепери над им же и изголяюсь, кашу в его толкаю. А куды ему мою кашу, сама бы подумала.
Воздуха ей не хватило, и она закашлялась. Люся торопливо сказала:
– Тебе нельзя, мама, говорить так много. Ты еще совсем слабая.
– Молчать, ли чё ли, буду? – куражливо ответила старуха. – В кои-то веки ребят своих вижу, и молчком? – Они все были тут, возле нее, и она обвела их неверным и все-таки гордым взглядом и уже спокойнее, сохраняя силы, продолжала: – Меня будто в бок кто толкнул: ребяты приехали. Нет, думаю, я сперва на ребят на своих погляжу, а уж после помру – боле мине ничё-о не надо.
Говорить ей все же было трудно, она поневоле умолкла. Но радость, оттого что она видит перед собой своих ребят, не давала ей отдохнуть, билась в лицо, шевелила руки, грудь, забивала горло. Они все были возле матери и, чтобы она не отзывалась им, тоже молчали, берегли ее. Старуха несколько раз принималась плакать, глядела на них суматошно и нетерпеливо, вздрагивая маленькой головой, когда переводила глаза с одного на другого, и только узнавала их: это Илья, это Варвара, это Люся; но от слез ли, или глаза сами по себе видели еще плохо, не могла рассмотреть их как следует и от этого сердилась на себя. Ей вдруг опять пришло в голову, что все вокруг нее неправда – сон или видение, последнее воспоминание о прожитой жизни, – потому и стоит перед глазами туман.
Отгадывая себя, она замерла, затихла.
В комнате было светло тем неярким и чистым светом ясного дня, который бывает перед закатом. Старуха лежала изголовьем к окну, и солнце падало ей в ноги, осторожно остывало на стене напротив, словно, выступая, пронизывало ее с другой стороны. Только теперь старуха увидала солнце и, узнав его, обрадовалась; после долгих, беспамятных потемок ей сразу стало теплее от него, бережным дыханием оно пошло в ее тело, подгоняя кровь. Это был не сон: во сне и солнце не греет, и мороз не холодит. В ушах легонько зазвенело дальним приятным звоном, и так же неожиданно, как возник, этот звон прекратился. Старуха стала вспоминать, откуда он мог взяться, и решила, что он сохранился в ней еще с той поры, когда она была молодой, – тогда она часто его слыхала и запомнила на всю жизнь. Он не мог обмануть ее, он был живой.
– Господи, – прошептала старуха. – Господи.
Она набралась духу и подняла глаза. Они были здесь, ждали на прежнем месте, но старухе показалось, что они подошли ближе. Теперь она видела их яснее.
С краю, возле самой двери, как чужая, стояла Надя, рядом с ней Илья.
К Илье старуха не могла привыкнуть еще в прошлый раз, когда он после Севера заехал домой. Рядом с голой головой его лицо казалось неправдашним, нарисованным, будто свое Илья продал или проиграл в карты чужому человеку. И весь он изменился, побойчел, хотя по годам пора бы уж ему и остудиться, – видно, то место, где он жил, этому далеко не родня и Илья никак не может от него опомниться.
Старуха смотрела на Илью долго, до неловкой устали. Она искала в нем своего Илью, которого родила, выходила и держала в памяти, и то находила его в теперешнем, то опять теряла. Он был, но далеко. Столько нового мяса наросло на нем, столько всяких людей без нее ходило с ним рядом, что она верила и не верила, что это он, будто ее Илью, как малую рыбешку, заглотила рыбина побольше да порасторопней и теперь они живут в одном теле. Позови его, и он, может статься, сразу не откликнется, будет вертеть головой, его зовут или не его, и кто зовет, откуда. Старуха верила, что там, куда он уехал, лучше ему не стало. Жил бы да жил в деревне… Про Люсю это и подумать даже нельзя, она городская вся, с ног до головы, она и родилась-то от старухи, а не от какой-нибудь городской, наверно, по ошибке, но потом все равно свое нашла. Илья – нет. Он не походил ни на городского, ни на деревенского, ни на чужого, ни на себя. У него было веселое лицо, но старуха, глядя на Илью, жалела его, а почему жалела, она и сама не знала, не умела понять.
У Ильи и в самом деле было веселое лицо. Он все еще не мог прийти в себя от удивления, что старуха жива, и с удовольствием смеялся над собой, над Михаилом, нал сестрами: «Как она нас, как?! Ай да мать, ай да молодчина!» Еще перед обедом они все были уверены, что старуха мучится, умирая, а она мучилась, чтобы выжить. Больше всего Илья смеялся над собой: вчера, отпрашиваясь с работы, он так и объявил в гараже: еду хоронить мать, нисколько не сомневаясь, что для того и едет. Что же он скажет им теперь? Фокус, да и только. Илья готов был поверить, что мать схитрила, нарочно прикинулась умирающей, чтобы собрать их всех возле себя, и хотя он знал, что это чепуха, которую придумал он сам, все же не торопился ее отбросить, покатывал ее в себе, потрагивал, заигрывал с ней, как кошка с мышкой. То, что старуха сама попросила кашу и совсем как ребенок, только что не из соски, заново училась ее есть, и забавляло, и трогало Илью до гордости, и он с любопытством поглядывал на мать: интересно, что она выкинет еще?
Старуха дала глазам отдохнуть и нашла Варвару, которая сидела у нее в ногах. Та нетерпеливо подалась вперед, навстречу материнскому взгляду. «Матушка-а! Это я, твоя старшая. Я к тебе повидаться приехала, а ты на меня и не смотришь», – потерянно кричала вчера Варвара. Вот и увидала старуха свою старшую, дождалась Варвара. Увидала, и качнулось старухино лицо, едва приметно кивнула она и вздохнула; кивнула – словно благословила Варвару на спокойную старость, единственное счастье, которое ей еще могло достаться, а вздохнула – потому что знала: нет, не достанется, нечего и думать. Глядя на Варвару, она едва удержала себя, чтобы не заплакать. Ей-то самой больше ничего не надо, все осталось позади – что вышло и не вышло, а Варвара еще поживет, и как хорошо было бы ей больше не маяться.
Она не пропустила и Михаила, хоть и помнила его лучше себя. Старуха хотела знать, какой он рядом с ними со всеми, а не один. Она часто вспоминала поговорку стариков: первый сын Богу, второй царю, третий себе на пропитание. Богу да царю она отдала больше, теперь их считать – только плакать. Но и живые, как только подрастали и годились для работы, один за другим уезжали, будто кто-то, как щенят, отнимал их от матери и отдавал в чужие руки. Остался только Михаил, и старуха с полным правом могла бы сказать, что родила его для себя, чтобы дожить ей свою жизнь на старом родительском месте, потому что не представляла, как можно жить где-то еще. Она не считала Михаила лучше других своих ребят – нет, такая ей выпала судьба: жить у него, а их ждать каждое лето, ждать, ждать…
Если не брать трех лет армии, Михаил все время был возле матери, при ней женился, стал мужиком, отцом, как все мужики, заматерел, при ней все ближе и ближе подступал теперь к старости. Она привыкла, присмотрелась, притерпелась к нему, и все те изменения, которые происходили в нем, оставались для нее незаметными. Вчера был Михаил и сегодня Михаил. Другое дело Илья: уехал на Север с волосами, приехал без волос – тут слепой и тот увидит. Даже у Варвары, которая наведывалась домой чуть ли не каждый месяц, мать находила перемены: еще больше потолстела, стала к месту и не к месту по-старушечьи вздыхать, плакаться, в голове на черном появились блестки. Илья, Люся, Варвара, Таньчора для того, казалось, и уезжали от матери, чтобы она потом заметила, как они изменились, они привозили ей себя как заботливое напоминание о годах: с последней встречи прошло столько-то времени, столько-то, столько-то, и с каждым таким приездом старуха, спохватываясь, перебегала вперед сразу на несколько лет. Получалось, что она старела годами, которые они привозили ей от себя, а не своими собственными, сама она незаметно копошилась да копошилась бы на одном месте, покуда не придет ее час. Но разве могла она об этом думать? Она ждала их, задыхаясь от ожидания, особенно когда слегла, а они в последнее время стали приезжать совсем редко. У каждого из них своя семья, своя жизнь. Тоже не молоденькие; годы теперь их не гладят – скребут. Старуха понимала.
На Люсю она только взглянула и сразу отвела глаза, а потом посматривала на нее осторожно, украдкой, как бы подглядывая. При Люсе старуха стыдилась себя – того, что она такая старая и слабая, ни кожи ни рожи. Ей казалось, что и дочь тоже должна стыдиться ее, – вон какая она красивая, грамотная, даже говорит не так, как говорят здесь: слова вроде те же, но, чтобы понять их, надо слушать изо всех сил. Что ни спроси ее, она обо всем знает; поездила, поглядела за десятерых. А что старуха видала в своей жизни? День да ночь, работу да сон. Вот и крутилась будто белка в колесе, и все, кто жил с ней рядом, тоже крутились ничем не лучше, считая, что так и надо. У Люси была какая-то другая, непонятная, неизвестная старухе жизнь, в которой многое делается по-новому; может, даже умирают по-другому – старуха не знала. Ей уже поздно отказываться от своих привычек – и умрет она, как придется, и поплачет, когда будет охота, по старинке, и все же при Люсе старуха старалась удерживать себя, чтобы не сказать и не сделать лишнее – что может рассердить дочь.
Она все смотрела и смотрела на них – жадно, торопливо, неловко – и никак не могла насмотреться, все ей было мало.
– Ты успокойся, мама, – сказала Люся. – Успокойся и отдохни.
– Приехали. – Старуха подобрала руки к лицу и, закрываясь, заплакала.
– Приехали, мать, приехали, – бодро ответил за всех Илья. – Все в порядке.
Варвара вздрогнула, гудящим шепотком оборвала его:
– Не кричи ты громко. Не видишь, чё ли?
– Приехали, – успокаиваясь, повторила старуха в себя. – Дождалася. – Она сказала это тем доверчивым, облегчающим душу голосом, каким разговаривают вдвоем между собой немолодые, много лет знакомые люди, со вниманием помолчала и, все так же не открывая глаз и не меняя голоса, продолжила: – А я пробудилася и ничё понять не могу, то ли я это, то ли уж не я. Я ить совсем себя не чуяла, ни рук на мне, ни ног. Одна душа, и та заблудилася. Думаю, это я померла, не иначе, оттого и темень кругом. Слава те господи, отмучилась. Только подумала так, вижу: светло как днем. А это глаза у меня сами открылись, а я ничё и не знала. – Она открыла глаза, ни на кого не глядя, дала им привыкнуть к солнцу. – Вот этак же светло, ишо посветлей было. Думаю, кто это меня красным днем дразнит? А вас увидала и более того не поверила. Рази я надеялась? Да чтоб все тут, только Таньчоры нету… Лежу и думаю: «Не иначе как человеку уж после, как он помрет, последняя радость дадена: ишо раз поглядеть, чё он от себя оставил, об чем его сердце болело».
– Ну, мать, молодец ты у нас, – с веселым удивлением покачал головой Илья. – Давно ли слова не могла сказать, и вот, пожалуйста, вовсю разговорилась. Прямо как по писаному чешешь.
– И правда, мама, не говори много, тебе нельзя, – опять предупредила Люся, но без прежней уверенности, чего-то пугаясь.
– Да нет, пускай говорит, если может. Я только к тому, что быстро она этим делом овладела. Как в сказке – ага.
– Это всё вы, – просто объяснила старуха. – Из-за вас. Я ить там уж была. Там, там, я знаю. А вы приехали – я назадь. Мертвая не мертвая, а назадь, сюды к вам воротилась. – Голос ее тянулся тонкой, западающей ниточкой, которая то терялась, то находилась снова. – Бог помог. Он мне и силу дал, чтоб я маненько на человека походила. Чтоб вам не сильно меня пугаться, чтоб рядышком со мной сидеть можно было.
– Интересно ты, мать, рассуждаешь.
– У какой матери середь своих ребят силы не прибудет? Чё тут говореть! Да ишо если столько не видала их. Мне тоже охота под послед словом с вами перекинуться. Я от рук, от ног последнее отыму, а голосу добавлю. А он и сам идет, без меня. Я только зачну, а дальше он сам, покуль не устанет. От начать, правда что, тяжело. Вроде сперва на вышину надо запрыгнуть. И одышка ишо берет. От и сичас. Погодите.
Отдыхая, она долго смотрела на стену, где держалось солнце; после дневной белой кипени оно стало мягче и отчетливей. На лицо старухи постепенно нашло глубокое и ясное, идущее от вечера, который старые люди чувствуют лучше, выражение покоя. Казалось, она забыла и про себя, и про своих ребят, ничего не чувствовала, даже собственного дыхания, и все равно дышала какими-то другими силами, ничего не видела, кроме солнечного пятна на стене, но и это пятно, разрастаясь, само вливалось в ее открытые глаза и не отпускало их своей властью – все равно жила, и жила яснее, зорче, чем раньше, не напрягаясь для жизни, а находясь под ее осторожной охраной.
Они ждали, уходить было нельзя. Разговаривать между собой тоже казалось нехорошо – они ждали мать, как она им велела, стараясь не смотреть друг на друга.
– Меня и тепери ишо на руках будто кто держит, – сказала она, не обращаясь к ним. – Будто ничё под мной твердого нету. А не страшно – будто так и надо.
Она еще помолчала в полной неподвижности и очнулась. Глаза устало опустились, в лице появилось обычное у людей терпение, но у нее при виде своих ребят оно тут же перешло в тихую, теплую радость. И опять старуха не поверила себе, осторожно спросила у Люси:
– Вы-то когда приехали?
– Мы с Ильей вчера вечером.
Старуха сказала не сразу, подождала:
– Гостинцы мне никакие не привезли?
– Мы ведь торопились, мама, некогда было, – неловко замешкавшись, ответила Люся. – Кое-как успели. На пристань бегом пришлось бежать.
– Я ить не себе, – сказала старуха. – Мне ничё-о не надо. Я это Нинке, холёсенькой моёй. – Она потянула руки к Нинке, которая стояла возле Варвары, и не дотянуться. Нинка боязливо отступила от ее рук. Старуха не обиделась. – В чемодан для ее спрячу и после по одной достаю. И себе радость, и ей. А она уж разнюхала. Лезет ко мне: «Давай, баба, посмотрим, чё там лежит». Я ей говорю: «Ничё там не лежит», а она опеть. Я вроде ничё не понимаю; как маленькая, играюсь с ей. Она у меня холёсенькая, всё с бабой. Поговорю с ей, и на душе легче. Известно, старый да малый.
– Я утром схожу в магазин, куплю что-нибудь, – пообещала Люся.
– Да не надо ей ничего, – застеснялась Надя. – Голодная она, что ли? Это уж она так лезет, приповадили. От баловства.
– Сходи, сходи, – сказала старуха. – Только все ей не ондавай, маненько рази. Остальное мне ондай, я спрячу. Будто от меня будет. Я уж под послед ишо покормлю ее.
Люся вспомнила:
– Я тебе, мама, виноград отправляла – ты ела его?
– Эти ягодки-то зеленые?
– Да. Виноград называется.
– Ну его к лешему. В ём посередке косточки, а у меня терпения нету их выбирать. Нинке и скормила. Она прямо так с косточками и хрумкала – только шум стоит. Пускай, думаю, есть, раз ндравится. А мне куды его? Только добро переводить. Мне ить, Люся, ничё-о не надо. Мне Бог, вишь, какую радость дал: на вас перед смертью поглядеть. Я рази не понимаю?
Она опять заплакала – бесслезно, спокойным и недолгим облегчающим плачем – и умолкла, вытерла сухие глаза.
– Ничего, мама, ничего, – сказала Люся. – Теперь поправляйся, и все будет хорошо.
Старуха не ответила, она снова смотрела на солнце на стене, к которому липли последние мухи, и во всем ее положении была такая завороженность и нечеловеческая стынь, будто ей дано было увидеть и запомнить то, что больше никто не смог бы понять. В избе стало совсем тихо, а с улицы ничего не доходило. Хорошо еще, что на этот раз она молчала недолго и высветленным, затаенно-сообщающим голосом, который, казалось, выходит из нее сам, без ее участия, – она и глаза не отняла от стены – сказала:
– А я ить, Варвара, слыхала, как ты вчерась надо мной ревела. Голос твой был, твой – я помню. Только я-то подумала, что это ты надо мной над мертвой уж ревешь. Ну. Я ишо раньше, как в памяти была, лежу и думаю: «Вот помру, приедет Варвара, обголосит меня, и то ладно». Так на тебя и надеялась. А тут слышу: ты. Вот я и посчитала, что это я тебя скрозь смерть слышу – не иначе.
Варвара онемело, с открытым ртом закивала матери – не могла ни сказать, ни заплакать. Илья подошел к Михаилу, удивленно шепнул:
– Чудная у нас мать. Тебе не кажется?
– А кто скажет, моить, оне потом ишо сколько да-нить слышат, – добавила старуха. – Кто скажет? Никто не скажет. Глаза-то им закроют, а уши открытые.
– Ты о чем это там, мать? – громко спросил Илья. – О чем говоришь-то?
– Об чем? – Старуха по голосу нашла Илью и не смогла ответить, застыдилась. – Я ить от радости, что вижу вас, не знаю, чё и сказать. Болтаю чё-то. Вы уж не сердитесь на меня, на старую. Я совсем из ума выжила.
– Да ты что, мать! Ты думаешь, мы не рады, что у тебя все в порядке? Давай теперь только быстрей поправляйся. В гости с тобой пойдем, ага. Чего нам дома сидеть! Вместе соберемся и пойдем в гости. А не пойдешь – на руках унесем. Тебя есть кому таскать.
– Попей еще. – Люся подала матери кружку с кашей. – Теперь можно, желудок уже работает, справится.
Старуха попробовала приподнять голову, Люся помогла ей. На этот раз старуха отпила больше и, отдышавшись, удивилась сама себе:
– Глите-ка! Пошло, как в проваленную яму. Правду говорят: и худой живот, да хлеб жует.
– Ну вот, теперь будет лучше. А потом еще попьем.
– Ой, да в меня боле не полезет.
– Ничего, ничего, полезет.
– Мне только бы Таньчору дождаться, – жалобно сказала старуха. – Чё от она так долго не едет? А ну-ка чё стряслось?
– Приедет, мама, не беспокойся. Ей далеко ехать. Обязательно приедет.
Старуха попросила:
– Вы сами-то покуль не уезжайте от меня, побудьте со мной маненько. Таньчора приедет, я не буду вас задерживать. Я знаю: вам долго, подимте, нельзя.
– Никто пока и не собирается уезжать.
– Побудьте. Я не стану вам надоедать, я тихонько. Лежу и лежу. Это я сичас разговорелась, долго не видала вас. От радости сама над собой не владею. Потом я молчком буду. Вы занимайтесь своим делом, каким охота, а я за день хошь раз на вас взгляну, и мне хватит.
– Что это еще за «надоедать» да «молчком»? – выговорила старухе Люся. – Как тебе не стыдно, мама! Что ты выдумываешь? Тебе не в чем оправдываться перед нами – пойми, пожалуйста, это.
– Не говори так, матушка, – подхватила Варвара. – Не говори так, а то я заплачу.
Илья тоже не вытерпел:
– Ну, мать, ну, мать…
Старуха счастливо умолкла, но не смогла удержать в себе радость:
– Глаза открою: вы тут, возле. Сичас, кажись, взлетела и полетела бы куда-нить, как птица какая, и всем рассказала бы… Господи…
День отходил все больше и больше, но в избе было светло и ясно: четкое закатное солнце било прямо в окно, под которым лежала старуха. Солнце теперь доставало до потолка и сверху вторым своим светом расходилось по сторонам. Все здесь было знакомо, все было родное старухиным ребятам, и все, казалось, чутко повторяло мать: заговаривало вместе с ней или умолкало, вглядывалось в них с ласковой и горделивой настойчивостью и отзывалось тихим, неназойливым вниманием. Не верилось, что изба может пережить старуху и остаться на своем месте после нее, – похоже, они постарели до одинаково дальней, последней черты и держатся только благодаря друг другу. По полу надо было ступать осторожно, чтобы не стало больно матери, а то, что они говорили ей, удерживалось в стенах, в углах – везде.
И воздух здесь был тот же, каким они дышали в детстве; он заманивал, затягивал их на много лет назад, но у него, как и у старухи, недоставало сил.
Окна осели, превратились в оконца. Чтобы пройти через двери, приходилось нагибать голову. Странно и непривычно было видеть неоштукатуренные стены, которые выпучивались белеными бревнами. Под матицей по-прежнему болталось кольцо для зыбки, а зыбка раньше почти никогда не пустовала; вырастал из нее один, ложился другой.
По обе стороны от окна над столом в двух рамках густо лепились фотографии. Тут были все они: Илья и Михаил в армии – с приветами из тех мест, где служили; Илья за рулем машины на Севере; Варвара со своим мужиком – он и она с одинаково вылупленными глазами и с каменной прямотой стоят, держась за спинку стула, будто боятся упасть; Люся где-то на курорте среди большущих чудных деревьев; еще деревенская Татьяна с узким напуганным лицом, словно она фотографировалась под страхом смерти.
На божницу в правом углу теперь ставили лампу. В эту ночь лампа пригодилась, а так ее не снимали оттуда месяцами, и старуха крестилась, не подымая глаз. Еще правее, ближе к старухиному окну, висел плакат, завезенный в леспромхоз в позапрошлом году. На нем мальчишка с лопатой выходил из лесу. Подпись внизу разъясняла: «Сажай деревьев больше, будешь жить дольше». Лес поначалу был зеленым, но мухи быстро сделали его желтым, да и мальчишка за эти годы тоже порядком постарел, но к картинке притерпелись и не снимали.
Теперь старуха смотрела на своих ребят спокойнее, поверив, что они вдруг ни с того ни с сего не вспугнутся и не пропадут, и говорила легче, без натуги, сразу находя нужное слово. Она еще уставала от разговора, но уже сама руководила собой: надо было отдохнуть – отдыхала, она снова приучилась оставлять себя на потом, на то, что будет впереди, а не изводиться вся на то, что есть.
Светлый вечер подходил к концу, в избе, да и не только в избе – везде, выстывало, смежалось.
Люся стала поправлять на матери одеяло, отогнула его и вдруг замешкалась, позвала:
– Михаил, иди-ка сюда.
– Что там такое?
Старуха, ничего не понимая, испуганно и стыдливо убрала с того места ноги.
– Посмотри-ка, Михаил, – показала Люся, пружиня голос.
– Куда?
– Вот сюда, сюда.
– Ну и что?
– Как «ну и что»? Он же еще и спрашивает! Неужели ты не видишь, на каких простынях лежит у вас мама? Они же черные. Их, наверное, целый год не меняли. Разве можно больному и старому человеку, твоей матери, спать на таких простынях? Как тебе только не стыдно?
– Что ты меня стыдишь? Я что тебе – простынями заведую?
– Но посмотреть-то ты мог? Сказать, чтобы их постирали, уж, наверное, ты мог? Это-то не трудно. Или тебе все равно, в каких условиях находится наша мама? Ведь ты здесь хозяин.
Люся не смотрела и не видела, как густо, не зная, куда себя девать, залилась краской Надя.
– Люся! Люся! – останавливала старуха и наконец остановила, Люся повернулась к ней. Старуха обессиленно махнула рукой: – Я ить надсадилась тебя кричать. Ты пошто у меня-то не спросишь? Нашла о чем говореть, о простынях! Господи, да куды мне белые простыни? Я всю жисть без их спала да жива была. Это тепери новую моду зачели: белое под себя подстилать. Ну-ка, постирай-ка их, этакую оказину, – без рук останешься.
– Мама, я сейчас разговариваю с Михаилом, а не c тобой.
– Да пошто с Михаилом-то, когда я тебе говорю, а ты свое? У меня, подимте, голосу нету, мне вас не перекричать будет. Мне Надя хуже горькой редьки надоела с этим простыням: давай вытащу да давай вытащу. Я ей говореть устала, чтоб отвязалась. Лежу и лежу, и нечего меня шевелить. Помру – одну холеру обмывать надо, без этого в гроб не кладут.
– Зачем ты заводишь опять об этом разговор?
– Ишо не лучше! Зачем, говорит. – Старуха досадливо умолкла, но долго не вытерпела: – Напужала ты меня, по сю пору опомниться не могу. Думаю, чё там она подо мной увидала, неужли я чё наделала? С меня тепери какой спрос? Хуже малого ребенка. Сама себя не помню.
– Зато твой сын должен помнить и о себе, и о тебе, – упрямо стояла на своем Люся. – На то он и сын. У меня в голове не укладывается, как это ты, наша мать, можешь лежать на таких простынях. И никому до этого нет дела, все считают, что так и надо. Безобразие!
Надя оторвалась от стенки, возле которой она молча простояла все это время, и выскользнула из комнаты. В неловком молчании Михаил буркнул:
– Дались тебе эти простыни.
– Здря ты, Люся, здря при ей говореть стала, – покачала головой старуха. – Она тут невиноватая. Она сколь раз ко мне вязалась. А мне все неохота было шевелиться. И неохота, и боюсь.
– Но ведь я ей ничего и не говорила.
– Дак оно и не ей, а все равно ей. Кому ишо? Она за мной ходит, не Михаил.
Варвара вздохнула:
– Ой-ёй-ёшеньки! Прямо не знаю, чё и сказать.
– Не знаешь – молчи, – хмыкнул Илья. – Гляди, беда какая!
– А я тебе ничё и не говорю.
– Я тебе тоже.
Чтобы замять неприятный разговор, старуха спросила:
– Я тут покуль без памяти была, Мирониха не приходила поглядеть на меня?
– Нет как будто, – ответил Михаил.
– Прибежит. Как услышит, что я оклемалась, прибежит, расскажет мне чё-нить. Не знаю, как бы я без ее век свой доживала. А с ей поговорю, и веселей. Прибежит, это она прибежит, – кивала старуха. – Скажет: «Тебя, девка, пошто смерть-то не берет?» Как была насмешница, так и осталась. Погляди, сени у ей полые, нет? Тут в окошко видать.
Варвара поднялась, навалилась на подоконник.
– Нет, вроде на заложке.
– Убежала куда-нить. На месте-то никак и не сидится, все бы бегала. А пускай побегат, покуль ноги носят. Ишо належится. Я бы сичас за ей тоже побежала, дак куды… отбегалась.
– Мать, – перебил Илья, подмигивая Михаилу. – Мать, ты не будешь возражать, если мы с Михаилом за твое выздоровление немножко выпьем?
– Ну, мужики, ну, мужики, – встрепенулась Варвара. – Вы без этого прямо жить не можете.
– Не можем, ага, – согласился Илья, широко улыбаясь.
– Да пейте, когда уж вам так охота, – позволила старуха. – Только чтоб не здесь, не возле меня. Мне его на дух не надо.
– Это – пожалуйста, мы можем и уйти. Мы ведь, мать, за тебя. Чтобы ты больше не хворала – ага.
– Да пейте хошь за нечистую силу. Ей это боле поглянется.
– Ну, ты тоже скажешь: за нечистую силу…
– За ее и есть. И чё оне в ём находят, какую сласть? Да меня озолоти, я в рот не возьму. А они ишо и деньги на его переводят. Ну? Будто когда бы я сказала: не пейте, вы бы и послушались… Куды там. Раз уж надумали, пейте, только чтоб не сильно допьяна. Тебя я выпимши не знаю, какой ты есть, а Михаил у нас ой нехороший. Эта бедная Надя от его, от пьяного, рада не знай куды убежать.
Повеселевший Михаил без обиды отговорился:
– Ты, мать, всех собак теперь на меня навесишь.
– А я никогда здря не говорю.
– Да нет, мать, мы немножко. Только так, для аппетита.
– На Надю я пожалиться не могу, – продолжала старуха, когда мужики ушли. Она смотрела на Люсю, будто говорила ей одной. – От он мне сын родной, а она невестка, а я никому не скажу, что она мне чё плохое сделала. За мной ходить тоже ить терпение надо иметь. Она ни одного разу на меня голос не подняла. Если не было, чё я буду здря на человека наговаривать. И попить подаст, и в грелку воды нальет. Я ить, когда холод, грелкой этой только и живу, у меня кровь совсем остудилась – что есть она, что нету, названье одно.
– Укрываться надо лучше, – со знанием дела посоветовала Варвара.
– Куды ишо укрываться, когда Надя на меня и так все тряпки постаскивает, пошевелиться нельзя. Тяжесть лежит, а ноги дрогнут. Вот я и кричу Надю или Нинку за ей пошлю. Она придет, нагреет воды – будто легче. А без Нади я давно бы уж пропала – чё тут говореть. Он трезвый-то человек, рази уркнет когда, а как пьяный напьется – ой, никакого житья нету. И ко мне вяжется, и к ей. Хошь на край света убегай от его.
– Как это вяжется? – насторожилась Люся.
– Как… А так. От зачнет он с ее вино это требовать, а сам уж на ногах кой-никак стоит. Вынь да положь ему. Где она его возьмет, на какие шиши? Гонит ее в магазин, и все: «Ты там работаешь, тебе дадут». Дак, она, подимте, там только убирается, она к вину этому близко не подходит. Сам бы маленько подумал. Нет, ему хошь кол на голове теши, он свое. А попробуй я его заворотить, он на меня, да с таким злом: «Ты, мать, лежишь и лежи, помалкивай». Я и молчу. Я его, пьяного, не дай бог бояться стала. Ну. Я и Нинку к себе беру спать, когда он там крылит.
– Вот оно что, – сдержанно отозвалась Люся.
– Прямо ни стыда ни совести у человека, – возмутилась Варвара, оглядываясь на дверь. – К родной матушке так относиться – это совсем обнаглеть надо!
– А то придет, от так же сядет: «Давай, мать, поговорим». Об чём я с им, с пьяным, буду говореть, когда у его голова не держится. «А, ты со мной не хочешь разговаривать? Я тебя кормлю, пою, а ты поговореть со мной брезгуешь?» Да я пошто брезгую-то? Приди ты, когда в уме, и разговаривай, а не так. Ну. Пристанет – ой-ёй-ёй!
– Я поговорю с ним, – пообещала Люся. – Я с ним поговорю – не обрадуется. Что это, в самом деле, такое?! «Пою, кормлю…» Этого еще не хватало.