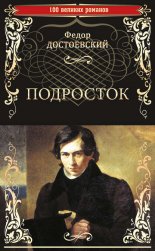Дети августа Доронин Алексей

Время шло… С каждой зимой асфальтовые дороги становились все гаже, моторы и другое железо там, где за ними не ухаживали человеческие руки, приходили в негодность, горючего стало не достать. Многие пытались его делать – кипятить земляную нефть или слитые из бензобаков и цистерн остатки в самодельных бочках-«самоварах», а потом бодяжить разными примесями, чтоб повысить октановое число. Но мало у кого получалось. Моторы после такой диеты плевались и чихали, но не работали.
К тому же худо-бедно у людей пошло натуральное сельское хозяйство. И постепенно оседлая жизнь показала свои окончательные преимущества над кочевой. Вот Гога, хоть его и недолюбливали за гонор, был в авторитете как самый старый и владевший своей делянкой еще с довоенных времен.
Он и ему подобные держали теперь не склады с продуктами, а деревни с рабами (кто-то их звал холопами, смердами, шохами, шестерками, чушками). У которых не было никаких прав, и с которыми можно было делать что угодно.
В пору, когда Окурок был еще молокососом и не выкурил своей первой самокрутки, уже никто в их краях не слышал о походах в соседний регион на сотне машин в составе пятисот стволов за хабаром. Пощипать соседа, если тот расслабил булки – дело святое, все этим занимались, кроме последних лохов. Но масштабные набеги ушли в прошлое, в область сказок и баек.
Поэтому, хоть он и честно пересказывал маме услышанные в карауле слухи, в какого-то Виктора с погонялом «Уполномоченный» сам верил с трудом. Посланцы могли себя выдавать за кого угодно, хоть за пиндосов самих. Это вообще могли быть какие-то левые чуваки, такая же бомжатина, как он, решившая взять барина-барыгу на понт. А нападение мог устроить кто-то из соседних хозяев, который решил Гоге рога обломать и его полянку занять.
Ну не могла эта орава прикатить настолько издалека. И быть настолько огромной.
В этот раз стрельба была недолгой и вскоре сошла на нет. Доносились только отдельные выстрелы, похожие на звук плеток. Танковые пушки так и не заухали. Хоть Гогины танки Т-72 и не трогались с места, их можно было использовать, чтоб огонь вести. Они у него вокруг дома стояли, наполовину в землю врытые. Были к ним снаряды или они стояли там просто для острастки – неизвестно, но в этот день до главных калибров дело не дошло. Стреляли только из винтовок и автоматов.
Примерно в два часа ночи на юге раздалось несколько громких хлопков, каждый из которых сопровождался раскатистым эхом. Почти одновременно со стороны асиенды раздалась серия взрывов, и взметнулось пламя.
– Что за херня?
– Это артиллерия, сынуля, – баба Стеша в молодости начинала день с чашки кофе и просмотра новостей на планшете. – Для миномета далековато. И звук не такой. Наверно, самоходная.
Димон в который раз поразился ее познаниям. Он часто замечал, что любой из «тогдашних» знает больше, чем кто угодно из молодых. Причем об абсолютно разных вещах.
– Как бы по нам шмалять не стали, – заросший щетиной, как кабан, ее сын не выглядел напуганным, но она инстинктивно потянулась, чтоб успокоить его. Он был у нее один, остальные умерли, не дожив до пяти годов.
– Не будут. Снаряды ценные. А мы нет. Разозлил наш барин опасных людей. Сейчас поджарят его, как собаку на костре.
Упоминание о собаке заставило желудок Окурка заворчать и завертеться. В пути он не ел ни крошки. В рюкзаке у него лежал тощий заяц с хрящеватыми ушами и несколько ворон. Охота была неудачной, в ловушки никто больше не попал. Он с радостью бы сожрал их хоть жареными на шампуре, хоть вареными в котелке, но костер разводить опасно. Идти до материной хаты тоже опасно. Решили пересидеть какое-то время в здании старой совхозной конторы. И крыша, и огонек развести можно, и спокойнее. Кто знает, что сделают новые с деревней? Может, вырежут всех под корень и скажут, что так и было. Такое случалось.
Внезапно оба – даже подслеповатая бабка – увидели зарево там, где должна была стоять усадьба Гоги. Огненный столб был заметен даже с такого расстояния, несмотря на низко висевшие облака и медленно сгущавшийся туман. Только не получалось разглядеть, горит ли это сам трехэтажный дом или какая-то из построек.
Окурок никогда бы не подумал, что пожар у этого кровососа не доставит ему никакой радости. Но случилось так, что не успел он позлорадствовать, как услышал звук приближающегося автомобиля. И не одного, а нескольких – надрывный рев машин, у которых явно были проблемы с глушителями.
Во время службы у Гоги он закорешился с его механиком Геннадьичем, и они часто зависали в гараже вместе с канистрой спирта. Чего у хозяина только не было, даже лимузин – длинная тачка, которая по новым дорогам могла бы проехать от силы сто метров. На ней давно никто не выезжал. На ходу из всего этого богатства была одна малолитражка, собранная из частей «кореек», «японок» и «китаек», которую Гогоберидзе раз в неделю использовал для поездок по своим плантациям. Остальное ржавело на пустыре за особняком и постепенно разбиралось на запчасти.
Но та малышка «звучала» совсем иначе. А то, что он слышал сейчас, могло быть только машиной из гаража Гогиного «вермахта», как тот звал свою маленькую армию, где было два пикапа, два УАЗика, микроавтобус и бортовой КамАЗ.
Приближались машины с юго-востока, со стороны заброшенных корпусов совхоза.
Окурок ускорил шаг, стараясь при этом не шуметь. Сердце билось в ускоренном ритме, он почти тащил старуху на себе. Старое двухэтажное здание агрохолдинга было уже совсем рядом. И хотя мимо него шла протоптанная тропка, внутри уже лет тридцать пять не ступала ничья нога. В свое время отсюда вынесли все, что можно, даже двери кабинетов сняли и стеновые панели скрутили. Теперь это место обживали только насекомые – но не тараканы, которые любили тепло и исчезли вместе с людьми, а пауки, муравьи и двухвостки.
Обычно интуиция, которую он называл «чуйка», никогда не изменяла Окурку, а в этот раз решила над ним пошутить. Стоило ему чуть приоткрыть заржавевшую дверь черного хода, протолкнуть вперед престарелую мать и самому заскочить следом, как тихий, но командный голос с легким присвистом, прозвучавший из темного угла коридора, приказал:
– А ну стоять, не дергаться!
Тут же кто-то сзади заломил ему руки, а другой в это время сорвал винтовку у него с плеча. И только теперь до Окурка дошло, что же не понравилось ему в знакомом дворике этой конторы. А вот что: притулившийся в дальнем конце у самого забора УАЗ камуфляжного цвета. А если присмотреться, можно было заметить на мокрой земле и следы от шин.
«Етить, это ж надо так влипнуть», – стукнул бы он себя по глупому лбу, если бы его не держали цепкие руки. И тут же понял: это не люди Гоги.
Хотя неясно: легче ему от этого должно стать или тяжелее.
Их не били, сноровисто обыскали и тут же отодвинули к стене. Два крепких здоровых мужика в темно-зеленом камуфляже держали их под прицелом автоматов – и была это у них, если Окурок хоть что-то понимал, армейская «цифра». Фонарь, закрепленный на цевье одного из «калашей», направил свой луч прямо Окурку в переносицу. Он непроизвольно закрыл глаза рукой.
– Ну и встреча, – пробасил другой голос, более низкий, чем у предыдущего. – Шонхор, гляди, кого нам принесло. Это местные, кажись.
Незнакомый рев между тем нарастал и доносился уже с улицы. Во дворе раздался скрежет тормозов. Фары мазнули по окнам лучами яркого света.
– А вот и наши подъехали, – тот, кого назвали Шонхором, выглянул в окошко. Он был невысокий, восточного вида и лысый, как коленка. – Чингиз, я пойду за своими пацанами пригляжу. А ты смотри, пленных не угробь. Сам голову снимет. Сказал, чтоб волоса не упало.
– Да знаю я, – грубо отмахнулся тот, кого назвали Чингизом. Несмотря на имя (хотя это могла быть и кликуха), которое ассоциировалось у Окурка с узкоглазыми людьми, он был на внешность чисто русак – пузатый, бородатый, в лохматой черной шапке, с большим красным фурункулом на щеке, похожим на вишню. Изо рта у него нестерпимо воняло.
– Э-э, бабка, ты чего? – вдруг вырвалось у одного из автоматчиков.
Только сейчас они заметили, что старуха, которую, как не представляющую интереса, ненадолго упустили из виду, сползает по стене, держась за сердце.
– Мама! – Окурок хотел броситься к ней, но второй часовой заступил ему дорогу и толкнул прикладом.
– Не дергайся. Ей уже не поможешь, – Шонхор наклонился и положил старухе руку на шею, потом посветил в глаза. – Душа выходит. Кондрашка хватила.
– И правда… Не дышит, – убедился Окурок, когда его наконец-то допустили к ней.
Дыхания не было. То, что в первую секунду он принял за ее дыхание, было его собственной дрожью. Пульс, едва ощутимый, с каждым ударом слабел.
– Что ж вы сделали, блин? – только и выдавил он из себя.
Никаких крепких выражений, которые он так любил. Могли и рядом уложить. С них станется.
– А мы-то с какого бока? Каждому свой срок, – философски заметил лысый.
– Кажись, окочурилась со страху, – кивнул бородач, – Шонхор, прикапывают пусть твои. Моим людям щас могилы копать не с руки. Нам надо весь этот гадюшник разведать.
– Сделаем, – кивнул косоглазый и, высунувшись на улицу, зычно крикнул: – Доржи, Бурульдинов! Ко мне! Похороните старуху вместе с нашими.
Ему даже не позволили с ней попрощаться.
Они вышли во двор. Окурок, он же Дмитрий Савинов, которого до сих пор конвоировал один из автоматчиков – он про себя называл их «солдатами» – вдруг почувствовал незнакомый укол боли – не в груди, а в душе. Вспомнил все…
Как она ему последние куски отдавала. Как рассказывала про старый мир, про разные его чудеса. Как жизни учила насколько могла – отца он своего никогда не видел, а сменявшиеся у нее в те годы, когда она еще не была старухой, хахали были готовы отвесить малявке только подзатыльник. Это были первые послевоенные годы. Время жуткое, даже страшнее, чем теперь. Земля тогда почти не родила. Ходили в Сталинград, на пепелище банки консервные откапывали. Дохлую собаку за царский ужин считали. Иногда рвало – и поди пойми, от «лучевой» или от той банки. Но как-то выжили, как-то сдюжили… И вот поди ж ты – такая нелепая смерть. Вроде и не убили, а если бы не эти гаврики, могла бы еще пару лет проскрипеть.
Он знал, что рано или поздно это произойдет, но не думал, что так скоро.
«Если со мной что-то случится, последуй моему совету. Хватит шляться одному. Все твои дружки-сталкеры долго не проживут, – она часто употребляла это незнакомое ему слово. Сами они называли себя «старателями». – Помрут раньше сорока. Прибейся к сильным. С хорошим начальником не пропадешь. Лучше быть слугой у хорошего хозяина, чем королем помойки. И не забывай завязывать шарф поплотнее». Такой она была, его мама.
– Скажи спасибо, что сам к ней не отправился, мужик, – грубо толкнул его в плечо бородатый Чингиз. – А то мы сегодня многих… того. Хочешь жить – отвечай на вопросы. Ты чем по жизни занимаешься?
– Старатель я, – без колебаний ответил Окурок. – Хожу, где придется, тащу, что приглянется. Как говорят: быстро стырил и ушел – называется «нашел». Охочусь. Вон, зайца добыл.
– Да на хрен нам твой заяц! – зло фыркнул бородач. – Ты нам зубы не заговаривай.
«Похоже, я им зачем-то нужен», – смекнул Димон. Во внезапно проснувшуюся в этих головорезах добросердечность он не верил.
Это радовало. Значит, не убьют сразу. А там можно и лыжи навострить.
«Эх, мама…» Вот и остался он один на свете. И можно идти куда хочется, хоть до Тихого, мать его растуды, океана, хоть до Москвы, етить-ее-через-коромысло-три-раза, столицы нашей родины. Только радости от этого нет.
Ему вспомнилось, как мама включала ему детские песенки в наушниках плеера, когда за окном их хибары завывал ледяной ветер. Седьмая зима его жизни была не ядерной, но такой же страшной. Солнце неделями не выглядывало из-за туч… А однажды весной мать вытащила его из ледяной воды, разлившейся прямо по улицам. И только потом сказала, что не умеет плавать, кроме как на матрасе. Вспомнил, как шли по железнодорожным путям мимо города. Не Сталинграда. Другого. Ростов? Воронеж? Самара? Нет, какое-то другое название. Забыл. А вокруг были кости и скелеты – скелеты людей, животных, скелеты домов, скелеты машин. И даже вместо деревьев – скелеты. И поезд на рельсах, который они обошли – нагромождение ржавого железа, вокруг которого тут и там валялись кости в обрывках одежды.
– Выходит, местность тут ты хорошо знаешь? – Шонхор переглянулся со своим вспыльчивым товарищем. – Поможешь нам?
– Почему же не помочь? – твердо, без угодливости ответил Димон. – Говорите, что делать.
– Запоминай, – произнес Борманжинов. – Повторять не буду.
Голос его был, как и имя с фамилией, свистящим и шипящим. Откуда же он? Киргиз? Узбег? Здесь у них таких отродясь не водилось… а может, до войны водились, но повымерли. Скорее, калмык. Они тут близко жили. Он даже одно время с ними дела имел.
«Будем считать, что калмык».
– Короче, – продолжал лысый. – Послезавтра в семь утра мы заедем в село… у вас есть часы?
Окурок помотал головой. Он лихорадочно пытался вспомнить, у кого есть рабочие часы, но последние механические сломались в прошлом году. А для электрических давно не было батареек. Раньше у него были наручные, но в походах ломались часто, да и надобности особой не было. В Сталинграде, конечно, можно было найти все, что угодно – но руки не доходили. Да и батарейки почти все уже были испорченные.
– …ть. Ну и лоси, – брезгливо выматерился Чингиз. – Живут тут как дикари, даже времени не знают.
– Так дай ему, Федор, у тебя же их мешок. Дай нормальные. Швецарские.
– А я-то с чего, Шонхор?.. Без ножа режешь. Э, ладно, – махнул рукой разведчик и запустил лапищу в подсумок, достав оттуда блестящие «котлы». – На, подавись. Надеть-то сумеешь?
Часы были неплохие – тикали, время показывали. Стрелки светились в полутьме. А надпись «ватер-резистант» латышскими буквами означала, что вода им не страшна. Это, конечно, вранье, бултыхать в ручье или луже их все равно не стоит.
Цифры на них были тоже не русские (1, 2, 3…), а иностранные (I, II, III…).
Окурок считал себя довольно грамотным. Знал цифры и буквы – и российские, и латышские, хотя складывал первые только в короткие слова, а вторые почти никак. И предложения больше чем из пяти-шести слов воспринимал плохо. От них начинала болеть голова. Умел считать в столбик, мама научила… но с умножением и делением даже двузначных чисел у него был швах.
Остальные – и крестьяне, кто из молодых, и его друзья-бродяги – знали еще меньше.
Наверно, часики позаимствовали в доме Гогоберизде. Любил он такие безделушки, но конкретно эти для него слишком простые, их носил кто-то из «быков». Может, и со жмурика сняли. Интересно, живой ли Гога вообще или в плену? Плюнуть бы в харю ему напоследок. А гаденышу Королёву сапогом по поганой роже – за каждый его тогдашний удар кнутом по одному разу…
– Вот тебе значок, – Борманжинов протянул ему какую-то металлическую бляху. – Ты еще не один из нас, но для твоих ближних это будет так. Повесь на грудь.
Только сейчас Окурок увидел, что такие же штуки носят оба его собеседника. Да и у всех остальных бойцов, на которых он мимолетом скосил глаза, были подобные.
Значок был необычный. Он был похож на старые монеты из желтого металла, но не золота. На круглой металлической пластине поверх другого изображения была грубо отштампована картинка, изображавшая раскинувшего крылья орла. Орел был с двумя головами, почти как Горыныч, только головы были в коронах. А сидел он, опираясь когтями на знамя, к которому были прислонены меч, щит, автомат и гранатомет. Чуть ниже «калаша» и РПГ было изображение какого-то острова. Цеплялась пластина к одежде припаянной булавкой.
Закончив с этими делами, Шонхор открыл было рот, чтоб продолжить, но в этот момент раздался посторонний шум – негромкий, но противный треск.
– Чингиз, Кречет, доложите обстановку! – произнес голос. Доносился он из расстёгнутого кармана жилета Шонхора и показался Окурку бесцветным и полностью лишенным выражения. Будто автомат говорил. Не тот, который стреляет, а тот, который, как Шварцнегр, железный.
Он догадался, что это, хотя сам в руках таких не держал. У Гоги тоже было несколько радиостанций, но побольше, которые только в машине можно возить. Удобная штука.
На обоих голос подействовал как удар плетки. Они напряглись, лица их вытянулись, а про пленника словно на время забыли.
– Первый, это Кречет, – видимо, сначала должен отчитаться Шонхор. – Докладываю! Обнаружен один местный. Мужчина лет сорока пяти, охотник, у них в авторитете. Согласился сотрудничать. Обещает устроить прием и обеспечить дома.
Рация произнесла в ответ что-то скороговоркой. Что именно, Димон не слышал, но тон показался ему недовольным.
– Так точно. Никакой больше задержки… Слушаюсь. Передаю, – спихнул рацию своему товарищу калмык с видимым облегчением.
Федор в свою очередь доложился так:
– Говорит Чингиз. Разведали северную окраину деревни. Никто не живет. Живут только в центральной части. Нет, еще не посчитали… На въезде с трассы баррикада из шин. Оттого и задержались…
В ответ понеслась целая тирада раздражённых фраз.
– Виноваты… – голос брутального разведчика тоже приобрел заискивающие интонации. – Заставим местных разобрать! Сами продолжаем движение на юг, обстановку оценим. Есть!
Разговор оборвался. Видимо его прервали на той стороне.
– Еще раз, – Шонхор опять повернулся к Димону, спрятав антенну и убрав рацию в карман. – Послезавтра в семь мы заедем в село. Семь утра. К этому времени приберитесь. И разберите эту хрень на въезде. Она нам мешает.
Он указал на главную улицу, раньше носившую имя Пролетарская. Баррикаду рядом с бывшим постом ГАИ отсюда не было видно, но речь шла о ней.
Окурок хотел было сказать, что ее построили местные еще пятьдесят лет назад в самом начале Зимы, когда непонятно было, чего дальше ждать и с кем воевать. Из покрышек, досок, шлакоблоков и листового железа. Называли они ее «блокпост» и одно время даже дежурили на ней с ружьями. Потом, когда деревню закабалили, на ней стояли люди Гогиного папаши – собирали дань. Уже с «калашами». А потом, когда тот скопытился, наследник и его «быки» совсем обленились. И дань теперь требовалось свозить к ним на хату. Эдик приезжал в село всего несколько раз в год, чтоб посчитать народ по головам и отобрать по дворам вещи, которые ему приглянулись. Но такие подробности вряд ли заинтересовали бы этих крутых ребят.
– Крупный мусор с главной дороги тоже убрать, – начал загибать пальцы в кожаной перчатке калмык. – Стекла, гвозди вымести, руками собрать. Не дай бог шину пропорем – сожрать заставим. Срач во дворах, которые выходят к дороге, тоже уберите. Заборы там подновите. Выберете двадцать лучших и просторных хат, и пусть люди вещи собирают. Полы и стены помойте, чтоб чисто было. Мы туда вселимся. Простые бойцы в палатках пока поживут, а дома для командиров. Так что не оплошайте. А когда закончите – приходите к половине седьмого к дороге. Одеться всем при параде… В лучшие тряпки. Будете встречать войско Его превосходительства товарища Уполномоченного. И радоваться. Ручками махать, когда он поедет на своей большой машине. Иначе он будет злой. Совсем злой. А вы же не хотите увидеть его злым, да?
Окурок смиренно кивнул. Он и вправду не хотел.
Он уже не очень рад был смене хозяев. Прежний, по крайней мере, не убивал их за просто так, и они знали, чего от него ждать. Но вроде суток должно хватить, чтоб прибраться.
Гости повернулись и пошли к припаркованной в углу дворика машине.
– А можно вопрос? – шалея от собственной смелости, крикнул им вслед Окурок. – Вы кто такие, господа хорошие?
– Да я тебе щас дам вопрос! – проревел Чингиз медведем, развернувшись на пол-оборота и кладя руку на ремень, на котором висел автомат. – Ты кто такой, чтоб вопросы задавать? Сказали – иди, делай.
– Остынь, брателло, – узкоглазый положил руку на плечо товарищу. – Нормальный вопрос у товарища. Дружбан, меня зовут Шонхор, это по-вашему – Кречет. Такой большой хищный птичка. Фамилия – Борманжинов. Я из Калмыкии. Это тут на юге, не сильно далеко. Но вообще у нас в отряде пацаны из разных мест. И из Центра, и с Дона, и с Кавказа. Я – зам по тылу. Это типа завхоза, но круче. Мы армия СэЧэПэ.
В ответ на недоумевающий взгляд Окурка он пояснил:
– Сахалинского чрезвычайного правительства. А этот крутой воин – командир разведроты. Зовут Федор Игоревич, а позывной его Чингиз. Это в честь великого завоевателя древности. Мы служим господину-товарищу Уполномоченному.
– Иванову? – переспросил потрясенный Димон. – Виктору Иванову?
– Ему самому, – ответил с нотками гордости калмык.
Так это не сказки! И большая орда действительно пришла. А это означало, что – к худу или к добру – но их жизнь изменится навсегда.
Окурок не был дураком и вслух возражать не стал, но про себя отметил – ему суют лапшу в уши. Несмотря на то, что академий и даже школ он не кончал, чутьем он понимал – нет никакого правительства давно. Уже лет пятьдесят. Да и Сахалина, скорее всего, тоже нет, или там никто не живет. Где он вообще, этот остров? Рядом с япошками или рядом с турками? Димон попытался вспомнить карту, но память не сохранила те краткие уроки, которые ему давала мать по старым учебникам. Гораздо более ценным казалось научиться ловить рыбу, ставить ловушки на зайцев, шилом, иглой и суровой нитью чинить обувь и одежду… Отбиваться от зверей – двуногих и четвероногих.
Вроде где-то на юге это. Далеко. Никто оттуда бы не добрался по суше.
Конечно, они тоже банда, эти «сахалинцы». Но большая, сильная и организованная. Вон как у них снаряжение подогнано. И какой камуфляж! И какая тачка! И оружие – одного взгляда на их автоматы Окурку хватило, чтоб понять – люди Гоги были им не ровня. А уж артиллерия, которой они шибанули по Гогиному дворцу… даже если промахнулись.
Одно их название говорило о многом. СЧП. Просто музыка. Надо быть грамотным, чтоб такое придумать. Значит, их вожак и кто-то рядом с ним – люди головастые. Все бригады, которые приходили до этого, обычно называли себя по имени населенного пункта, откуда родом были или где вместе сошлись, или где у них лагерь был. Типа саранские, самарские, волжские. Разве что «бешеные» назывались просто «бешеными».
А все их армейские словечки? Сейчас никто таких не употребляет. Только матерятся и ухают, как обезьяны-шимпанзе. А тут сразу видать и дисциплину, и выучку. Народу в деревне это понравится, особенно тем, кто постарше.
Но, конечно, от всего этого они не становились менее опасными. И опасаться надо было не краснорожего буяна с бородавкой. Нет. Выросший на пустырях, в темных дворах и на заваленных мусором улицах, где люди были опаснее волков, Окурок усвоил с детства несколько простых правил. «Бойся не той собаки, которая лает, а той, которая молчит».
Поэтому чувствовал, что Федя ему горло не перережет, хоть и хватается постоянно за нож. Максимум в морду даст. Даже Шонхор и то выглядит опаснее, как затаившийся в траве змей. И нож на поясе тоже носит, и пистолет в кобуре, хоть и завхоз. Такого злить и подводить не надо. Но больше всего надо было опасаться того, чьим голосом говорил этот маленький приборчик. Даже этим двоим он внушал страх. И завтра с ним сюда наверняка приедет орава таких, для кого человека грохнуть – как муху прибить.
– Сделаешь все хорошо, никто тебе голову не отрежет, понял? – Чингиз продолжал брать его на понт, но Окурок смекнул, что бояться не стоит. – А попробуешь сбежать, из-под земли достанем. Мы сюда приехали надолго, если че. Тут теперь наши порядки будут.
– Все, за работу! – Борманжинов дал обоим понять, что разговор закончен. – Послезавтра вы, валенки деревенские, увидите меч Всевышнего. Как наши друзья нохчи говорят.
«Нохчи? – не понял это слово Димон. – Какие еще такие нохчи? Это что, народ, или род занятий, или кличка такая?»
Подъехала еще одна машина – Окурок узнал «японку» из автопарка Гоги. Задняя дверь распахнулась и оттуда, тяжело отдуваясь, вылез… мля, знакомое лицо! Точнее, рожа. Бобер собственной персоной! Уж его-то пропитую морду можно спутать только с чьей-то жопой. И тоже уже значок с орлом нацепил себе на куртку. Так вот кто помог этой братве быстро всю пехоту Гоги уделать. Знал, видно, куда ветер дует.
Бывшая «правая рука» хозяина паскудно улыбнулся, обнажив десять настоящих и восемь золотых зубов – был у них одно время в деревне стоматолог, использовал старые материалы для протезов. Окурок сам ему золотые коронки носил. И зубы драл хорошо. Жаль, после «белочки» на собственных подтяжках повесился.
Бобер был одет как всегда добротно: брюки хорошей ткани, крепкие ботинки, кепка из нерпы – видать «фирма», раз не вылезла за столько лет и не порвалась. Куртка из оленьей кожи, это уже новой работы. Но сальные волосы и мятое, будто распаренное лицо выдавали в нем любителя бухать по-черному.
Гога, сам из-за болезни печени ограничивавшийся стаканом вина из собственного подвала (цел еще тот или нет?), порол Эдика за это как сидорову козу, но шкура у того была, видимо, дубленая. Каждый раз отлеживался, и ставился на прежнее место – никто так, как он, не умел обдирать холопов.
На боку у него болталась кобура, а значит, ему доверяли и он был не пленник. На жирной шее висел металлический свисток, которым он раньше любил подгонять батраков.
– Эй, Бобр! – окликнул его Шонхор. – Я нашел кента тебе в помощь. Теперь берите ноги в руки и идите тормошить ваших утырков. Все на субботник! Чтоб все дочиста вылизали. Пусть знают, что пришли новые хозяева. Доржи и Бурульдинов пойдут с вами.
Двое молодых бойцов с раскосыми глазами, вооруженные «веслами» – «калашами» с деревянными прикладами, остались с ними, переводя с одного на другого настороженные взгляды.
– Все, Чингиз, поехали! У нас дела.
– Еще бы, – огрызнулся бородатый. – Мне Сам сказал тут каждую дыру облазить. Ну все, салаги, послезавтра в семь ждите нас в гости, га-га-га.
Они сели в УАЗ, на вытертое заднее сиденье, где сидел тощий мужик в лисьем малахае, похожий на актера из фильма, который Окурок видел в детстве, когда они с мамой жили в городе Муравейнике у очередного ее хахаля. Только повзрослев, Димон понял, что тот был бандит и рэкетир, поэтому и жили тогда они терпимо – в шлакоблочном доме, даже мясо ели. А батраки там жили в теплушках, кое-как утепленных, или в землянках.
Рядом на сиденье лежал пулемет. На водительском кресле развалился здоровенный жлоб в зеленой майке. Хотя вроде было и не лето.
Мотор заревел и машина тронулась, лихо вырулив со двора, обдав их облаком вонючих газов. Передовой дозор – а это был именно он – зря время тратить был не настроен.
Окурок с Эдуардом переглянулись. И без лишних слов пошли выполнять задание. Целые сутки казались порядочным сроком, чтоб все успеть. Но все же лучше не мешкать и обойти все дворы с вечера.
Глава 2. Меч Всевышнего
Сказать, что расшевелить людей и заставить их работать было просто – было бы неправдой. Сказать, что возникли непреодолимые сложности – тоже обман.
Деревенские с неохотой, но повиновались. Как повинуется новому владельцу старая упрямая кляча, которая даже битье кнутом встречает спокойным безразличным взглядом больших глаз – привыкла.
Уловив в их голосе знакомые интонации надсмотрщиков, крестьяне матерились, сквозь зубы ворчали (двое, ворчавшие слишком сильно, получили тумаков от Бобра и удары прикладами от немногословных калмыков), но принимались за работу.
Немногословные калмыки кивком головы указывали на дома, где встанут на постой командиры, и тут же жители без церемоний выгонялись на улицу. Придется им пожить в тех хатах, которые с самой войны пустыми стояли – без крыш, без окон. Ну, вроде не зима на дворе, не помрут. Никто не пытался возражать и тем более поднимать крик.
С утра весь народ от мала до велика был выгнан на субботник. Убирали и сжигали мусор, драили окна – там, где были стекла, а не листы фанеры, расчищали завалы многолетнего хлама на грунтовых дорогах, рубили деревья и кустарники, корчевали пни, уволакивали прочь бревна от рухнувших домов и упавшие столбы, чинили заборы…
Оказалось, что сутки не такой уж большой срок, чтоб расчистить такие Сизифовы конюшни.
Думали управиться к закату. Но когда закончили уборку, уже светало. Дольше всего они провозились с баррикадой. Тут, конечно, помогли бульдозер и автопогрузчик, которые Бобер пригнал с Гогиной асиенды. За рулем обеих машин были люди Шонхора. Что стало с теми, кто жил рядом с дворцом в корпусе для подсобных рабочих, Окурок не стал спрашивать. Там ведь и баб было штук семь, которые обстирывали, готовили еду и обслуживали Гогу и его приближенных во всех смыслах. Живы ли они еще?
Раздавая команды, крича до хрипоты, а иногда и отвешивая подзатыльники, Окурок вспоминал, как одна из них, Светка, даже когда-то убежать с ним хотела. Но мама сказала: «Ты че, с дуба свалился? Здесь ты на всем готовом, в тепле и при жратве, а в пустыне вы в первую зиму околеете». И он остался у Гоги. Дело было не в материном совете, конечно. Он и сам после одного случая на Урале побаивался отходить далеко, очертив для себя воображаемый радиус вокруг деревни. Пустыня его пугала своей необъятностью. Хотя какая к черту пустыня? Не песок же, а степь каменистая. Но чем дальше от реки, тем сильнее была сушь, и ветры, и пыльные бури летом, и смерчи, а зимой такие вьюги, что целый день ни зги не видно. Мать говорила что-то про экологическую катастрофу. Говорила, что дай только срок – и песок появится. Если раньше ледник не придет.
Но дело было даже не в опасностях, которые подстерегали там человека. Безотчетный страх покинуть привычные места был у него не меньше, чем у тех, кто дальше баррикады (уже разобранной) носа не показывал. Разве что для него «привычными местами» была не деревня, а неровный квадрат размером тридцать на двадцать кэмэ.
Когда-то давно он ходил и дальше. На восток. До самого Казакстана, который вроде раньше был другой страной. Но после того, что с ним однажды случилось, не мог себя заставить вырваться из этого прямоугольника. Но никому об этом знать не следует. А то его полезность в их глазах упадет.
Когда стрелки новоприобретенных часов Окурка показывали 6:35, все взрослое население Калачевки было построено вдоль главной улицы деревни – Пролетарской.
Окурок напряженно всматривался в горизонт, то и дело поднося к глазам бинокль. Под глазами у него были мешки от недосыпа, щетину он так и не успел сбрить, хотя собирался немного поскоблить рыло бритвой. Рядом замер такой же замотанный Бобер, который за все это время даже не притронулся к спрятанной у него под курткой фляжке с самогоном. Только запивал водой сухари и иногда плескал себе на голову, хотя было совсем не жарко. Видать, башка болела от напряжения. Чуть поодаль стояли как истуканы, тихо переговариваясь по-своему, двое соплеменников Шонхора с автоматами.
Они вчетвером стояли отдельно от жителей села, на пригорке, откуда открывался хороший вид на бывшее федеральное шоссе – две нитки асфальта с узкой разделительной полосой между ними.
Простые люди же теснились прямо у дороги рядом с заколоченным продуктовым магазином, на стене которого вдоль всего фасада было крупно начертано: «Добро пожаловать!» Правильно написали, без ошибок. Были еще в деревне грамотные старики, вернее, старухи.
Степь была пустынна. Лишь вдалеке, чуть ниже линии облаков высматривал свою добычу коршун. Хомячки и суслики пережили зиму, хотя люди их тоже ели.
И вот без двадцати семь на шоссе вдали появилась точка. А за ней целая россыпь. Они выныривали из-за невысокого холма, но казалось, что поднимаются из-под земли. При восьмикратном увеличении можно было заметить расходящийся вокруг в обе стороны шлейф пыли. Хотя они ехали довольно медленно. Просто их было очень много.
Окурок никогда не видел столько машин в одном месте. Да и Эдик, видно, тоже.
– Етить твою мать, – только и произнес тот. – Да сколько ж их?
Первыми ехали мотоциклы – трехколесные. Но за ними угадывались силуэты пикапов, джипов и грузовиков.
Они наплывали как волна цунами. Ехали ровной колонной по два в ряд. Порядок нарушался только там, где приходилось объезжать препятствия – например, лежащий на боку старый грузовик, поваленный бетонный столб или промоину, заполненную водой.
Хотя дорога тут была почти свободной. Не то, что поблизости от Сталинграда, где гниет столько ржавого хлама, что не протолкнешься.
Обычные ямки и колдобины – а Окурок знал, что представляют из себя все асфальтовые дороги – их мало тревожили. В этой колонне была только техника с хорошей проходимостью.
Димон опустил бинокль. Их уже могли увидеть оттуда через прицел, и нечего было так нагло пялиться. Вскоре уже можно было все хорошо рассмотреть невооруженным глазом.
Деревенские жители, стоявшие вдоль дороги метрах в пятидесяти, тоже заметили приближающуюся ораву и загомонили. Затем по толпе прошел вздох удивления. Эти косолапые вообще, поди, не знали, что столько машин на свете наберется!
Окурку стало малость стыдно перед чужаками за свое село. У тех пушки, тачки, крепкая одежа. А тут на улицах с самой войны порядок не наводили, целые горы из золы и отбросов, собачьих, голубиных и вороньих костей, выросли прямо у заборов в два человеческих роста – все, что смогли, убрали, а остальное авось не заметят. И прикинуты селяне черт знает как – а им ведь было сказано приодеться в лучшее! На ногах у половины самодельная обувь с подошвой из старой покрышки. У остальных – стоптанная довоенная рухлядь. Заплатанная одежда из вытертой и застиранной ткани – сделанной, если мать не врала, когда-то китайцами, давно потеряла свои цвета и была однотонно серой. Да и сами не подарок. Лица серые, глаза тусклые, во рту у многих вместо половины зубов – пеньки. Ну, хоть побрили подбородки давно затупившимися лезвиями, подстригли волосы ржавыми ножницами.
Разве что у тех, кто ходил на промысел, было с вещами получше. Да и более сытыми они смотрелись. Но таких мужиков можно было по пальцам пересчитать: Семен, Леха-большой, Леха-маленький, Иваныч, Никифоров-старший, племянник его Андрюха. И еще человек пять реальных, конкретных и нормальных мужиков.
«Надо их иметь в виду», – подумал Димон. Пришельцам наверняка понадобятся эти, как их… рекруты. И про Комара не забыть. Он белке на самой высокой ветке даже не в глаз, а в зрачок попадет. Когда сам не под «белочкой». И еще он двоих таких же знает, ходоков-старателей. Они спасибо скажут, если удастся их посватать к таким серьезным людям на службу.
А ему, Окурку – тоже будет польза. Может, его поставят начальником собственного отряда. Мать всю жизнь ему втирала про этот… как его… карьерный рост. Чем не начало?
Пока он размышлял, колонна приблизилась настолько близко, что уже и без бинокля можно было рассмотреть ее состав – благо, дорога делала небольшой поворот.
До них доносился рев множества моторов – в основном дизельных – похожий на рык голодного зверя.
Первые мотоциклисты между тем уже подъезжали к месту, где когда-то стояла баррикада. Между ними и наблюдателями было открытое пространство, и Окурок не смог удержаться, чтобы не глянуть еще раз в свои окуляры.
Тут было на что посмотреть.
В одном из журналов, которые он запродал Комару, был раздел не только про баб, но и про киношки. Текст Окурок почти не понимал, но картинки ему понравились. Один фильм был про чувака в кожаном прикиде по имени Безумный Макс. Только Димон никак не мог вкурить, с какого фига тот безумный, если ведет себя вполне здраво? Ездит на тачиле, мочит негодяев, следит за уровнем бензина и масла (несколько раз Геннадьич давал Окурку садиться за руль «Таеты», и тот знал, что к чему).
Там на одной картинке на весь разворот была армия главного негодяя на железных конях. В шипастых доспехах, шлемах с рогами, хоккейных масках, противогазах и еще черт знает в чем на головах, с цепями и прочими побрякушками.
Нет, эти мотоциклисты не выглядели точь-в-точь как те ребята из фильма. Но что-то отдаленно похожее было. На каждом из мотоциклов сидели двое, и сидящий в люльке был стрелком. Стволы пулеметов, установленных на вертлюгах, смотрели на дорогу. На головах ездоков были кожаные шлемы, глаза защищали очки-консервы. Одеты они были в одинаковые куртки из грубо выделанной кожи крупного рогатого скота – бурой, без хромового блеска, но очень толстой и прочной. Такую можно и зимой носить, если под низ что-нибудь поддеть.
И вдруг он узнал их. Несколько человек, которые ехали с непокрытыми головами, показались ему знакомыми. Ага, вон Упырь, вон Хрипатый, а вон Компот. Узнал он и их мотоциклы, чуть отличавшиеся от остальных. И сразу начал искать глазами Рыжего. Но остальные ехали в шлемах и все были на одно лицо.
«Бешеные»… А неслабо они поднялись. Одних мотиков штук тридцать! И какие!
Наверняка вся одежда была новая, потому что раньше они одевались в жуткое тряпье с чужого плеча, едва ли не с покойников, которое без женской руки они даже залатать нормально не могли. А бабы при их банде долго не жили.
Новым было и изображение красной собачьей головы, нашитое у каждого на плече.
Одно время он хотел сам к ним примазаться. И даже дружбу водил с ними. Не со всеми, а с двумя шлангами, которые тоже раньше на Гогу работали, а потом ударились в бега. Только они свалили не из окна, в чем мать родила, а с шиком – угнав у старого пердуна целый грузовик и шороху наведя попутно. Прежнего безопасника Гога после этого дела в свинопасы перевел за недосмотр, а сторожа повесил на столбе.
Но Упырь и Хрипатый – товарищи ненадежные. Такие могут и за старые сапоги кокнуть. А остальные и того хуже. Новый их пахан… он себя атаманом называет – Рыжий – долбанутый на всю голову. Если сравнить всех живорезов на службе у Гоги с ним одним – то получится, что те ему в ученики могли бы пойти, опыт перенимать. Яйца режет, кожу снимает, яблоки глазные вынимает раскаленным прутом, а уж пристрелить человека так, чтоб тот подольше покорчился – это для него приятней, чем девку поиметь.
Поэтому мамку пришлось бы бросить, ведь не притащишь ее в берлогу к этим оглоедам?
Эх, да чего теперь вспоминать…
Раньше «бешеные» были голодранцами, изображавшими из себя реальных пацанов. У них было всего три-четыре мотоцикла на ходу, и передвигались они пешкодрапом по дорогам – в основном по левому берегу, от Городища до Светлого Яра. Постоянного лагеря у них не было, но временные лежбища они устраивали в Сталинграде, в черте города. Последнее было на вокзале Волгоград-2.
Они нападали и устраивали засады на тех, кто не мог дать сдачи. Любой, кто уважал себя и мог выставить хотя бы двадцать вооруженных мужиков, дань им не платил. И пулеметов никаких у них не было: ПМы, ментовские «укороты» и гладкоствольные «Сайги».
Редко когда им удавалось захватить или выменять канистру-другую бензина, чтобы покататься на своих железных конях день-другой.
Когда-то давно горючки полно было, но не хранится она долго. Как и Гога, «бешеные» тоже пытались делать бензин. Как и у него, у них ничего не получилось (а те, кто его умел делать, в этих краях редко появлялись). Они сливали из бензобаков и цистерн находящуюся там жидкость, давно ни к чему не пригодную. Потом пытались кипятить найденное в железной бочке над костром, сунув туда конец шланга. Но кроме чада и копоти и нескольких пожаров, стоивших одному из них жизни, а еще пятерым – ресниц и бровей, ничего не выходило. Окурок помнил, как они, накурившись ганджубаса, дули в этот шланг, услышав где-то, что для процесса нужен кислород.
«Интересно, они до сих пор коноплю уважают или этот им запретил?»
Но вот мотоциклетная банда, вставшая теперь под знамя таинственного Уполномоченного, проехала мимо. Следом за ней по дороге загромыхали похожие на динозавров бронированные грузовики, изрыгающие вонючий дизельный выхлоп.
Бинокль уже был не нужен. Орда ехала по деревне.
Ган-траки! Так их называла мама. Геннадьич эти хреновины называл «покемоны». В отличие от «техничек», такая техника была не у всех. Но любой, кто из себя что-то представлял, хотел ее получить. Ган-траки могли нести на себе кое-какую броню, а установленный на крыше пулемет на турели – это куда лучше, чем тот же пулемет в руках, даже поставленный на сошки. Больше обзор, точнее выстрел. Да и перевозить грузы и людей они могли.
Окурок насчитал их полтора десятка и сбился – уж очень хотелось рассмотреть каждый из них. Из книжки с картинками он знал все типы русских грузовиков, но эти увешаны стальными листами так, что не всегда можно было определить изначальную марку. На крышах турели – пулеметные из ЗУшек и ДШК и гранатометные, переделанные из станкового гранатомета. За железными щитками торчали в люках наводчики, водили стволами из стороны в сторону.
В стальных бортах были прорезаны бойницы. В распахнутых окошках видны были суровые небритые лица.
Некоторые из ган-траков были оборудованы бульдозерными отвалами. Там, где металл был иссечен и разорван, они были похожи на оскаленные пасти, полные неровных зубов. На двух или трех для большего сходства этот же рисунок был нанесен краской.
– Они называют их не гансраки, а «дредноуты», – обронил Бобер. – Хрен его знает, что это означает. Но моща, конечно, зверская. Это ж сколько они горючки сожгут сегодня?
Боевые грузовики чередовались с обычными, небронированными – покрытыми тентами и открытыми. В них ехали люди и везлись грузы, прикрытые рваным брезентом.
В ближайшем открытом КамАЗе ехали бойцы, набившись туда как горох. Хотя нет, их было человек двадцать, а тесно им из-за оружия и снаряги. В отличие от пацанов Рыжего, эти выглядели как солдаты прежних времен – только чуть более чумазые и потрепанные. И головные уборы были у многих неуставные – меховые шапки, балаклавы, а у некоторых и арабские платки, которые Окурок называл «арафатками», но мать говорила, что правильно они зовутся «шемаг». Их камуфляж был разной расцветки: от тёмно-зелёной до песочной. В руках – автоматы, ручные пулеметы, винтовки.
В самой середке ехали шесть «наливников» – автоцистерн. То ли все с горючим, то ли часть с питьевой водицей.
За грузовиками шли «тачанки» – пулеметные пикапы. Бобер рассказал, что гости называли их «техничками»[4].
Их было не меньше сорока, на платформах в кузовах сидели или стояли, расставив ноги стрелки-пулемётчики, стояли цинки с патронами, от которых тянулись пулеметные ленты. Окурок прикинул, что огневой мощи даже этих маленьких машинок хватит, чтоб разобрать все село по камушку и по бревнышку. Ехали и простые УАЗы – многие с люками в крыше, где были установлены все те же пулеметы. И несколько бронированных микроавтобусов. И даже два переделанных инкассаторских броневика, на которых раньше валюту возили.
Вслед за пикапами уже не стройными рядами, а неровной кучей ехали довольно небольшие грузовики. Окурок узнал ЗИЛы с деревянными бортами. Почему-то от них было больше всего чада и копоти. Он не сразу понял, что в них не так. Только когда разглядел большой агрегат, установленный у каждого в кузове, похожий на печку-буржуйку. От удивления он аж присвистнул, когда на его глазах один из сидящих там чумазых людей в фуфайках отодвинул заслонку и забросил в топку связку поленьев.
Моторы этих машин работали на дровах. Тут было над чем подумать…
– Гляди туда! – тронул его за рукав Бобер. – Это еще не все! Кони!
И действительно. Наблюдая как завороженный за въездом колонны, Окурок потерял из виду другую дорогу, которая вела в деревню. Она была более узкой и грунтовой, и по ней в данный момент, извиваясь как змея, втягивалась в Калачевку конная лавина. Сплошной поток конских и человеческих спин – первые пегие, гнедые и черные, вторые все серые, трудноразличимые – видимо, в пятнистом камуфляже.
Чем дальше, тем круче. Лошадки удивили Окурка даже больше, чем все железные монстры вместе взятые. Потому что отремонтировать железяку при прямых руках сможет любой – только бензина ей давай. А починить дохлую лошадь еще никому не удавалось.
На всю деревню Калачевку не было ни одной клячи, да и в соседней Карловке тоже. С дальними соседями они мало пересекались, чтоб знать наверняка, но и там, скорее всего, была та же картина. Да и откуда им было взяться, ведь Гога и его шестерки отбирали себе самое лучшее? У того самого было десять лошадей и пара взрослых жеребцов. Как-то Димона даже ставили на один день стеречь конюшню: лошадей иногда пытались сожрать, и совсем не волки, и даже не крестьяне, а свои же бойцы-охраннички.
Большую Зиму никакой скот на частных подворьях не пережил. И в первую очередь лошади. Ведь это сто-двести, а то и триста кило мяса. Только у крупных хозяев, и то в числе очень маленьком. Лошади – это не куры и не кролики. Плодятся они медленно, жрут траву вагонами, а дохнут от разных болячек так же, как люди.
А тут на его глазах проскакал, отбивая дробь копытами, целый табун! Больше сотни. Нет, лошадка – скотина полезная, питается почти любой травой, землю на ней можно пахать, чтоб не впрягаться самому в плуг, но как ее сохранить, если кушать постоянно хочется – и тебе, и соседям?
Почему-то это впечатлило его больше всего и заставило поверить в мощь «сахалинцев». Он и представить себе не мог, что в мире наберется столько лошадей. В конце концов, тачанки и даже пара боевых грузовиков нашлась бы у любого Гогиного соседа. Правда, даже если бы те решили объединить силы, техники набралось бы меньше трети от того, что громыхало и ревело здесь на шоссе.
Конная ватага промчалась по улочке вихрем, обойдя и обогнав тащившуюся черепахой колонну, которую что-то на минуту задержало – возможно, поломка одного из грузовиков. Позади себя она оставила только конские лепешки – некоторые лошади гадили на ходу, но запах их фекалий утонул в вони выхлопных газов так же, как ржание, всхрапывание и цокот копыт тонули в реве моторов.
Всадники были крепкие, смуглые и чернобородые. По сравнению с ними даже люди из Гогиной дружины казались дистрофиками. Когда расстояние стало минимальным, ветер донес до Окурка обрывки фраз, но он мало что понял. Переговаривались на незнакомом языке… может, не на одном, а на разных. Чёрт их разберет. Впрочем, у некоторых черты лица были совсем русские, а бороды русые или даже с оттенком рыжины. Когда они хохотали, обмениваясь на скаку какими-то фразами, то скалили белые, похожие на волчьи клыки, зубы. За спинами у них висели автоматы и винтовки, к которым они явно были привычны так же, как и к езде верхом. Лошади тащили тяжелые вьюки – в некоторых угадывалось оружие, другие распухли не то от продуктов, не то от какой-то снаряги… или добычи.
Один всадник, в кургузой куртке с кармашками под патроны и каракулевой шапке с плоским верхом, в котором все выдавало командира, бросил в сторону Окурка настолько свирепый взгляд, что тот сразу сделал вид, что не смотрит в их сторону.
Миновав последний из пустырей, где еще до войны ржавели старые трактора и комбайны, и проехав один переулок, конный отряд скрылся из виду, затерялся среди двухэтажных, самых хороших домов. Видимо, там они будут располагаться на постой. Хорошо, если не будет ссор и махаловки между ними и теми, кто едет следом – из-за самых удобных мест. Хотя бы с этими мотоциклистами – вон они уже догоняют. Но это уже не его дело.
При вхождении в поселок стройный порядок армии «сахалинцев» слегка нарушился. Мотоциклы оторвались от идущей следом более массивной техники. Но повернули не к хатам, а к зданию конторы, где совсем недавно Окурок прятался с еще живой мамой. Лишь несколько надрывно тарахтящих трехколесных байков остановились на пустыре.
После небольшой задержки, вызванной, похоже, затором в узком месте дороги, колонна грузовиков тоже въехала в поселок.
Теперь их можно было рассмотреть и без бинокля.
Из люков на крышах нескольких бронемашин торчали знамена на длинных древках. По ветру полоскались широченные полотнища и флажки поменьше. В глазах зарябило от ярких красок. Окурок видел такие только в старых книжках и журналах.
На одном флаге вышит кривой меч, похожий на полумесяц, на фоне одетой снегом горы, а рядом непонятные закорючки. На другом были скрещенные берцовые кости, а над ними ухмыляющийся человеческий череп. На третьем – уже знакомая песья голова. На четвертом – поднимающийся от земли смерч, затягивающий, как пылесос, несколько корявых желтых фигурок.