Последняя Ева Берсенева Анна
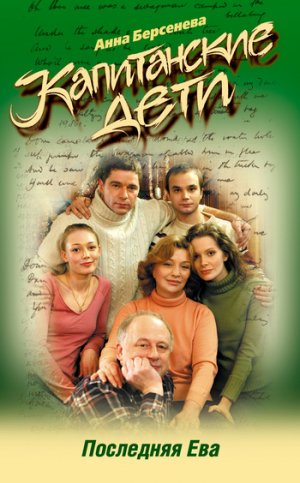
– И мне… тоже… хорошо… – словно отвечая ей, выговорил он.
Слова его падали отрывисто, тяжело, в такт мерным и стремительным движениям – вверх, над нею, потом резко вниз, секунда неподвижности, и опять вверх, и все повторяется снова, пронзая непроходящей болью…
Ева уже не понимала, долго ли это длится. Она ждала, чтобы это кончилось наконец, чтобы хоть на мгновение прекратилась эта невыносимая, режущая боль, – но скорее умерла бы, чем дала бы ему понять, чего ждет.
– Все! – вдруг вырвалось у него. – Я все уже, ты можешь, успела ты?..
Не понимая, о чем он спрашивает, даже не разобрав толком слов в его задыхающемся шепоте, Ева почувствовала, что он замер над нею, – и вдруг задергался, как от боли.
«Ему больно? – с ужасом мелькнуло в ее голове. – Но почему, это я сделала ему больно, что же я сделала не так?!»
Денис стоял теперь на коленях, голова его была запрокинута, бедра судорожно вздрагивали, и даже плечи ходили ходуном. Страх за него сразу стал сильнее, чем собственная боль, которой она не могла терпеть еще минуту назад, – и Ева порывисто села, обняла его за плечи, прижалась к груди.
Конечно, она знала, что мужская страсть как-то завершается, но что вот эти движения, напоминающие мучительные судороги, и есть завершение страсти, – этого Ева и представить себе не могла. Да и что она вообще представляла, откуда? В книгах, которые она читала, действие заканчивалось в тот момент, когда гас свет, а пособие по сексу, которое она случайно перелистала в книжном магазине, вызвало у нее недоумение и отвращение, потому что было похоже на инструкцию к какому-то незамысловатому электроприбору.
И она испуганно сжимала теперь плечи Дениса, пытаясь дотянуться до его запрокинутого лица, заглянуть в полуприкрытые глаза, и целовала его подбородок – единственное, до чего могла дотянуться, не отрываясь от его бьющегося у нее внутри тела.
Его движения постепенно стали спокойнее, медленнее, потом он совсем замер, потом вздрогнул еще раз и притих, тяжело дыша. Потом Ева почувствовала, как он перекидывает через нее ногу и ложится. Все у нее внутри до сих пор болело, но уже не так остро – скорее ныло, как десна, из которой только что выдернули зуб.
Денис молчал, лежал с закрытыми глазами, а Ева сидела рядом с ним, вглядываясь в его лицо. Ей не верилось, что всего минуту назад все оно было искажено гримасой боли, – такой покой был разлит теперь по этому любимому лицу. Капельки пота выступили на его виске под темным завитком, как еще один знак полного покоя.
Ева провела пальцами по этим мелким капелькам, раскрутила завиток, но он снова скрутился, как только она отняла руку.
– Тебе… больно было? – невольно вырвалось у нее.
– Больно? – Брови Дениса удивленно приподнялись над закрытыми глазами. – Почему?
Еве стало стыдно, что она задает глупые вопросы.
– Мне было хорошо, – едва заметно улыбнувшись и по-прежнему не открывая глаз, сказал он. – Наклонись, дай я тебя поцелую.
Ева склонилась к Денису, и он поцеловал ее тем самым поцелуем, который она так полюбила сразу, – мимолетным, легким и ласковым.
– Подустал я, – сказал он. – Так-то собранный был, а с тобой вот расслабился и чувствую – устал. Вроде сто раз все тут хожено-перехожено, а каждый раз волнуешься: вдруг что-нибудь с кем-нибудь случится? Все-таки они маленькие еще, хоть и молодцы, конечно.
Лицо его снова осветилось тем ясным светом, который невозможно было не разглядеть даже в темноте.
– Диня, милый, я тебя люблю…
Ева произнесла эти слова неожиданно для себя, но это было единственное, что она могла и хотела сказать сейчас.
Он снова улыбнулся, открыл глаза и молча обнял ее, ласково пригнул ее голову вниз. Голова легла на его плечо, и, прижавшись к нему, Ева почувствовала, что не было в ее жизни мгновения счастливее.
Денис ушел только под утро. Кажется, они спали немного. Правда, то состояние нереальности, в котором Ева находилась, лежа у него на плече, вряд ли можно было назвать сном. Но Денис, наверное, все-таки спал: действительно устал за эту беспокойную неделю. Ева видела, что он устал, и даже родинка в правом уголке его губ выглядела усталой… Она погладила родинку кончиками пальцев, и Денис улыбнулся во сне.
Уже одевшись, он снова поцеловал ее.
– Ты поспи все-таки, – сказал он. – Я же слышал, не спала. Поспи хоть часок, я в дверь стукну, разбужу, когда все встанут.
Ева подошла к двери и долго прислушивалась к тому, как он идет по коридору, даже когда его шаги стали совсем не слышны.
Бурые пятна на простыне она заметила, только когда застилала постель, – и почувствовала, что вся кровь приливает к ее щекам.
«Как же он не догадался? – подумала Ева. – Как хорошо, что не догадался… И неужели ему действительно хорошо было со мной? Но не обманывал же он меня – зачем? Значит, правда… А я люблю его!»
И что в сравнении с этим была боль, и кровь, и усталость, и мороз, которым встречало темное зимнее утро!..
Ева шла вместе со всеми к троллейбусной остановке, и фигура Дениса, идущего впереди, казалась ей светлее, чем фонари вдоль дороги.
Глава 6
Если бы кто-нибудь сказал ей тогда, шесть лет назад, что она будет вот так спокойно смотреть на Дениса, здороваться с ним каждый день, как здоровалась с любым учителем, разговаривать с ним на переменках и сидеть напротив за столом в учительской, – Ева не поверила бы.
Ее чувство к нему было тогда таким обостренно-счастливым, что сердцу трудно было выдержать.
А теперь она поздоровалась с ним, спросила, не окно ли у него, и выслушала его ответ. И смотрела, как он складывает листочки с контрольными в стопку, убирает в ящик стола, встает, застегивает большую кожаную сумку, идет к двери…
Ева все-таки не могла бы сказать, что смотрит на Дениса совсем спокойно. Но теперь это было уже неважно. Шесть лет, прошедшие с того утра, когда она прикоснулась к его щеке в тумане, переменили ее совершенно. Иногда Еве казалось, что все тогда происходило с какой-то другой, почти ей незнакомой женщиной.
– Ну, пока, – сказал Денис, обернувшись у самой двери. – Счастливо доработать!
– Пока, – ответила Ева. – Спасибо.
Она уже привыкла к тому, что он не задает ненужных вежливых вопросов: как дела, как жизнь, еще что-нибудь подобное. Он знал, как у нее дела, и знал, что она первая постарается рассказать ему о любых изменениях в своей жизни. И зачем тогда спрашивать? И какие, кстати, у нее могут быть изменения, которые интересовали бы хоть кого-нибудь, кроме, пожалуй, родителей?
Ева достала из сумки тетрадку с планом своего следующего урока. Она привыкла обязательно просматривать план перед самым началом занятий, освежать в воображении то, о чем будет говорить, иначе она просто не могла рассказывать.
…На Курском вокзале Еву встречали из Крыма отец и Полинка. Прежде она наверняка удивилась бы, почему пришли они, а не мама, но сейчас она видела только Дениса, даже когда не смотрела на него. Ева сама не понимала, чего сейчас больше в ее душе, счастья или страдания.
Поэтому она не удивилась и не обрадовалась, увидев из окна вагона высокую отцовскую фигуру на перроне. Валентин Юрьевич шел вдоль останавливающегося поезда – быстро, почти не хромая, а Полинка бежала впереди, обгоняя состав.
Вагон был плацкартный. Денис обходил напоследок отсеки, проверяя, не забыто ли что-нибудь второпях. Ева старалась не смотреть в его сторону – боялась, что смятение, которым охвачена ее душа, станет очевидным при взгляде на него и все поймут причину ее смятения. До сих пор она объясняла свое молчание – например, любопытной Галочке – тем, что с непривычки устала в походе.
Отец подал руку, помогая Еве перепрыгнуть через широкий промежуток между перроном и ступеньками вагона. Денис выходил последним. Прислушиваясь к его голосу в тамбуре у себя за спиной, Ева почти не оперлась об отцовскую руку, спрыгнула со ступенек сама.
– Ловкая какая стала, – улыбнулся отец, забирая у нее рюкзак. – Ну, дай поцелую тебя, путешественница. И загорела даже, смотри-ка! А вчера по телевизору сказали, что снег пошел в Крыму. Мама, конечно, разволновалась сразу. Как отдохнули?
Это он спросил, уже обращаясь ко всем, и Ева обрадовалась тому, что Денис сам ответил на вопрос ее отца.
– Отлично, – сказал он, спрыгивая наконец с подножки; глаза его светились веселым воодушевлением. – Именно что отдохнули! – Он посмотрел на Валентина Юрьевича с явной приязнью. – А то все вон, смотрите, так встречают, как будто мы из космоса возвращаемся!
Родители, столпившиеся на перроне, и в самом деле встречали своих чад с неумеренным энтузиазмом. Слышались громкие возгласы – отчасти бессвязные, отчасти состоящие из слов: «Боже, как похудел! А грязный какой!» Возмущенные чада что-то басили в ответ, отбиваясь от родительских поцелуев.
Тринадцатилетняя Полинка с завистью поглядывала на туристов, действительно грязных как черти. Раскосые глаза ее так и сверкали из-под длинной рыжей челки, и она вертела головой, боясь упустить что-нибудь интересное.
– Что ж, домой? – спросил отец. – Или у вас еще какие-то планы?
Ева впервые решилась прямо взглянуть на Дениса. Ответить мог только он. У нее не было не то что определенных планов, но даже приблизительного представления о том, как она теперь будет жить – через минуту, через час, через месяц…
Но Денис в это время уже разговаривал с высокой элегантной женщиной в светлом пальто – мамой Леночки Беринской – и не смотрел на Еву. Мамаша говорила ему что-то, быстро и, кажется, возмущенно, а он улыбался и кивал, не споря.
Еве вдруг стало так тоскливо, хоть плачь.
«Вот и все, – подумала она. – И что теперь? Как мы увидимся с ним теперь, где? – Она вспомнила, как тихо скрипнула дверь в темноте, и слезы подступили к самому горлу при этом воспоминании. – Кончилось все…»
– Пойдем, папа, – сказала она, стараясь, чтобы голос звучал спокойно. – Никаких у нас планов нет, ребята устали.
Ева не могла представить, как будет прощаться с Денисом. Руку подаст, пошлет воздушный поцелуй? Ей хотелось миновать это мгновение расставания, и, быстро взяв отца под руку, она почти потянула его к подземному переходу.
Идя по перрону, Ева слышала громкие голоса, поющие на прощание песню про новый поворот – их любимую походную песню… Голос Дениса вырывался из общего хора, звенел в сыром воздухе, словно догоняя ее, но она шла не оборачиваясь и все ускоряла шаги.
– Мама приболела немного, – сказал отец уже на привокзальной площади, открывая перед Евой дверцу синей «шестерки». – Ничего страшного, простудилась, но я ее все-таки попросил не идти, – предупредил он Евин вопрос. – А Юрка в Армению улетел.
– Я знаю, – кивнула она. – Он же сразу улетел, еще до моего отъезда, я же знаю.
– Спуталось все в голове, – слегка смущенно сказал отец. – В самом деле, до твоего отъезда. Надя волнуется, даже по телевизору его выглядывает, а тут еще у вас снег пошел… Ей, конечно, сразу ужасы мерещиться стали – обвал, сель, лавина.
Он улыбнулся своей удивительной улыбкой – открытой и в то же время немного исподлобья. Ева с детства любила папину улыбку. Она как будто расцветала постепенно – начиналась с едва заметной морщинки у губ и вдруг освещала все лицо, вспыхивала в черных, чуть раскосых глазах.
– Я ее успокаиваю, – продолжал он, – что в Крыму в это время года никаких природных катаклизмов в принципе быть не может. Но она мне не верит, конечно. В Армении… Страшно, милая, телевизор страшно включать, но и выключить ведь невозможно! Столько горя сразу.
– А мы вчера одежду отвезли, туда чтоб передать, – вмешалась в разговор Полинка. – Очередь стояла вещи сдавать – больше, чем за колбасой! – засмеялась она.
– Перестань, – спокойно произнес отец, и Полинка тут же перестала смеяться, хотя в его голосе не чувствовалось и тени назидательности или укоризны. – Это, конечно, капля в море, но все-таки, – обернулся он к Еве. – Люди на улице, под открытым небом, может, пригодится кому-нибудь…
– Не звонил Юра? – спросила Ева.
Ей стало стыдно, что за собственными переживаниями все вылетело у нее из головы, даже ужасное землетрясение в Армении, о котором она узнала еще до отъезда и на которое сразу же улетел ее брат.
– Нет, – покачал головой отец. – Им там, судя по всему, не до звонков. Мы же видели по телевизору, прямо в палатках оперируют. Но я уверен, если бы что-нибудь случилось, мы знали бы, мама зря волнуется!
Ева уже привыкла к тому, что отец помнит о маме постоянно и с нею связывает все, что происходит в жизни – рядом ли, за тысячи ли километров. Иногда ей казалось, что жизни, не связанной с Надей, для отца просто не существует. Так было всегда, и это никогда не удивляло Еву в таком спокойном, мужественном человеке, как ее отец. Она выросла с этим и не представляла, что может быть иначе. Ведь иначе – как жить вместе, зачем?
Может быть, мама и в самом деле приболела только слегка, но когда Ева вошла в квартиру, та вышла ей навстречу не сразу: наверное, вставала с кровати.
– Слава Богу, – сказала мама. – Наконец вернулась! Не целуй, не целуй, заразишься, у меня грипп, кажется. – Она отстранилась от Евы и даже отошла на несколько шагов назад, встала у дверной притолоки. – Что это с тобой?
– Ничего, – улыбнулась Ева. – Просто поцеловать тебя хотела.
– Ты вся взбудораженная такая, – заметила мама тем мимолетным, хорошо Еве знакомым тоном, который всегда свидетельствовал о волнении. – Случилось что-нибудь?
– Нет, мам, правда ничего. Устала, конечно, с непривычки, не спали сегодня всю ночь… А так – все нормально!
Конечно, маму не обманешь бодрым тоном. Но и выспрашивать, требовать рассказа о том, о чем Ева рассказывать не хочет, она тоже не станет. Поэтому можно было просто наклониться, развязывая тяжелые туристические ботинки и заодно пряча лицо.
…В десятом классе под конец года по программе значился раздел «Мировая литература», и проходили «Гамлета». Правда, Ева не любила слова «проходили» и всегда незаметно поправляла учеников и даже учителей, если они его употребляли.
Конечно, в мае ребята уже расслабились, им неохота было рассуждать о высоком, и в этом смысле время для «Гамлета» было выбрано неудачно. Но в глубине души Ева считала, что это даже хорошо. Все оценки были уже получены, исправлены, снова получены и исправлены окончательно, и поэтому разговор оказывался лишенным практической цели. И, значит, получался именно такой, какой она любила. А то, что по Шекспиру наверняка не придется писать ни выпускное, ни вступительное сочинение, придавало размышлениям о нем дополнительную прелесть необязательности.
Классы в гимназии были небольшие, человек по пятнадцать, и это тоже способствовало пониманию. Правда, урок в десятом классе был последним, и майский ветер из окна наверняка волновал ребят сильнее, чем самая увлекательная беседа о принце Датском.
Десятиклассники были Полинкиными ровесниками. Вообще Ева всегда думала о сестре, когда готовилась к урокам в старших классах: представляла, интересно ли было бы Полине ее слушать. И всегда меняла свои планы, если чувствовала, что сестра заскучала бы. Полинка была, конечно, не такая, как все, но Ева и не стремилась говорить с каким-то усредненным человеком, ей самой это было просто неинтересно.
«Да и существует ли он, этот самый усредненный человек? Едва ли…» – подумала она, уже открывая дверь класса.
Все они были разными, и все смотрели на нее по-разному блестящими разноцветными глазами. Еве казалось, что даже эта пестрая мозаика глаз в десятом «Б», например, другая, чем в десятом «А», в который она сейчас и входила.
Ребята болтали, сидя на столах, но, увидев ее, встали, и шум постепенно затих.
– Ну что ж, – спросила Ева, когда были выполнены обычные формальности начала урока: отмечены отсутствующие, дежурный отправлен за мелом, который, как всегда, не был принесен заранее, – вы хотите, чтобы я о чем-нибудь вас спросила?
– Не-ет! – дружным хором ответили они. – Не хотим, Ева Валентиновна, конечно, не хотим!
– Вы лучше расскажите что-нибудь, а мы послушаем, – мило улыбаясь и глядя хитрыми глазами, предложила Наташа Ягодина, сидевшая прямо перед учительским столом. – Вы ж все равно уже оценки выставили…
– Хорошо, – улыбаясь в ответ, кивнула Ева. – Я с вами прошлый раз о героях «Гамлета» обещала поговорить, ведь так? Артем, вы хотите что-то сказать? – спросила она, краем глаза заметив какое-то его мимолетное движение.
Артем Клементов сидел за третьим столом у окна, и яркие солнечные лучи мешали разглядеть, что он там делает.
– Нет, – сказал он, вставая. – Я тоже хочу вас послушать, Ева Валентиновна.
– Хорошо, – повторила она. – Садитесь, садитесь, Артем! Но все-таки и вы что-нибудь скажете, ладно? – обратилась она уже ко всему классу. – Потом, когда меня послушаете.
И вдруг ее охватило какое-то странное волнение, которого совсем не было еще час назад. Может быть, оно было связано с Денисом, с их мимолетной и привычно-пустой встречей в учительской? Этого Ева не знала, но чувствовала, как что-то непонятное, тревожное дрожит в ее груди.
На прошлом уроке она уже рассказывала им о Шекспире, о загадке авторства, которая самой ей представлялась такой маленькой и неважной по сравнению с загадкой его трагедий и сонетов… В подтверждение своих мыслей читала отрывки из «Смуглой леди» Домбровского: Ева была уверена, что это лучшее из написанного о Шекспире.
И вот теперь пора было поговорить собственно о героях трагедии, а она стояла перед классом в непонятном волнении, охваченная странной тоской и одновременно – тревогой.
– Я думаю… – сказала она наконец, почувствовав, что пауза становится слишком длинной, и заметив легкое недоумение в глазах сидящей перед ней Наташи. – Я думаю, что говорить об этой трагедии можно, только если понимать, что она необъяснима. Ее не надо пытаться объяснить с рациональной точки зрения, не надо пробираться к ней, срывая внешние покровы тайны. Между всеми ее героями существует особенная связь, и понять ее, по-моему, невозможно.
Ева говорила совсем не то, что собиралась сказать. И в ее рабочей тетради совсем иначе был спланирован этот урок. Но слова вырывались сами, подчиняясь безотчетному и печальному чувству…
– Но зачем же тогда вообще об этом думать? – пожал плечами Паша Кравченко – широкоплечий темноволосый парень в майке с портретом Стинга. – Какой тогда смысл это обсуждать, раз все равно непонятно?
– Но она же существует, – помолчав, сказала Ева. – Она более реальна, чем сама реальность! Эта трагедия существует как высшая точка искусства и притягивает своей необъяснимостью, и мы вновь и вновь совершаем попытки, даже осознавая их тщетность… Вы понимаете?
– Ну-у, примерно, – улыбнулся Паша; в его улыбке Ева почувствовала снисходительность. – И что?
Они были взрослые современные дети. Они хотели знать, а не предполагать. Им некогда было отдаваться смутным чувствам, потому что перед каждым расстилалась огромная и стремительная жизнь, в которой так трудно утвердиться, не раствориться среди миллионов себе подобных, особенно теперь, когда все меняется так мгновенно и жестко.
Они уже предчувствовали тот жизненный марафон, который им вскоре предстоял, и, может быть, инстинктивно отшатывались от всего, что могло их ослабить в гонке на выживание. В том числе от таких вот раздражающе-смутных разговоров. И как было их за это осуждать?
– Гамлет принадлежит какому-то особенному миру, – продолжала Ева. – Он, мне кажется, от рождения ему принадлежит, и поэтому наш мир так для него мучителен.
– А по-моему, он очень даже неплохо в нашем мире ориентируется, – усмехнулся Паша. – Полония убил, и вообще… По-моему, он и правда притворяется – типа, с ума сошел, – чтоб всех на чистую воду вывести. Ну, мучается, конечно, короля никак не убьет… Нерешительный он просто, вот и все! Разве не так?
Он смотрел на Еву в упор, слегка сощурившись, и она вдруг поняла, что не находит слов, способных разрушить железную логику этого юного мужчины… Не находит сейчас, в эту секунду, и не найдет никогда. И растерянно глядит поэтому в его прищуренные глаза, не зная, что ему ответить.
– Он просто очень одинокий, – вдруг услышала она голос Артема Клементова и даже вздрогнула: так неожиданно прозвучал его голос. – То есть это не просто, конечно… – Артем уже встал, когда Ева обернулась к нему, и волосы его серебрились от падающего из окна майского света. – Мне, например, тоже не все здесь понятно. Ведь каждый человек одинок и в конце концов к этому привыкает. «Что же на одного? Колыбель да могила», – усмехнулся он. – Почему же его-то это так мучает? Чтобы от трусости – вроде не похоже…
Ева так обрадовалась этой поддержке, что даже благодарно улыбнулась Артему. Он тоже задавал вопрос, на который трудно было ответить, даже невозможно было ответить, – но это был вопрос на ее языке… И песню Высоцкого, которую он процитировал, она тоже знала и любила.
– А по-моему, все дело в Офелии! – вдруг вмешалась в разговор Наташа. – Нет, вы хоть что угодно про него говорите, а по мне, так он очень гнусный! – Наташин вздернутый носик еще больше вздернулся от возмущения. – Зачем он так ее мучил? До самоубийства довел…
– А вы вспомните, как они встретились после разговора Гамлета с призраком, – с неожиданной для себя горячностью произнесла Ева. – Та самая встреча, о которой Офелия рассказала Полонию. Представьте, как это было, Наташа! Офелия впервые увидела его в растерянности, в смятении, почувствовала безысходность его скорби, и это ужаснуло ее. Она интуитивно поняла, что Гамлет больше не принадлежит себе, а значит, и ей не может принадлежать. Конечно, это трудно выдержать юной женщине… Но его ли в том вина?
Теперь Еве стало легче говорить и уже не казалось, что она не находит слов. Она говорила о самом воздухе, о дыхании трагедии, которое веет между монологами и диалогами героев. Говорила о цене юношеской дружбы, о Розенкранце и Гильденстерне, о бесплодности мести. Паша снова спорил с ней, а Наташа спорила с ним, и Ева слушала обоих, осторожно охлаждая их пыл, когда они начинали перебивать друг друга.
Но ее смутная тоска не проходила, и она так и не могла понять ее причины.
Хорошо, что урок был у нее последним. Ева была так недовольна им – вернее, собою так была недовольна, – что настроение у нее совсем испортилось. Она прошла через школьный двор, через арку и медленно пошла по Садовому кольцу к метро.
«Что это со мной случилось? – думала она. – Отчего вдруг я потеряла всякую логику, забыла все, о чем хотела сказать? Зачем пыталась говорить о том, что даже мыслью трудно уловить, не то что словом? Еще раз подтвердила в их глазах свою бестолковость, больше ничего!»
– Ева Валентиновна! – услышала она и обернулась.
Артем Клементов догнал ее у пестрого киоска на углу площади Маяковского.
– Разрешите, я вас провожу? – спросил он, останавливаясь рядом с ней. – Вы к метро?
– Да, – кивнула Ева. – Что ж, проводите, если вам по дороге.
Они молча пошли рядом.
– А вы расстроились, – сказал он. – Напрасно, Ева Валентиновна!
– Почему же напрасно? – На минуту она забыла, что перед нею мальчик, ученик. – У меня такое ощущение, как будто я урок сорвала. Все так сумбурно получилось, все невпопад и непонятно. Я пыталась говорить слишком изнутри – так, наверное. – Ева подняла глаза и встретила его внимательный серебряный взгляд. – А никому это не нужно. Надо было просто рассказать обо всем с исторической точки зрения. О том времени, о…
– О том – это о каком? – неожиданно перебил он. – При чем здесь время? И вообще, если я, например, изнутри не все понял, думаете, я снаружи пойму? Если вы мне расскажете, какие латы носил Фортинбрас?
– Вот видите, даже вы не поняли! – вздохнула Ева. – А ведь вы очень проницательны, Артем.
– Не знаю, – пожал он плечами. – Не думаю. – Он посмотрел на нее совсем другим, чем минуту назад, быстрым, чуть исподлобья взглядом. – Я чувствовал какую-то особенную, очень тонкую жизнь, когда вы говорили… Мне хотелось вас понять! Но я не смог.
Они остановились у кромки тротуара. Светофора у входа в метро не было, но он был на предыдущем перекрестке, и пешеходы толпой перебегали Садовое кольцо, когда красный свет загорался для машин вдалеке. Ева тоже всегда останавливалась здесь, выжидая удобной минуты. Но сейчас, в тоске своей и подавленности, она забыла об этом и ступила на дорогу не глядя. Артем тоже не смотрел на дорогу, но тут же придержал ее за плечо.
– Извините, – сказал он, мгновенно опуская руку. – Машины еще едут, давайте подождем, ладно?
– Да, – смутилась Ева, наконец спохватившись, что как-то не так разговаривает со школьником – слишком доверительно, что ли. – Спасибо, Артем, что проводили.
– Ничего, мне и в самом деле по пути, – улыбнулся он. – Я в Трехпрудном живу.
Они наконец перешли дорогу и стояли теперь у колонны Зала Чайковского.
– А давайте до Пушкинской пройдемся? – предложил он. – Вам по зеленой линии ехать, можно ведь и с «Тверской», правда?
– Правда, – кивнула Ева. – Что ж, пойдемте тогда до Пушкинской.
Ей и самой хотелось пройтись, успокоиться.
По всей недавно переименованной Тверской улице ремонтировали дома и тротуары. Им то и дело приходилось огибать участки, огороженные веревками и досками, Ева едва не упала, споткнувшись о кусок асфальтовой глыбы. Артем снова поддержал ее под локоть и снова сразу же опустил руку.
– Можно переулком пойти, – предложил он. – Да-а, тут теперь не погуляешь, сплошь разворотили! Неужели сделают когда-нибудь?
– Сделают, – улыбнулась Ева. – Даже очень скоро, наверное.
– А вы откуда знаете? – удивился он.
– Просто – чувствую, – пожала плечами Ева. – Совсем другой жизненный ритм стал, это же сразу чувствуется.
– Все вы чувствуете… – Ей показалось, что по лицу его мелькнула легкая тень. – Мне очень хочется вас понять, Ева Валентиновна! Но это трудно, мне трудно – у вас такая сложная жизнь в душе.
Она посмотрела на него удивленно и тут же снова ощутила неловкость. Любая доверительность в отношениях с учеником должна иметь границы, а он переступал их так очевидно, что невозможно было не заметить. Правда, Еву совсем не обижало то, что он говорил, но все-таки…
– Куда вы поступать думаете, Артем? – спросила она, чтобы как-то перевести разговор на более нейтральные темы.
– Не знаю, – пожал он плечами. – Ничего определенного. В смысле, никаких определенных талантов. Только вы не думайте, – усмехнулся он, – метаний тоже, в общем-то, никаких. Сплошная усредненность. Ну, поступлю куда-нибудь, конечно, не в армию же идти.
– Вы, наверное, спортом занимаетесь, – заметила Ева: плечи у него были спортивные и походка.
– Неважно, – снова усмехнулся он. – В этом смысле тоже ничего особенного.
– Зря вы так, – возразила Ева. – В вашем возрасте – и загонять себя в такие узкие рамки… Тем более что не вам, мне кажется, говорить об усредненности.
Незаметно они свернули с Тверской и дошли до Трехпрудного переулка. Ева даже обрадовалась, увидев перед собою знакомый барельеф – цветок репейника на здании старой типографии.
– Вот, Трехпрудный, – немного торопливо, предупреждая его предложение проводить ее до Пушкинской площади, проговорила она. – Вы ведь здесь где-то живете, да? Знаете, Артем, я дальше одна пойду. Мне хочется одной побыть… Еще раз спасибо, что проводили.
– Вам спасибо, – не пытаясь возражать, ответил он. – У вас в среду последний урок? У нас то есть?
– Да, – кивнула Ева. – До свидания, Артем.
Она пошла по переулку в сторону Пушкинской, а он остался стоять на углу переулка.
«Он, мальчик, хочет понять… – думала Ева, идя по Трехпрудному и потом, уже спускаясь в метро. – Он говорит о душевной жизни. Значит, ему это важно, он чувствует это? А человек, которого я люблю, – ему не важно во мне ничего, я это знаю, и все равно… Прощаю ему? Да нет, просто понимаю, что по-другому и не бывает».
В этом была главная причина горечи и тревоги, поднявшейся в душе после короткой и случайной встречи с Денисом. И Еве грустно было признаваться себе в очевидном.
Глава 7
Тогда, шесть лет назад, она думала, что не выдержит без него и дня.
Каждая минута, проведенная с ним в Крыму, увеличивалась в воспоминаниях, приобретала ни с чем не сравнимое значение. Как назло, происходил какой-то кавардак с расписанием, его почему-то никак не могли составить, и первую неделю после похода уроки у них почти не совпадали по дням. А когда совпадали, то были расположены так, что они лишь коротко встречались в учительской.
Впрочем, может быть, это было даже и хорошо: Ева не представляла, как вести себя с Денисом под множеством посторонних взглядов. Болтать о чем-то неважном, делать вид, что ничего не было? В том обостренном, смятенном состоянии, в котором она находилась, едва ли ей это удалось бы… Она даже взглянуть на него боялась, старательно отворачивалась, чтобы не встретиться с ним взглядом при всех, потому что не знала, каким будет ее взгляд, когда встретятся их глаза.
Неизвестно, сколько длилось бы это смятение и эта неизвестность, если бы Денис сам не остановил ее однажды на перемене в коридоре второго этажа. Наверное, у него закончился урок в самом дальнем, за поворотом, кабинете. Ева не заметила, как он вышел из класса и догнал ее.
– Ева, подожди! – окликнул Денис. – Ты на урок или освободилась уже?
Ева вздрогнула, услышав его голос у себя за спиной.
– Да… Нет еще… – невпопад ответила она, глядя прямо в его глубокие, прекрасные глаза.
– Надо бы нам увидеться как-то, – негромко сказал Денис, подойдя совсем близко. – Да я пока что-то не соображу, как. Я же с родителями живу. Глупая причина в наши годы, но тем не менее. Ты ведь тоже?
– Я тоже, – с трудом произнесла Ева. – Но, может быть, я как-нибудь… Они на дачу могут уехать с Полиной, а Юра дежурит часто, может быть, я…
– Ну, попробуй, – кивнул Денис. – Я бы хотел, Ева…
Он посмотрел на нее тем взглядом, медленным и одновременно мимолетным, от которого душа у нее переворачивалась.
– Да, – только и смогла выговорить она. – Я тебе скажу тогда, хорошо?
– Хорошо, милая, – улыбнулся Денис и, легко прикоснувшись к ее плечу, пошел по коридору.
Легко было сказать «попробую»! Ева вдруг поняла то, чего раньше совсем не замечала: ее жизнь так прочно встроена в жизнь всей семьи, что любое самостоятельное движение не останется незамеченным. Не то чтобы кто-нибудь когда-нибудь что-нибудь ей запрещал, вовсе нет! Ева всегда чувствовала, что любовь к ней родителей совсем не деспотична. Но она была окружена их любовью, как коконом, и всякое неожиданное действие значило бы разрыв этой плотной и ласковой оболочки… И как было это сделать, чем объяснить?
Прежде у нее просто не было потребности в самостоятельных действиях; к двадцати семи годам Ева впервые это поняла.
«Ну что им сказать? – думала она, ворочаясь бессонной ночью в своей кровати. – Все равно я не смогу сказать так, чтобы мама не догадалась… Почему я не еду с ними в Кратово – тетради буду проверять? Но я всегда брала тетради с собой и проверяла там, и они, конечно, сразу поймут…»
Это было так глупо, в это просто поверить было невозможно: взрослая женщина размышляет, как бы сказать маме, что хочет остаться наедине с любимым мужчиной! Но все в ее жизни было бестолково, все было запоздало, и Ева только теперь начинала это понимать.
Полинка проговорила что-то во сне – быстро, удивленно – и села в кровати, глядя на Еву широко открытыми глазами. С ней часто это бывало, а лет до пяти она вообще бродила ночью по комнатам.
– Ты не спишь? – на всякий случай спросила Ева, зная, что сестра скорее всего ее не слышит.
Полина посидела еще несколько секунд, глядя перед собой удивленным и невидящим взглядом, потом легла, закрыла глаза, и лицо ее стало безмятежным.
Ева чувствовала, что начинает сердиться на весь мир, на все, что так в нем любила: на родителей, на их устоявшуюся и ясную жизнь, даже на ни в чем не повинную Полинку.
«Зачем все это? – с тоской думала она. – Зачем и спокойствие, и ясность, если все это мешает мне просто побыть с ним, почувствовать его – всего его почувствовать?..»
При этой мысли в глазах у нее потемнело. Она вдруг наяву представила то, что мелькнуло в голове, – всего его, его губы, и руки, и жесткие завитки на затылке… Отчаяние охватило ее, и не было избавления от этого отчаяния!
Но, конечно, это было всего лишь ночное отчаяние – то самое, которое всегда охватывает во время тревожной бессонницы и разрешается простой поговоркой: «Утро вечера мудренее».
Заснув под утро, Ева чуть не проспала, хотя идти ей было ко второму уроку, и едва успела поговорить с Юрой до того, как он прилег после дежурства.
Брат вернулся из Армении вскоре после Евиного крымского похода. Вернулся какой-то подавленный, с лицом, темным то ли от воспоминания о бесконечных человеческих страданиях, то ли просто от усталости. Но отдых у него, конечно, предусмотрен не был. В Институт Склифософского, где он проходил интернатуру, привезли человек двадцать тяжелых, и все травматологи работали в усиленном режиме. Поэтому он и забегал домой только поспать, да и то ненадолго.
Юра пил на кухне чай. Он всегда заваривал его так крепко, что смотреть было страшно, к тому же пил без сахара из огромной синей чашки с нарисованным на дне медвежонком. Эту чашку подарила бабушка Миля, когда Юрке исполнилось пять лет, чтобы внук выпивал побольше молока. Правда, темный как деготь напиток его совершенно не бодрил, когда он приходил после своих бесконечных дежурств. Юра пил его скорее по привычке и сразу засыпал.
– Доброе утро, – сказала Ева, выходя к нему на кухню. – Устал, Юра?
– Угу, – пробормотал он, ставя чашку в раковину. – Что-то вроде.
– Оставь, я помою, – сказала она, заметив, что брат пытается сполоснуть чашку холодной водой. – Почему не разбудил, я бы тебя хоть завтраком покормила. Что это ты входишь так бесшумно?
– Разве? – удивился он. – А я не заметил, вошел себе, и все. Я думал, нет никого. Да мне не хочется завтракать, я вчера вечером пообедал.
Отец уже ушел на работу, Полинка убежала в школу, и даже мама с утра пораньше отправилась к зубному.
– Ложишься уже? – спросила Ева. – Юр, подожди, ты знаешь, я хотела тебя спросить… Понимаешь…
– Ну, золотая рыбка, чего тебе надобно? – Юра едва заметно улыбнулся, взглянув на нее. – Скажи, скажи, что ты мнешься?
Это прозвище у нее такое домашнее было с детства – золотая рыбка. Хотя совершенно оно ей не подходило…
– Юра, ты не мог бы дать мне ключи от гарсоньерки? – наконец выговорила Ева.
Она так побледнела, произнося эти слова, что, наверное, даже Юра заметил, хотя глаза у него щурились от усталости. Ева ожидала расспросов или хотя бы легкого недоумения в голосе брата: зачем это вдруг ей понадобились ключи от бабушкиной квартиры и почему она говорит об этом таким смятенным тоном?
– Возьми, – ответил Юра. – Зачем ты спрашиваешь? Они же в буфете лежат, в шкатулке.
Ненужных вопросов он задавать не стал, голос его тоже ничуть не изменился, и Ева вздохнула с облегчением.
«Конечно, он же устал, – подумала она. – А я сделала из мухи слона».
В самом деле, почему ей представлялось, будто Юру так же трудно будет попросить об этих ключах, как сказать маме, что она хочет остаться дома одна? Все ее тревоги и страхи были так смешны по сравнению с тем, что он видел каждый день у себя на работе…
– Спасибо, – смущенно кивнула Ева. – Ты иди, Юр, ложись, никак я тебя не отпущу.
– Ничего, – сонно улыбнулся он. – А ты не волнуйся по пустякам и не бойся делать то, что хочешь.
И, сквозь сон подмигнув сестре, он вышел из кухни.
И вот она ждала.
Ева сидела в бабушкиной квартире – в гарсоньерке, как ее назвала когда-то Эмилия Яковлевна, – и ждала Дениса. Она не знала, сколько сидит так, положив руки на колени и глядя, как не по-зимнему дождливое утро занимается в окне.
Квартира находилась в их же доме, только в другом подъезде. Но дом у них был большой, а этот подъезд к тому же располагался в укромном месте – во внутреннем углу, на стыке секций – да еще был пронумерован как-то не по порядку. Посторонние вечно разыскивали его по всему двору, когда приходили к кому-нибудь в гости.
Это был писательский кооператив, его начал строить покойный дед, но он умер, еще когда жили в коммуналке на Ордынке, и даже не успел въехать с женой и сыном в свою новую трехкомнатную квартиру. А Эмилия Яковлевна потом стала членом правления, так что ей удалось без особенного труда получить для себя вот эту однокомнатную гарсоньерку, когда семья разрослась и трудно стало умещаться в одной квартире.
Конечно, не то чтобы ей принесли ордер на блюдечке, но, говоря «без особенного труда», бабушка Миля подразумевала, что не пришлось проявлять какую-то нездоровую активность и обращаться к неприятным ей людям. Она просто дважды подавала заявление и получила наконец то, что хотела.
Вообще Эмилия Яковлевна в основном добивалась житейских благ именно таким образом: не совсем без ее участия, но и не в результате «шакалки», которой занималось множество литературно-киношных дам, не обладавших никакими особенными способностями, но зато обладавших желанием получить от жизни все и сверх того. При всей напряженной светской жизни, которую она вела, Эмилия Яковлевна никогда не дежурила под дверьми комиссий, посылавших на очередной международный кинофестиваль, не унижалась перед женами начальников и не спала с самими начальниками. И все-таки посылали именно ее и давали ей то, что она хотела. И приглашали, и премировали…
– А что, собственно, в этом удивительного? – посмеивалась когда-то Эмилия Яковлевна. – Я довольно незамысловатый человек, таланты у меня легкие, яркие, но, по сути, тоже незамысловатые, а следовательно, никого не раздражающие. Немного направленных усилий – и все в порядке. И потом, я же работаю, и довольно много, а это вознаграждается даже при таком блядском режиме, как наш.
В выражениях бабушка никогда не стеснялась, но спорить с ее характеристиками было трудно.
Для работы ей действительно нужна была отдельная квартира, в которой можно было бы ночью писать статью или докторскую диссертацию. И чтобы внуки не путались под ногами, когда приходит в гости какой-нибудь великий режиссер или шумная компания заваливается под утро после домкиношного ресторана.
Но и уезжать далеко от этих самых внуков – особенно, конечно, от Юры – бабушка не хотела. Значит, нужна была квартира в соседнем подъезде – и она ее получила.






