Последняя Ева Берсенева Анна
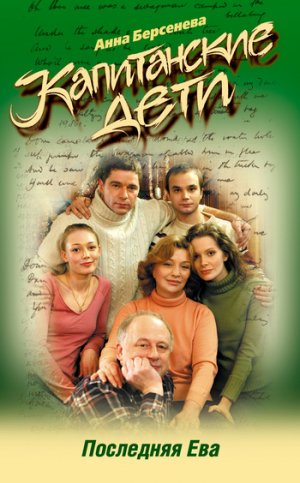
Но все это происходило так давно, что Ева и не помнила сейчас об этом. Да она ни о чем не помнила, ни о чем не думала – только ждала.
Самые простые действия давались ей в эти два дня огромным усилием. Еве казалось, что все мгновенно догадываются о ее намерениях. Вчера ей стыдно было смотреть в глаза завучу, когда она просила его о выходном посреди недели. Сегодня она боялась столкнуться с кем-нибудь из соседей, торопливо возвращаясь утром от метро к бабушкиному подъезду, – хотя отец, как всегда, работал, мамина зубная эпопея продолжалась, а кому еще могло быть до нее дело? Но она чувствовала себя так, словно шла по раскаленной сковородке.
Только с Юрой поговорить оказалось легко.
Нет, ее совершенно не волновало, кто что скажет и подумает. Ее вот именно тяготила эта необходимость совершать какие-то рациональные действия, чтобы приблизить это мгновение – когда Денис поцелует ее тем удивительным поцелуем, который она не могла забыть… Это должно было произойти само собою, как и произошло туманным утром на пустынном плато. Как дар судьбы, а не как результат ее собственных хитроумных усилий.
Но в жизни все происходит не так, как представляется взбудораженному уму, это Ева уже понимала. Или в лучшем случае не совсем так.
Поэтому она ждала, чувствуя, как текут сквозь нее минуты.
Денис знал, что она ждет его утром, и номер квартиры знал, и как найти этот укромный подъезд. И у него сегодня как раз был библиотечный день, так что, в отличие от Евы, в школе ему договариваться было не надо. Ева даже боялась, что он уже приходил, а ее не застал – пока она спускалась в метро, пережидала внизу, торопливо возвращалась к дому…
Но его не было ни в девять, ни в десять, ни в половине одиннадцатого… В одиннадцать она поняла, что он не придет.
Эта догадка повергла ее в такое оцепенение, что она пальцем не могла пошевелить. Так и сидела, положив руки на колени, как деревенская старуха на старой фотографии.
«Почему он захотел встретиться только сейчас? – медленно, тоскливо проплывало в голове. – Ведь уже месяц почти прошел после Крыма… Он спокойно здоровался со мной в школе, улыбался – точно так же, как Галочке, как Мафусаилу. Что может значить для него все, что между нами произошло? Да ничего!»
Она даже не смогла обрадоваться, услышав короткий, торопливый звонок в дверь. Даже встала не сразу, чтобы открыть.
– Евочка, милая, ты не сердись! – Денис стоял на пороге, капли измороси блестели на рукавах его куртки и на прилипших ко лбу темно-русых завитках. – Сам не знаю, как это я… Вышел, понимаешь, утром пробежаться, как обычно. А на стадионе ребята футбол затеяли. Из нашего дома пацаны, мы с ними мячик кидаем время от времени. Ну, я подумал: погоняю полчасика, согреюсь, утро холодное такое… И сам не заметил, как время пролетело. Часы-то не надел на пробежку!
Денис переступил порог и улыбнулся такой обезоруживающе-ласковой улыбкой, что Ева забыла обо всем. Ясная, чистая радость была в его взгляде – оттого, что он видит ее, что все его тело звенит после недавнего утреннего футбола, от ожидания встречи с нею наедине… Ева сразу почувствовала в нем эту радость молодой прекрасной жизни – и тут же исчезли бесконечные часы тоскливого ожидания, и она положила руки ему на плечи.
– Не обиделась? – спросил Денис, наклоняясь к ее губам.
– Нет, – успела она ответить перед поцелуем. – Да ведь я же не на улице сидела, это ничего…
Все было неважно, все тревоги сгорели в его поцелуе, в страстном и твердом прикосновении его губ, в нетерпеливых объятиях…
Они лежали рядом на бабушкиной кровати. Ева чувствовала мускулы Денисовой руки под своей щекой. Постелить она не догадалась, на это ей уже просто не хватило рассудительности, и они лежали поверх разноцветного тканого покрывала, которое бабушка привезла когда-то из Перу. Топили в квартире слабо, но Ева не чувствовала холода, прижавшись к горячему Денисову боку. Он лежал на спине, и вторая его рука легко гладила Еву по голове.
– Интересно здесь, – сказал Денис. – Это что за квартира?
– Это бабушкина была, – не узнавая своего голоса, ответила Ева. – Она умерла шесть лет назад. А теперь Юрина, брата, но он все равно с нами живет. Он ведь дома почти не бывает, и зачем ему отдельно жить, готовить и вообще… Я тебе разве не говорила?
– Забыл, наверно. Я думал, может, подружкина квартира. Это что за маска, африканская?
Бабушкина гарсоньерка, конечно, выглядела необычно. Эмилия Яковлевна начала ездить по всему свету еще в туманные для Евы шестидесятые годы, когда самой дальней заграницей для большинства советских людей была Эстония. Маску, о которой спрашивал Денис, она действительно привезла из Африки – из Республики Чад, кажется. Маска была вырезана из тускло поблескивающего черного дерева, и выражение на свирепом лице застыло самое экзотическое.
– Она много ездила, – сказала Ева. – Она кинокритик была, очень известная. В Канн всегда… Знаешь, у нее такой вкус хороший был! Мама говорит, платья она портнихе заказывала такие, что все ахали. Думали, от Шанель, не иначе, а она фасоны сама придумывала. И всегда покупала то, что ей нравилось, сколько бы ни стоило. Если маска понравится – на последние деньги купит маску, хотя нужны, например, туфли.
Ева говорила о бабушке с улыбкой: ей хотелось рассказывать о ней Денису. Рассказывая, она сама вспоминала ее до старости звонкий голос, неблекнущие глаза – в точности Юрины, натуральный кобальт, как говорит Полинка. Даже бабушкина всегдашняя уверенность в собственной правоте теперь вспоминалась легко, без того напряжения, которым при жизни сопровождалась для близких.
В гарсоньерке хранились куклы, привезенные Эмилией Яковлевной из Венеции, и греческая керамика, и китайские вазы, и палехские шкатулки, и японские веера, и метеорит, подаренный ей где-то в Сибири, и еще множество других необыкновенных вещей. Но главное, все это было ею расположено в том особенном порядке, который сохранил дыхание ее жизни, ее кипучую энергию даже спустя годы, прошедшие после ее смерти.
– По-моему, это вообще самое интересное, – сказал Денис. – История рода, предков.
Он высвободил руку из-под Евиной головы, сел, перегнулся через нее, дотянулся до своих брошенных на стул брюк, достал сигареты. Ева смотрела на него – на его голое стройное тело, в котором был теперь покой удовлетворенного желания, на маленькую родинку в самом низу живота, едва заметную сквозь вьющиеся темные волосы – такую же, как в правом уголке губ. Она впервые видела его обнаженным при свете дня, и горло у нее сжималось от счастья и боли, невыразимой и ей самой непонятной.
– А я, знаешь, сейчас тоже генеалогией своей увлекся, – продолжал он, снова ложась рядом с Евой и щелкая зажигалкой. – Такие нити обнаружились, аж голова кругом идет! Может, правда, это всего лишь мои домыслы, – улыбнулся он. – «Баташ» – это ведь знаешь что означает? Крепкий, сильный, могучий, властный. Притом появилось во всех тюркских языках еще веков сто назад, представляешь? Даже хан Батый, может, от того же корня происходил!
Ева вслушивалась в его слова, и сердце у нее замирало от той тихой доверительности, которая чувствовалась в его голосе. Он говорил с ней о том, что его увлекало, он хотел говорить с ней об этом – и это было так много, что не умещалось в сердце.
Тонкая струйка дыма поднималась к потолку, Денис стряхивал пепел в одну из бесчисленных пепельниц, расставленных по всей квартире. Бабушка курила беспрерывно, привозила пепельницы отовсюду, и ни одна не повторялась. Та, что стояла на тумбочке у кровати, была сделана из перламутрово-синей индонезийской раковины.
Все еще болело у Евы внутри от Денисовых страстных, властных ласк, от стремительных порывов его тела. Но это уже была не та боль, которая так ошеломила ее в первую ночь. Теперь это и не боль даже была, а постоянная память о нем, обо всем его теле, о его неутолимом желании.
– Ты говори, говори, – сказала она. – Почему ты замолчал?
– Мне показалось, ты уснула. Так тихо дышишь.
– Я тебя слушаю, – улыбнулась Ева. – Как же я могла уснуть?
– Да я уже все рассказал вообще-то. – Он смял окурок в пепельнице. – Изыскания в самом начале, так что ничего конкретного пока, просто мне интересно.
– Тебе многое интересно, правда, Диня? – спросила Ева, приподнимаясь на локте и заглядывая ему в глаза.
– Правда, – кивнул он. – Жизнь вообще интересна, разве нет? Разнообразна. Столько всего можно успеть, что просто дух захватывает. Светового дня не хватает! Я знаешь что больше всего люблю?
– Что? – не отводя глаз от его лица, спросила Ева.
– Путешествовать. Только не просто так, не для созерцания, а с какой-нибудь целью интересной. Раскопки там, альпинизм, еще что-нибудь такое. И не один, а чтобы с людьми, которым тоже все интересно. С заводными такими людьми, вот как гаврики мои! Чтоб легкие были на подъем, ничего не боялись бы.
А Ева не знала, любит ли путешествовать. Но если ей этого и хотелось, то именно с какой-то неясной созерцательной целью…
– Ты и правда ведь ничего не боишься, – тихо произнесла она.
Ей не приходилось попадать с ним в ситуации, когда он проявлял бы какое-то особенное бесстрашие. Но она чувствовала его в Денисе – и в голосе его, и в плечах, и даже в том, как он держал сигарету в узкой сильной руке.
– Наверное, – улыбнулся он. – Во всяком случае, пока не было случая бояться. Да и к чему заранее переливать из пустого в порожнее, и чего пугаться, пока молодой, пока сил достаточно? Надо брать от жизни как можно больше, а не цепляться за мелочи.
Это была логика сильного, уверенного в себе мужчины. Ева только не могла понять, отчего так дрогнуло ее сердце при этих его словах.
– Ну, давай еще разок, а? – вдруг прошептал Денис, быстро поворачиваясь к ней и прижимая ее к своему животу. – Ты какая-то скованная была, почему это? Или мне показалось?
Ева так испугалась его слов, что не нашлась с ответом. Конечно, она была скованная, и все снова было для нее почти как впервые. Особенно из-за тусклого, но все-таки беспощадно-ясного света, падающего из окна. Она и сама чувствовала неловкость своих движений и мучилась своей неумелостью настолько, что снова забывала о себе, думая об одном: лишь бы он не почувствовал, лишь бы не отшатнулся!
– Ты не обращай внимания, – шепнула она ему в ответ в самые губы. – Я просто… Я так волнуюсь, Диня! Я же тебя люблю…
– А ты не волнуйся. – Он снова поцеловал ее. – У нас с тобой, по-моему, сразу неплохо получилось, о чем же волноваться? Дальше еще лучше будет! Только давай по-другому попробуем, а? Теперь ты на меня сядь. – Денис произнес это чуть глухо, нетерпеливо и одновременно со своими словами слегка подтолкнул Еву, помогая ей сделать то, что он хотел. – Ага, вот так… Ничего-ничего, я сейчас, сейчас все получится. У тебя, наверно, давно никого не было, да? – Он пригнул ее голову вниз, поцеловал, проведя языком по ее зубам. – Ты не бойся, все будет хорошо, я все для тебя хорошо сделаю…
Еве не было хорошо и в этот раз, но что ей было до себя! Она чувствовала, что Денис действительно хочет не только получить удовольствие сам, но и сделать что-то для нее. И как она могла отвергнуть его порыв, нежный и страстный?
«Все у нас будет… – мелькало в ее трепещущем сознании, когда, подчиняясь движениям его рук и бедер, она то приподнималась, то опускалась на его живот, то изгибала спину, почувствовав, что ему это приятно, что он даже тихо постанывает от удовольствия. – Я люблю его, и он меня, и ему хорошо, и мне будет тоже…»
Ее шпильки упали на пол, волосы рассыпались, сразу освобожденно посветлев, скрывая плечи и грудь.
Тусклый свет зимнего утра едва освещал прильнувшие друг к другу тела, тишина стояла в комнате, и только прерывистое, тяжелое дыхание слышалось в тишине.
Глава 8
Ева так и не могла привыкнуть к тому, что надо как-то существовать в обыденности, как-то прилаживать свою любовь к будням.
Правда, она уже не краснела и не бледнела, встречаясь с Денисом в школе. Но, стараясь казаться беспечной, она все-таки не чувствовала в себе той неподдельной беспечности, с которой он здоровался и болтал с ней на переменах или после уроков в учительской.
Каждую минуту она ждала, что он снова предложит встретиться. Скажет об этом тем же нежным, нетерпеливым тоном, и она снова возьмет ключи… Только вот выходной среди недели – как попросить его опять, если не совпадет с ее библиотечным днем? Или просто прийти незаметно после школы прямо в гарсоньерку? Или встретиться в воскресенье, но что тогда сказать дома?
Ева и сама не понимала, почему так старательно скрывает от родных свою неожиданно вспыхнувшую любовь. Денис был во всех отношениях отличным парнем и наверняка понравился бы им. Он не был женат, она не разбивала ничье счастье, и чего ей было стесняться?
Но, умом понимая все это, Ева так и не могла решиться отдать свое чувство этим волнам – волнам обыденности. Да и Денис пока не предлагал встретиться, и ей оставалось только гадать, почему. Никаких признаков неприязни с его стороны ведь не было…
Конечно, мама давно заметила, что Ева переменилась. Да и как было не заметить этот румянец, то и дело пробивающийся на ее щеках сквозь падающие светлые пряди, и блеск глаз, и таинственную, неизвестно отчего расцветающую на лице улыбку? Едва ли Надя не догадывалась, почему вдруг окутывает ее дочь такое тихое сияние. Догадывалась, наверное, и смотрела с тревогой, но, по своему обыкновению, не задавала лишних вопросов.
Где-то в начале февраля Денис сказал однажды:
– Знаешь, я, кажется, разменяюсь все-таки с предками. Сколько можно жить как мальчик? Они, конечно, женитьбы моей ждали, чтоб разменяться, но это же смешно. Как будто без женитьбы мне свобода не нужна!
Они медленно шли вдвоем по Садовому кольцу. Оба засиделись допоздна, потому что в школе как раз готовился грандиозный праздник – Масленица. Весь день после уроков в мастерских шили костюмы и делали декорации, в актовом зале репетировали, и только недавно удалось отправить детей по домам. Стемнело, наконец-то выпавший снег поблескивал в свете фонарей. Все было обычным для этого времени года, и все повторялось неизвестно в который раз: снег поблескивает под фонарями, мужчина и женщина медленно идут вдвоем по московской улице… Но Ева меньше всего думала сейчас о повторениях.
«Все теперь изменится! – мелькнуло у нее в голове. – Он будет жить отдельно, и ничего не надо будет специально придумывать, устраивать, мы просто будем видеться, когда захотим. Боже мой, всегда!»
Словно прочитав ее мысли, Денис произнес:
– Не знаю только, когда удастся. Хотелось бы, конечно, поскорее, но у нас такая планировка дурацкая, черт ее знает, как такую и разменять! Не квартира, а распашонка.
Ева знала, что он живет где-то в Чертанове и каждый день добирается на работу не меньше часа. Но, кажется, его беспокоило не расстояние.
– Хорошо бы в Крылатское попасть, – продолжал Денис. – Я, знаешь, парапланами увлекся, а там-то как раз – летай не хочу!
– А что это? – спросила Ева. – Вроде дельтапланов?
– Ну, почти, – кивнул он. – Скорее вроде парашютов. Только на них паришь, в воздухе паришь, понимаешь? Я попробовал недавно. Это такой кайф, Ева, ни с чем его сравнить невозможно! Я в Крылатское на лыжах поехал кататься, ну и решил попробовать. У меня в груди все прямо взвихрилось, никогда со мной такого не было! Знаешь, как это бывает?
– Знаю, – улыбнулась Ева.
С ней это происходило, когда он обнимал ее, приоткрывал ей губы поцелуем. Но он был мужчиной, все у него было по-другому. И сердце у него замирало не тогда, когда он целовал женщину, а когда летал на параплане.
«Я, наверное, за это его и люблю, – подумала Ева. – Нет, не за это – я просто так его люблю, и все, что он делает, и лыжи его, и походы, и парапланы…»
В метро им надо было ехать в разных направлениях. Ева с удовольствием проехалась бы до «Чертановской», а потом уже домой: так не хотелось сразу расставаться… Но Денис этого, конечно, не предложил. Да и с какой стати он стал бы предлагать, чтобы она его проводила? О том, когда они встретятся вне школы, он тоже не говорил, и Ева теперь понимала, почему: он просто ждет, когда наконец разменяется с родителями. Но когда это еще будет! И как прожить это бесконечное время без него?
– А у меня день рождения скоро, – сказала она. – Ты придешь?
День рождения у нее был в марте. Ехидная Полинка называла его «рыбным днем»: Рыбы, Евин знак, замыкали годовое кольцо Зодиака.
– Ну, если пригласишь, приду, конечно, – улыбнулся Денис. – Скоро – это когда?
– Десятого марта.
– Хорошо, – кивнул он. – Что тебе подарить?
Ей было все равно, что он подарит и подарит ли что-нибудь вообще. И хотя десятое марта было совсем не скоро, больше месяца еще, но это все-таки была определенная дата, которой можно было ждать. И ведь это не было навязчивостью с ее стороны – назначить встречу, просто пригласив его на день рождения…
Никогда в жизни Ева не ждала своего дня рождения с таким волнением. Разве что в детстве, когда жила у бабы Поли в Чернигове. Но тогда ей три года исполнялось, а не двадцать семь. А таких дат, как ее нынешняя, незамужние женщины вообще-то ждут уже без особенной радости…
Но она ждала встречи с Денисом, и ей было все равно, с чем эта встреча будет связана. Да хоть со столетним юбилеем!
К Евиному удивлению, намерения мамы совпали с ее собственными.
– Ты пригласила бы друга своего на день рождения, – сказала Надя таким тоном, как будто наличие друга было чем-то само собой разумеющимся и всем давно известным. – Все-таки нам ведь хочется его увидеть. И чего ты как маленькая таишься, не понимаю.
Они сидели втроем перед телевизором и смотрели какой-то фильм. То есть Ева только делала вид, что ее интересует фильм. Но она не предполагала, что мама это замечает.
– Пригласи, пригласи, – повторила Надя. – Он ведь в школе вашей работает?
– Да, – удивленно кивнула Ева. – А откуда ты знаешь?
– Ну, ты уж нас совсем дураками считаешь, – улыбнулся, повернувшись к ней, отец. – А где ты еще бываешь, интересно? Да я его и видел, по-моему. Тот, с которым ты в походе была, симпатичный такой, с открытым лицом?
– Да, – смущенно согласилась Ева.
Ей стало так легко, так спокойно! Стоило только родителям на минуту вмешаться в течение ее жизни, и все тут же стало ясным как стекло. Исчезла смутная тревога, и неуверенность в происходящем, и беспричинное ощущение невозможности счастья… Все растворилось в прямом взгляде папиных глаз и в мамином спокойном голосе.
Может быть, впрочем, Надя вовсе не была так уж спокойна за свою старшую дочь, но она умела выглядеть так, как считала нужным, и ни о чем нельзя было догадаться по ее лицу.
– Он придет, – сказала Ева. – Его Денисом зовут. Денис Баташов.
…Уже совсем ночью, когда разошлись гости, которых в этом году было как никогда много – даже детских, дворовых подружек она позвала, – Ева впервые перевела дух.
Весь день все мелькало у нее в глазах, кружилось, дыхание замирало, когда она смотрела на Дениса и не могла поверить: неужели это он сидит на их широком диване, и играет на гитаре, и о чем-то разговаривает с отцом, и говорит какие-то веселые комплименты маме? Это было слишком прекрасно, чтобы быть правдой, но это было так!
Ева помнила каждое его движение, каждый взгляд и каждое слово. И все эти никому не заметные, но для нее такие важные подробности вспыхивали теперь перед ее закрытыми глазами. Гости разошлись, а она сидела на диване, еще хранившем для нее тепло его тела.
– Устала? – спросила мама, незаметно входя в комнату.
Она мыла на кухне посуду, там и сейчас шумела вода, поэтому Ева не слышала маминых шагов.
– Нет, – не открывая глаз, покачала она головой; печать счастья на ее лице и без слов была слишком заметна. – Мне так хорошо… Что ты о нем думаешь, мама?
– Хороший, – помолчав, сказала Надя. – Веселый, легкий. Моторный такой парень! И неглупый, конечно.
Надя как будто бы сказала о Денисе только хорошее, но что-то в ее тоне заставило Еву насторожиться. Она открыла глаза.
– Но – что? – спросила она, вглядываясь в мамино лицо. – Ты что-то еще сказать о нем хочешь?
Конечно, мама хотела сказать что-то еще. Это чувствовалось не только по голосу, но и по мгновенному промельку тревоги в ее глазах. Но сказала она совсем другое:
– Пел хорошо. Про Наденьку. – Надя улыбнулась. – «В любую сторону твоей души…»
Ева тоже помнила, как Денис спел песенку Окуджавы про Надю-Наденьку, весело глядя на маму.
– Ты ее, наверное, в молодости пела, – догадалась она. – Ну конечно, она же тогда и появилась, да?
– Да, – кивнула Надя. – Тогда много было песен.
Новые песни Надя запоминала сразу – достаточно было один раз услышать. А песен было множество, они звучали в доме целый день: неслись из трофейного «Телефункена», крутились на пластинках, слышались на лестничной площадке из-за соседской двери.
Из-за этой двери они, собственно, в основном и появлялись. Надя на слух определяла, когда приезжал из Киева Витя, и тут же выбегала на лестничную площадку, трезвонила в дверь к Радченкам, приплясывая на месте от нетерпения.
– Та иду, иду, Надька, скаженна дивчина! – Тетя Галя открывала дверь и качала головой. – Прыйихав вжэ твой кавалер, иди слухай!
Витька тоже выходил ей навстречу из своей комнаты. И тут начиналось! Он никогда не приезжал без новых пластинок – маленьких «сорокапяток», которые покупал в Киеве. Все это были новинки, самые лучшие, только что спетые Эдитой Пьехой, или Руженой Сикорой, или Ниной Дорда, или еще кем-нибудь из самых лучших певиц, которых Надя могла слушать хоть по сто раз.
То ли музыка, счастливая и беспечная, производила этот удивительный эффект, то ли вообще вся Надина жизнь… Но ей одинаково нравились и те песни, в которых слова были сами по себе хороши, – «Осень, прозрачное утро», например, – и совсем глупенькие, но от этого ничуть не менее прекрасные, вроде «Гусеницы и пчелы», которые вздыхают все «ох» и «ах», от страсти сгорая.
К тому же недавно был Московский фестиваль молодежи, и веселая, юная радость, которой он наполнил всю страну, до сих пор витала в воздухе. Даже здесь, в Чернигове.
Студенты ездили на целину, жили в летних степях какой-то особенной, тоже очень молодой жизнью, и эта целинная жизнь возвращалась с ними в родительские дома, наполняя всех молодостью и чувством счастливого будущего.
Витька и появился в Чернигове только в конце лета именно потому, что ездил на целину со студенческим отрядом Киевского политехнического. На обратном пути он еще зачем-то заезжал в Киев, и вот наконец – дома!
– Расскажу, Надюшка, все расскажу! – вместо «доброго утра» сказал он, как только Надя показалась на пороге. – Рассказов до ночи хватит, дай отдышаться. Я ж не умылся еще с дороги, подожди. Хочешь, новую пластинку пока послушай? – предложил он. – Лолита Торрес, вот кто!
И Витька жестом фокусника повертел перед ее носом пластинкой.
Еще бы не хотеть! Фильм «Возраст любви» с Лолитой Торрес Надя смотрела трижды подряд, хотя для этого каждый раз приходилось отстаивать длиннющую очередь в кинотеатр Щорса.
– «Сердцу бо-ольно, уходи, дово-ольно! Мы чужие, обо мне забу-удь!» – тут же напела она. – Ну, Вить, ну включи же, Вить! «Я не зна-ала, что тебе меша-ала, что тобою избран другой уже путь!»
– Что ж включать? – засмеялся Витька. – Ты и сама не хуже Лолиты поешь. Ладно, ты слушай пока, – сказал он, тоже к чему-то прислушавшись. – Я с другом приехал, он, кажется, кончил уже умываться, – пояснил Витя, выходя из комнаты.
«Наша судьба – две дороги, перекресток позади», – пела Лолита Торрес на новой пластиночке, а Надя слушала, забравшись с ногами на потертый диван и подсунув под локоть вышитую крестиком подушку-думку.
Тетя Галя, Витькина мама, отлично вышивала крестиком – и простым, и болгарским; настоящие картины получались. Она и соседям их дарила. На Надиной кровати тоже лежала такая думочка с вышитой луной, горой и морем. Они вообще дружили с соседями, Надя не случайно так запросто забегала к ним, когда приезжал Витька, которого она знала с самого своего рождения. Только раньше четыре года разницы между ними казались большим сроком, а теперь, когда ей исполнилось шестнадцать, а ему двадцать, – вроде и ничего, и можно держаться на равных, хоть он и киевский студент.
А что насчет кавалера – так какой он кавалер, Витька! Надя не понимала, как может быть кавалером человек, с которым вместе гоняли в детстве по двору и швырялись каштанами.
Тем более что кавалеров у нее хватало и без Вити Радченко. К шестнадцати годам Наденька Митрошина стала так хороша собою, что уж об этом ей беспокоиться не приходилось.
Хотя по-настоящему, правильно хороши были только большие черные глаза, про которые, казалось, и были написаны десятки песен – начиная от «Очей черных». Во всех остальных Надиных чертах чувствовалась какая-то прелестная неправильность. Но ведь она и делает лицо запоминающимся. Нос немножко длинноват, и скулы немножко высоковаты, и подбородок, пожалуй, чересчур четко очерчен и выдается вперед – но все вместе овеяно таким очарованием чистоты и юной серьезности, что невозможно думать о мелочах, глядя на эту маленькую девушку с каштановыми косами, уложенными вокруг головы.
В силе своих чар Надя убедилась этим летом, когда стала ходить на танцплощадку на Вал. Ей не приходилось пропускать ни одного танца. Куда там, только успевай следить, не вспыхнула бы драка из-за того, кому ее приглашать! А после танцев, под утро, партнеры провожали ее толпой и назавтра звонили домой, и если бы она попыталась съесть все мороженое, которым предлагал угостить каждый из них, то, пожалуй, не вылазила бы из ангин.
Мороженое Наденька любила, особенно шоколадное, и ела его с удовольствием, сколько сама хотела, и внимание молодых людей ей было куда как приятно. И вообще, все ее любили, жизнь была прекрасна, а обещала быть еще прекраснее! К тому же у Нади была мечта, а значит…
Витька вошел в комнату, на ходу причесывая мокрые волосы.
– Надюшка, познакомься, – сказал он. – Это Адам, мой однокурсник.
Парень в белой рубашке, входивший в комнату вслед за Витей, остановился в дверях и слегка наклонил светловолосую голову, здороваясь. Потом он поднял глаза, и Надя почувствовала, как сердце у нее замерло и тут же стремительно забилось в груди.
Глава 9
Адам Серпиньски был Витькиным другом с самого первого курса, но приехал к нему домой впервые. Все-таки он был иностранцем, хоть и из соцлагеря, а иностранцу не положено вот так запросто разъезжать по стране где вздумается, даже если речь идет всего лишь о поездке из Киева в Чернигов.
Но фестиваль всех наполнил эйфорией свободы, многое казалось не только возможным, но даже необходимым. И, вернувшись с целины, еще не отойдя от впечатлений, Витька наконец пригласил друга в гости.
По-русски Адам говорил прекрасно, и если бы не легкий акцент, то в нем бы и не опознать поляка. Впрочем, было в нем что-то еще, кроме необыкновенно выговариваемого звука «л», что отличало его от окружающих.
В нем было то особенное, утонченное изящество, которое сказывалось во всем – и в манере наклонять голову, слушая собеседника, и в красивом, точном движении, которым он передавал за столом нож или хлеб, и даже в форме губ, в уголках которых улыбка смешивалась с непонятным удивлением.
Но всего этого Надя не осознавала так отчетливо. Да она ничего вообще не осознавала. Весь вид этого юноши безотчетно поразил ее в то самое мгновение, как он показался в дверях.
И теперь она украдкой приглядывалась к нему, сидя за обильным тети-Галиным завтраком.
Стол ломился от домашней снеди. Холодец, винегрет, горячая картошка с грибами, жареное мясо, еще соленые грибочки, вареники, пироги с яблоками… Витька поглощал все это с таким аппетитом, что его мама только вздыхала:
– Яки ж ты худэньки зробывся, сыночку, чи ты там йив на тий целине?
– Пирожки у вас очень вкусные, пани Галина, – улыбнувшись, заметил Адам. – Моя мама тоже печет некепски штрудель, но ей до вас далеко!
Сам он ел очень мало, но попробовал все, что было на столе, и все похвалил. А Наде и вовсе было не до еды. Тем более что ее трудно было удивить домашними вкусностями: мама готовила, пожалуй, и позамысловатее тети Гали, а этих самых пирожков знала сотню рецептов, не меньше, и Надю давно уже научила.
– Английский, конечно, надо учить, – говорил тем временем Витя. – Или хоть французский, что ли. Что у нас за иностранный язык в Политехе, смех сказать! Сдал да забыл. А потом стоишь перед иностранцем столб столбом, ни бэ, ни мэ, ни кукареку! Вот китайцы у нас учатся, так они…
Конечно, больше всего Витька рассказывал о целине: о том, как ловили сусликов в степи, как он работал на комбайне ночью, об арбузных бахчах до горизонта… Но его рассказ, которого Надя так ждала, теперь совсем ее не занимал. Ей гораздо важнее было наблюдать, как слушает Адам, чем следить за самим рассказом.
«Я с тоской ловил взор твой ясный…» – пел нежный мужской голос на пластинке.
Окна были распахнуты, жаркий августовский ветер то и дело раздувал занавеску, теребил кружева на воротничке Надиного платья.
Вообще-то она совсем не была застенчива. В их классе даже считалось, что Надя Митрошина обладает самым острым язычком и кого угодно может отбрить запросто; да так оно и было. И она сама не понимала, с чем связана ее нынешняя робость.
Конечно, Адам поразил ее воображение. Сердце у нее колотилось быстро-быстро, когда она ловила на себе взгляд его светло-серых, с глубокой поволокой глаз. Но дело было не только в обычном волнении, которое испытывает каждая юная девушка в присутствии красивого молодого мужчины. А в чем еще – Надя что-то не понимала…
– Надолго вы приехали? – поинтересовалась она, глядя на друзей – так что непонятно было, к Адаму она обращается на «вы» или просто спрашивает обоих сразу.
– Ага, – ответил Витька, – до сентября. Наговоримся еще, накупаемся. На танцы сходим, – подмигнул он товарищу. – Адам у нас танцует – блеск, а поет – как Мадуньо, ей-Богу!
Доменико Мадуньо был кумиром всех девочек, его песнями заслушивались даже больше, чем «Арабским танго» Батыра Закирова. Когда Мадуньо пел «Блю-блю-блю канари», в его голосе слышалась такая ласковая беспечность, что мудрено было не подпасть под его обаяние.
– Ну, и меня тогда с собой возьмите! – засмеялась Надя. – Не помешаю?
– Не помешаешь, не помешаешь, – успокоил Витя. – Все еще помнишь, как я тебя в кино брать не хотел?
Конечно, Надя помнила, как лет десять назад ревмя ревела, умоляя, чтобы Витька взял ее в летний кинотеатр «Десна»! А он ни за что не хотел позориться перед хлопцами, таская за собой малявку, и только материнская оплеуха заставляла его мириться с такой участью.
– Конечно, вместе пойдем. – В голосе Адама необъяснимым образом чувствовалась та же таинственная поволока, что и во взгляде. – Прошам с нами, милая Надя!
Две недели, оставшиеся до сентября, тут же расцветились таким удивительным смыслом, что Надя даже зажмурилась, представив себе это бесконечное время.
На танцы ребята собрались только на следующий вечер: в первую ночь Витька хотел отоспаться хорошенько. И, как обещали, позвали Надю.
Старинный Вал когда-то защищал город от татарского нашествия. С более поздних, но все равно древнейших времен на нем стояли пушки, подаренные Петром Великим. Надя считала склон Вала самым красивым местом в Чернигове. Хотя вообще-то и белая Екатерининская церковь с золотыми куполами была хороша, и Болдина гора, и даже маленький скверик возле главной площади, который назывался «На жабках» из-за зеленых каменных лягушек вокруг фонтана.
«На жабки» водили гулять всех черниговских детей, и Надю когда-то тоже. А в парк на Валу ходили танцевать, и туда она шла теперь с Витькой и Адамом.
Летом танцы начинались поздно, когда сумерки сгущались наконец над Десной.
Надя собиралась в этот раз на танцы так тщательно, как никогда в жизни. Вообще-то платья у нее были красивые, и она не знала забот о том, что надеть. Мама хорошо шила, а отец часто ездил по своим директорским делам в Киев и не скупился, выбирая в столичных магазинах самые лучшие отрезы для единственной дочки. Так что одета она была не только не хуже других, а, пожалуй, даже лучше.
Но сегодня Наде хотелось одеться не просто красиво, а так, чтобы Адам почувствовал в ней… Что-то особенное чтобы в ней почувствовал, чего нет в других! Это желание как раз и повергло ее в глубокое раздумье перед открытым шкафом.
Наде вдруг показалось, что это так трудно – выглядеть в его глазах не такой, как все… Да просто невозможно! Она смотрела на собственное отражение в зеркале, укрепленном на внутренней стороне дверцы шкафа, и не находила в своей внешности ничего, что могло бы привлечь внимание такого юноши, как Адам. Самое обыкновенное лицо, ничего особенного. Длинноносая, скулы торчат, и ухмылка какая-то глупая… Она едва не заплакала. Все, что совсем недавно казалось ей в себе вполне привлекательным, теперь представлялось слишком простым и даже грубым. И платья, которые так ей нравились, были, конечно, точно такими же, как у всех.
Но время приближалось к одиннадцати, надо было что-то выбрать, и, вздохнув, Надя сняла с вешалки самое новое свое платье. Мама сшила его по свежему номеру журнала «Рижские моды», и если судить объективно, а не поддаваться какому-то смутному волнению, это было как раз такое платье, которое без смущения могла бы надеть даже знаменитая певица.
Оно было сшито из светло-голубого креп-жоржета, а пояс сделан из широкой атласной ленты, чуть более темной, чем общий фон. Но главное его очарование заключалось, конечно, в юбке, которая стояла пышным колоколом, как и полагалось по последней моде. Для этого Надя сама накрахмалила нижнюю хлопчатобумажную юбку так, что она чуть не ломалась в руках. И верхняя, легкая, поэтому лежала пышными волнами.
У неглубокого выреза был приколот маленький букетик синих колокольчиков, которые смотрелись как живые. Этот букетик папа еще в апреле привез из Киева вместе с отрезом креп-жоржета и атласной лентой. Мама даже удивилась тогда.
– Смотри-ка, Паша, можешь выбрать, когда захочешь. Красота какая! Ну и хорошо, к выпускному сошьем Надюше, – сказала она.
Но как было ждать до выпускного – еще целый год! Конечно, Надя упросила маму сшить платье уже к этому лету.
– Ну ма-ам, – ныла она, – ну сшей, ну пожалуйста! А на выпускной, если хочешь, я его тоже потом надену!
Хитрая она была девочка, Наденька: конечно, мама не позволила бы ей пойти на школьный выпускной бал в надеванном платье. И выдерживать долго ее горячие просьбы – на это у Полины Герасимовны тоже не хватило бы терпения. Все-таки Надя была их с Павлом Андреевичем единственной дочкой, поздней, долгожданной. Да и что плохого в том, что девочке хочется обновку? На то она и девочка. А Надюша у них хоть и нетерпеливая, но добрая и умненькая – пусть ее!
Это долгожданное платье Надя и надела наконец, собираясь на танцы.
Она окинула себя повеселевшим взглядом и решила, что выглядит, пожалуй, неплохо. И голубой цвет идет к ее глазам, потому что белки у нее голубоватые. И, может быть, оно все-таки проявится в ней, это особенное, не как у всех… Она пожалела только, что идет не вдвоем с Адамом. Конечно, третий был лишним, но не скажешь же об этом Витьке!
Кажется, Адам оценил ее усилия. Во всяком случае, когда Надя спустилась к ожидавшим во дворе студентам, он встретил ее таким откровенно восхищенным взглядом, что ей даже глаза захотелось отвести от смущения. Надя улыбнулась – и тут же замерла от неожиданности, потому что Адам взял ее руку в свою и поднес к губам.
– Привыкай, Надюшка, – усмехнулся Витя. – Это у них принято, ясновельможным паненкам ручки целовать!
Никто никогда не целовал Надину руку. Она только в кино такое видела, но даже представить не могла, как это прекрасно, когда светлая голова склоняется над твоими пальцами и губы прикасаются к ним – нежно, едва ощутимо – и тут же поднимаются на тебя глаза с поволокой… Она мгновенно забыла о том, как выбирала платье, и как разглядывала себя в зеркало, и как хотела казаться необыкновенной. Он сам был необыкновенный, этого невозможно было не почувствовать!
– Пошли, пошли, – поторопил Витя. – Давно началось, наверно.
Витька не обманул: Адам действительно танцевал так, что можно было забыть обо всем. Это Надя тоже почувствовала сразу, во время первого танца, на который он ее пригласил. Под первую же мелодию, которая зазвучала, едва они вошли на танцплощадку.
Всю недолгую дорогу до Вала Надя старалась не думать о том, как это будет – их первый танец… Как она положит руки ему на плечи, как совсем близко окажутся его чудесные глаза, так волнующие непонятной своей, светлой глубиною. Она невпопад отвечала на Витькины расспросы – кажется, о том, пошел ли в армию Мишка Хвылевой или не взяли из-за плоскостопия, да приезжал ли этим летом из Ленинграда Коля Малышев или опять закатился на все каникулы на комсомольскую стройку…
Адам шел рядом, и она все время чувствовала его присутствие, хотя он не произносил ни слова.
И вот они танцевали под первую томительную мелодию, и Надя боялась, что не попадает в такт от растерянности – его рука обнимала ее талию… Впрочем, опасения были совершенно напрасны. Адам вел ее легко, непринужденно и с какой-то особенной лаской; сбиться было просто невозможно. Щеки у Нади пылали от скрытого волнения, которым вся она была охвачена.
– Ты очень хорошо танцуешь, – наконец смогла она выговорить; уже звучали последние такты «Бессаме мучо». – Наверное, вы с Витей часто на танцы ходите в Киеве?
Адам слегка наклонил голову, прислушиваясь к ее вопросу, и его щека на мгновение коснулась ее волос. Наде показалось, что по ней пробежал разряд, как от удара молнии.
– Ходим. – Он улыбнулся. – В Киеве красивые танцплощадки – знаешь, на склонах Днепра. Только они называются так смешно.
– Как? – спросила Надя.
Она обрадовалась, что он поддерживает разговор так же непринужденно, как танцует, и можно не смущаться и даже смотреть в его глаза как ни в чем не бывало. Глаза Адама светились изнутри таинственным сиянием.
– Одна называется «Кукушка», другая называется «Жаба», – ответил он.
– Почему? – удивилась Надя.
– Я не знаю точно, но, по-моему, просто из-за картинок, – сказал Адам. – Там у входа нарисованы эти кукушка и жаба. Но я не могу понять, зачем. Просто так! – засмеялся он. – Здесь у вас так много делается просто так, мне иногда даже трудно зрозуметь! Сначала мне бывало поэтому грустно – потому что я не розумел, чего люди хотят, а теперь…
– А теперь понимаешь? – не удержалась от улыбки Надя.
– И теперь не все розумею. Но теперь я много что полюбил. И мне уже почти не бывает так… тенскнотно, – объяснил он.
Танец кончился. Адам отвел Надю на место и сам встал рядом с нею. Она была готова танцевать с ним все танцы подряд, но это ведь было невозможно, как-то неловко… И Надя протанцевала следующий танец с Костиком, который то и дело приглашал ее в прошлый раз, а потом с Витькой, а потом уже все танцевали новомодный быстрый твист, и она развеселилась, волнение ее немного утихло. И когда Адам пригласил ее в следующий раз, она уже смогла взглянуть на него тем милым взглядом, одновременно серьезным и веселым, за который ее любили друзья и от которого млели ухажеры.
– Ты тоже очень хорошо танцуешь, Надя, – сказал Адам. – Мне даже неловко отнимать тебя от твоих кавалеров!
– Ерунда, – засмеялась она. – Не умрут! А почему ты на инженера решил учиться?
– Почему же нет? – улыбнулся он. – Это хорошая специальность. Я буду строить дома, разве это не нужно?
– Да нет, конечно, нужно, – слегка смутилась она. – Просто мне показалось… Мне показалось, ты должен бы на кого-нибудь другого учиться! На художника, например.
– Я не умею рисовать. – Улыбка не сходила с его лица, когда он смотрел на Надю. – Я люблю стихи, даже пытался писать стихи, когда учился в школе, и думал, что буду кем-нибудь… Может быть, даже поэтом.
– Почему же передумал? – заинтересовалась она.
– Потому что… Это не очень приятно объяснять… Слишком много идеологии, а мне этого не хочется. И во всем, что связано с литературой, с искусством. Мне не хочется! Лучше я буду строить людям дома.
– А я хочу быть художницей, – сказала Надя.
Она сама не ожидала, что вот так, вдруг, скажет ему об этом. Это было ее сокровенной, потаенной мечтой, о которой даже мама не знала: думала, дочка просто любит рисовать, так ведь мало ли что она любит – танцевать, например, песни слушать…
– Правда? – почему-то обрадовался Адам. – И ты уже рисуешь?
– Да, – кивнула Надя. – Но, наверно, не очень хорошо. Я занималась раньше в Доме пионеров, но теперь нигде.
– Ты покажешь мне свои рисунки? – попросил он. – Мне очень хотелось бы поглядеть!
– Д-да… – пробормотала она. – Потом покажу…






