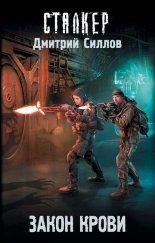Искальщик Хемлин Маргарита

И вот однажды в самом начале зимы 23-го года я с группой товарищей-старшеклассников шел на горку – покататься на торбе с учебниками и тетрадками, которые делались с помощь скрепления из газетных листов. После занятий – как было принято в то время у школьников.
Еще не совсем стемнело. Мимо нас промчался открытый автомобиль. Что само по себе являлось тогда в Чернигове редкостью. Рядом с шофером сидел дядька в хорошем воротнике зимнего пальто. Без шапки, я это отметил особо. Волосы его развевались на ветру и блестели в красивом вихре снежинок. Я красоту всегда отмечал и даже иногда плакал от ее силы. В ту минуту я не заплакал. Потому что узнал Переца Шкловского – отца моего детского друга Марика. Ошибиться не мог. Узнал не глазами, а самим своим сердцем.
Я закричал:
– Шкловский! Товарищ Шкловский! Ура!
Автомобиль умчался безответно.
Ночью, когда Рувим возвратился с работы, я сообщил про Шкловского.
Радости в лице Рувима не обнаружилось. Наоборот.
Он сказал:
– А… Увидел-таки… Давно знаю, что он тут. И он знает про нас. Марика нет. Потерялся. С слов Переца, конечно.
– Так ты с ним говорил? Раз он на целом автомобиле и с воротником, он, наверно, большой человек в Чернигове!
Я загорелся желанием встретиться с Перецом. В одну минуту надоело находиться рядом с Рувимом, видеть одних только больных, а здоровых редко, и то в школе.
Правда, что касается жизненного образования, то я его как раз в больнице и получал по горло. Что слышал, что додумывал в ходе размышлений. Когда человек больной, он говорит свободно. Особенно любит приводить примеры из действительности. И я научился действительность чуять не просто душой, а чем-то еще без души.
Неоднократно получал подтверждения от людей насчет того, что я удивительно и беспримерно умный.
Поэтому взрослость меня посетила рано. Причем я выглядел хорошо – и рост (правда, не сильно высокий), и сложение, и лицо.
Ну вот.
Перец теперь без сына. А я чем ему не сын? И по возрасту как Марик.
Это пронеслось во мне острой молнией.
Я вцепился в рубашку Рувима:
– Давай я к нему схожу! Про Марика хочу узнать! Марик же мой друг был! Ты мне почему раньше про них не рассказал? Почему? Ты предатель! И про деда с мамой сразу тогда не рассказал! Из-за тебя их убили! И про Переца с Мариком утаил! А у него и машина, и пальто, и все…
Я зарыдал открытыми юными слезами.
Рувим не участвовал в моем горе. Лег, как был в одежде, на койку и повернулся к стене.
Утром я обнаружил записку на столе, рядом с хлебом и стаканом теплой воды. Глотнул воду – сладковатая. Сколько раз просил Рувима – не размешивать кусочек сахара в воде, а оставлять рядом. Я б этот сколочек обменял на что-нибудь в школе. Так нет же ж! Обязательно намешает, намешает… Назло, конечно. Теперь я точно знал: назло.
Буквы в записке прямые, точные.
“Адрес Шкловского. Улица Святомиколаевская, дом 2. За Марьиной рощей”.
Вместо школы отправился по указанному адресу.
Стучал в калитку, в ворота, пока не убедился, что, кроме собаки, за забором никого нету. Походил неподалеку, съел хлеб, который на случай взял из дома.
Холод заставил меня приступить к обязательным действиям, так как покидать место жительства Шкловского я не имел в виду.
Нашел слабо прибитую доску, преодолел преграду забора и оказался на дворе. Обошел дом с всех сторон, подергал двери, окна. Закрыто крепко.
Хозяйства не было – ни кур, ничего.
Сделал вывод, что Перец живет один. Один как перст. И надо с всех сил дождаться его явления.
Если б не помехи с стороны собаки, которая беспрерывно гавкала и тянулась ко мне с целью укусить как непрошеного гостя – спасибо, цепь не пускала, – ожидание было б даже приятным. Светило зимнее солнце, с крыши легко капало. Под бушлатом меня согревала еще и баранья душегрейка. В подшитые валенки напихано бумажек для тепла – Рувим притаскивал старые истории болезней, так что холод под таким напором отступал.
Я рассчитал, что услышу издалека ход автомобиля и тогда повернусь спиной к калитке, чтоб вошедший не видел моего лица. Чтоб принял меня за другого – хоть бы за своего пропавшего сына Марика. Чтоб чувство радости захватило Переца, и на этой радостной волне он обнял бы меня с спины, не разбирая ничего на свете. А потом уже как-нибудь.
Но все-таки я отменил свое решение. Не надо давать пустой надежды. Надо встретить Шкловского лицом к лицу. Пускай сразу видит – я не Марик. Меня как такового он, конечно, не узнает в первые секунды. А потом как-нибудь.
Нога моя, разодранная при переходе через остёрский мосток, давно меня не беспокоила. А тут вдруг заныла. И так заныла – прямо плачь. Слезы выступили и сами собой потекли вниз.
Сумерки сгустились незаметно. Люди начали возвращаться кто откуда, с работы и прочее. Больше слышались голоса за забором, на улице. Проезжали подводы; Святомиколаевская – одна из главных улиц города, прямиком до базарной площади. Продавцы разъезжались по селам. Дети кричали, верещали на всю свою неосознанную дурь.
В шуме я не уследил, как рыпнула калитка и на двор ступил Шкловский. Собака приветственно залаяла в его сторону.
Перец бросил кому-то за спиной:
– Щас уведу Шмулика! Подожди, золотце! Я щас! Я его с утра не отпускал с цепи, так тебя ожидал в душе, так ожидал…
Я понял – мой план порушен. Перец получился не один.
Я спрятался за угол.
Перец вел под ручку женщину в пальто и говорил ей под ноги:
– Осторожно, золотце, не спотыкнися, не спотыкнися! Ты ж как навернешься, я ж тебя не подниму…
Он смеялся. Он шутил. И женщина тоже смеялась.
Невообразимая тоска пополам с болью от ноги накрыла меня всего.
Возвращаться к Рувиму казалось в ту минуту невозможно.
В доме засветились окна. Я рассмотрел сквозь мережковые занавески обстановку. Диван, зеркало, большой стол, часы на стене.
Открылась форточка, и голос Шкловского произнес:
– Нас никто не видел, не волнуйся, золотце, щас покушаем, трохи выпьем, и сами себе хозяева… Ну, я хотел сказать, ты – хозяйка, а я так, сбоку припека… Шмулика выпущу – пускай хлеб отслуживает. Не бойся, золотце, Шмулик никого не пустит!
Шкловский говорил так, как говорят с собой. Он курил и впускал дым в форточку. А сзади него женщина смеялась, как зарезанная.
Шкловский отпустил с цепи собаку, я оказался отделен от калитки. Пока хозяин возился с собакой, я юркнул в уборную и закрылся на щеколду. Причем трясся от страха – вдруг Перецу станет надо.
Слышал в темноте, как зазвенела об стеклянный лед струя где-то неподалеку, как Перец чертыхался. Наверно, потому что плохо застегивал пуговицы на штанах сильно нахолодавшими пальцами.
Дверь опять грюкнула. Собака лаяла под самими дверями уборной, бегала взад-вперед. Сквозь щели я видел черное небо в ранних звездах.
Через некоторое время я отчаянно приоткрыл дверь уборной. Собака отвлеклась на что-то другое.
Я бросился к двери дома и закричал:
– Откройте! Откройте!
Когда прошло некоторое молчание, Перец через дверь спросил тревожным голосом:
– Кто там?
– Открывайте! Ну, пожалуйста! А то я замерзну прямо до смерти! Вам же ж хуже будет!
Для жалости я заранее снял шапку, засунул в карман, размотал тряпку в роли шарфа и тоже спрятал. Похвалил себя, что без школьного сидора, совсем без ничего. Нету у меня ничего. Нету. Только я сам и тряпье на мне.
Шкловский открыл дверь не на всю ширь, а чуть-чуть – частично просунул лицо.
Я не ждал его каких-нибудь слов, а сказал:
– Вам привет от Марика. Пустите.
Сказал первое, что в голову залетело.
Перец вскрикнул, даже захрипело у него в горле.
Схватил меня за рукав и сильно потянул. Гнилые нитки не выдержали – рукав почти весь оторвался от плеча. Я нарочно еще дернулся. Еще и еще. Рукав слез до локтя и повис лишней длиной.
Я перехватил его другой рукой и сказал:
– Холодно… А вы меня еще холодите. Пустите! Ради Бога, пустите!
И сам ступил в дом, мимо Переца. В свет, туда, где чем-то красиво пахло и что-то хорошее стояло на столе.
За столом сидела женщина. Молодая. Особенно если равнять с Шкловским, который хоть тоже был далеко не старый, но все-таки. Пышная. От того, что пальто на ней не было, она не получилась меньше.
Я сказал:
– Какая ж вы красивая! Как моя мама…
Женщина как раз подносила вилку, рот ее не закрылся в готовности проглотить. И потому слова ее оказались кривые. Она ж готовилась не говорить, а кушать:
– Хлопчик, ты то?
Я ответил ей лично, на Переца не оглянулся:
– Не волнуйтесь, тетя. Я пришел не кушать и не греться. У меня все есть. И дом, и еда какая-никакая. Я просто тут посижу, посмотрю на дядю Переца. Я с его сыном сильно дружил. Вот по памяти явился. Вы ж меня не прогоните, дядя Перец?
Шкловский переводил взгляд с меня на женщину.
Наконец проговорил:
– Ты хто? Я последний раз тебя спрашиваю! Какой друг?
Женщина встала, подошла ближе.
Я говорил именно в ее сторону:
– Я сирота. Лазарь Гойхман. Друг Марика. Вспомнили?
Вроде я просил вспомнить женщину, а не Шкловского. Она замотала головой отрицательно.
Шкловский схватил меня за плечи. Повернул к себе:
– Лазарь? Гойхман? Тебя ж вместе с дедом и матерью зарубили! Мне Рувим сказал. На его собственных глазах. Так и сказал.
– Вы Рувима не слушайте! Ну, раз вы живы-здоровы, и жена у вас такая, я пойду. Только если правда – некуда мне идти.
Про то, что живу у Рувима и на его хлебе, говорить не хотелось. Думал я только про то, что продукты на столе съедятся без меня – теткой и Шкловским, и будут они в их животах, где наверняка места мало уже и от прошлой еды.
Шкловский молчал. И в тишине держал меня за плечи.
Женщина заговорила спокойно и наигранно:
– Засиделась я у вас, товарищ Шкловский… Рабочие вопросы мы решили. Отвлекать вас от домашнего не буду. До свиданья. Пойду. Вы меня только за калитку выведите, а то ваша собака до чужих лютая. И как хлопчика не погрызла, удивляюсь…
Шкловский очнулся:
– Провожу, провожу… Тут, понимаете, такая встреча. А у нас с вами все работа и работа… Все работа и работа…
Он отпустил меня, вроде с горы столкнул.
Вышел за женщиной.
Хлопнула дверь, раздался лай Шмулика, звякнул крюк на калитке.
Я различал каждый звук по отдельности. Ничего мне не надо было. Ни еды. Ни тепла. Я хотел выблевать все, что только что было, все, что я наговорил, набрехал, напридумал. Нагадил. Чтоб внутри меня и в голове опять стало чисто.
Но когда Шкловский вошел в комнату в своем пальто с воротником из серой смушки, я сказал:
– Помните, Музычиха, жена Павла Музыченка, скорняка, себе воротник справила – точно такой, как ваш. У мужа с-под носа шкурки сперла и себе справила. Мама у нас в погребе Музычиху прятала, когда за ней Павло гонялся. Мы с Мариком сверху сидели, на крышке, пели громко, чтоб в случае чего Павла отвлечь. А он к нам в хату и не забежал. А Музычиха воротник у нас потом спорола и маме оставила на хранение. А так и не забрала. А потом маму убили. Летом. А то зима была. Помните? Вам обязательно Марик рассказывал, вспомните!
Я говорил теперь прямо в глаза Перецу. Не понимаю, как этот случай выплыл в памяти, только я бубнил про баранчиковый воротник Музычихи без передышки. И Перец без передышки слушал и кивал моим правдивым словам.
Вдруг в калитку кто-то громко застучал палкой. Мужской голос, не стесняясь улицы, рычал про кровавую расправу по поводу женской измены. Грозился спалить дом из пулемета, если скоренько не откроют.
Шкловский кинулся на двор.
Вернулся с полдороги, гаркнул:
– Снимай с себя мотлох, сидай за стол! Жри!
Я скинул верхнее, сел за стол, к тарелке, из которой ела женщина. Руки сами потянулись за чем-то, что лежало по всей скатерти – в тарелочках и вазочках. Концы зубчиков вилки краснели от красной помады. Облизал, почувствовал сладость, вспомнил про трохи-трохи сладковатую утреннюю воду, с новой силой разозлился на Рувима и налетел на еду с всем голодом юного мужающего организма. Хватал руками и запихивал в самые свои кишки, глубоко, безвозвратно.
Шкловский привел мужчину в кожанке. Тот был даже по виду пьяный, с наганом в руке. Расхристанный.
Перец твердым голосом пел:
– Вот, будь ласка, посмотрите… У меня сегодня радость великая! Великая, точно вам говорю! Вы, Алексей Васильевич, вовремя. Будете почетным гостем. Это мой сын. Нашелся после небывалых скитаний. Я ж вам рассказывал, вы ж знаете мои переживания… А он – вот! Живой и нашелся сам! Как раз буквально несколько минут назад лично в мою дверь постучался. Прямо с дороги. Голый-босый, голодный… Сыночка, родненький! Иди уже отдыхать! А то с непривычки перекушаешься…
Шкловский умоляюще и злостно смотрел мне в глаза. Скоренько подскочил и заходился больно гладить по голове.
Я встал из-за стола и тихо сказал:
– Ага, папа… Я спать пойду. Куда мне?
Перец схватил меня в охапку и потащил в соседнюю комнату.
Мужчина вслед прокричал, вроде мы были сильно далеко, на каком-то совсем другом берегу:
– Отак! Сын! А я ж тебе говорил, шо знайдется! А ты не верил! А я всегда верю! Не уводи хлопца, хай посидит! Расскажет, где был! Тоже ж вопросы возникают, как говорится! Точно твой сын?! Особые приметы смотрел?! Ну куда ж ты его тащишь?! Давай сюды сажай, перед мной! Я с ним побалакаю! По-доброму! Но по всей строгой законности времени!
Перец на минуту ослабился, но тут же и ускорил шаг:
– Имей сердце, товарищ Ракло! То ж тебе не контра, а дите! Хай поспит хлопец…
Перец затолкал меня в комнату, показал рукой на кровать – уже расстеленную, с горой подушек, чистую и мягкую даже на первое впечатление.
– Спи!
– Не хочу! Я ж вам не сын. Зачем брешете? – промямлил я сквозь приближающийся сон, еще на ногах.
Будем откровенны – мой ум работал трезво.
Перец строго сказал:
– Завтра разберемся. Выйдешь – дядька тебя прибьет. Он без ума совсем. Скаженный.
Я свалился в перину и утонул там. Утонул счастливый.
Меня разбудил Шкловский. Растолкал, приказал вставать.
Я при нем встать не мог никак. Ночью у меня произошла случайность – от мягкости, от тепла и, что греха таить, от пережитого страха. Обнаружить это при Шкловском я ни за что не мог. К тому же надо было собраться с мыслями и сделать план.
Я ответил вроде сонно:
– Что-то холодно очень… У меня, наверно, какая-то зараза. Вчера замерз… Глаза не разлепляются… И в голове кружится… Я боюсь сразу упасть… Вы идите, не стойте над мной… А то на вас перекинется… Я еще только минуточку… И встану…
Шкловский пощупал мой лоб и бросил:
– Вставай, мне уже пора с хаты…
Он вышел большими шагами. Я заметил, что одна пола меховой жилетки на Переце отлетает легко, а вторая неподвижная – в кармане что-то тяжелое. Решил, что наган.
Не то чтоб я испугался оружия. Я оружия повидал сколько хотите. Но собственное положение увиделось мне в новом освещении.
Я пришел в дом с заявлением, что принес привет от Марика. Марик пропал давно. Женщина – полюбовница Шкловского. Точно – никакая, конечно, не жена, сразу ж видно. И не гулящая – гулящих так не кормят. Я в больнице среди выздоравливающих столько наслушался про подобное – целый роман… Я Шкловскому помешал. А он, вместо того чтоб злиться, усадил меня за стол как родного. Объявил меня сыном перед лицом дядьки с наганом. Скаженный дядька кричал про измену и в дом ломился. Думал, там его жена. А тут я. Причем родной сын из пропажи объявился. Сразу весь коленкор переменился. Такое убеждение Шкловскому подарил именно я. Сыновым дружком всякий может назваться. И что такого? Недостойно внимания. А сыном!.. С таким не поспоришь, если ты человек с горячим сердцем. Просыпается уважение и радость соучастия в небывалом событии.
Напились они, конечно, вчера за мое здоровье. А сегодня – что?
Сегодня я уже и не сын родной? Вот в чем, между прочим, вопрос вопросов.
Скоренько встал, стащил простыню, скомкал, наволочки с подушек содрал, одежку, белье свое мокрое-стыдное, рубашку, штаны, все ворохом к себе прижал и в таком положении, босой явился в комнату с словами:
– Ты это сожги, папа, хоть оно и хорошее, у меня, может, вши или еще что… Я столько блукал по разным местам… Сам же ж знаешь…
Шкловский смотрел на меня с страшным ужасом.
Я продолжил:
– Жги! Жги, папа! Боишься – так давай я сам!
Еще вчера я обратил внимание на красивую печку. Бросил тряпки на пол и ногой толкнул кучу поближе к ней.
Пока Перец остолбеневшими глазами пялился без определенной точки, я открыл зслонку на всю широту и стал запихивать мотлох в огонь. Кое-что вываливалось. Я помогал тому, что вываливалось, босыми ногами. Угольки жглись, и я их отшвыривал в разные стороны. Я не ставил в план, чтоб получилось плохое. Но это ж огонь…
Шкловский закричал:
– Пожар! Пожар!
На столе стоял самовар. Но все внимание Переца ушло на меня. И пришлось самому крикнуть Перецу, чтоб он поливал огонь из самовара.
Как-то ж управились…
Я извинился, что получилось вот такое… Причем напомнил, что еще ж бушлат и шапка где-то, и валенки, и портяночки мягенькие да тепленькие…
Говорю:
– Щас найду, спалим, а тогда уже спокойно чая похлебаем. Да, папа? Так же ж?
Шкловский стоял с пустым самоваром и качал его туда-сюда, и головой мотал точно так:
– Ты шо, ты шо, ты шо, ты шо…
Я у него самовар аккуратно забрал из рук и говорю:
– А может, папа, остальное палить и не надо. Оно ж на морозе все время. Никакая зараза мороза не выносит. Правда ж? Очень кушать хочется, папа. От вчерашнего что-нибудь осталось? А в кармане у тебя что? Оружие? Ты меня убьешь?
Шкловский похлопал себя в области карманов, вроде обыскивал. В немоте достал огромное портмоне толстой кожи, посмотрел на него. И ничего не ответил. Положил обратно. Видно, теплая блестящая кожа с деньжищами вернула Переца в свое чувство.
Шкловский приступил ко мне всем своим телом и спросил:
– Этим, что ли, прибью? Я и этим могу. Я чем захочу – тем и смогу. Шо за комедию ты мне тут ломаешь? Ты дурной или шо? Щас тебе тряпки дам, напяливай и дуй до горы! Сынок… Морда твоя паршивая свинячая, а не сынок!
Этого мне и надо было.
Я сел за стол, положил руки на колени и высказал следующее:
– Ага… И баба вчерашняя, и скаженный тот, Ракло по фамилии, вы ж и фамилию сказали, сами и сказали, я не выманивал у вас, что вчера его обхаживали да обкармливали – водкой заливали, они ж тоже меня уже никогда видеть своими очами не пожелают. Раз я вам не сын. И вместе они не пожелают, и по отдельности тоже никак не пожелают меня видеть. Ну я ж не сын вам… Только я вас брехать им не просил. Особенно дядьке. Вы думаете, раз я хлопец, так я ничего не понимаю. А я понимаю ой как! И что я вчера вас спас – вы меня вместо бабы за стол наглядно посадили. Дядька за своей женой сюда явился. По наводке пришел, точно. А тут наоборот. А если б я вчера рот свой раскрыл и гавкнул, что так и так, дяденька, я тут просто нахожусь, на минуточку, погреться, а вот тут до меня с-под вашей руки-ноги дамочка убежала, недокушала-недопила своими красными губками, чернявенькая, пухленькая, в пальтишке с хорошей материи и ботиночках на шнуровке. Вот ее мазилка с ее рота на вилочке осталася… А? Вчера не сказал. А сегодня уже скажу. Може. А може, и не скажу. А тот дядька сегодня ж проспался, и чи вспомнит, чи не вспомнит. Вы ж надеетесь – не вспомнит. А если и так. А если я ему напомню? И мадамочке надо скорей сказать, что я вам вроде сын. А то Ракло ж знает, шо сын. А она ж и не знает. Он ей про сына – а она сдуру вставит: “Какой сын? Не сын, а дружок сынов”. Так и проговариваются. Аж до смерти проговариваются. Правильно ж? А если вы сомневаетесь, что я сам товарища Ракла разыщу, так вы не сомневайтесь. Фамилия редкая, при нагане человек, в кожанке, жена у него вон какая, заметная – значит, он при должности. Значит, и партийный. Я ж обязательно найду… Вы не бойтесь!..
Шкловский крепко стоял на ногах и готовился ответить на мои постановления.
Но, видно, дым из форточки и сквозь щели насторожил соседей. В ворота и в калитку барабанили и орали соответствующие слова. Собака лаяла, аж заходилась.
Шкловский распахнул створку окна.
Мороз залез в комнату, и голос у Переца сразу стал морозный:
– Никакой не пожар! То полено выпало, искра! Уже потушил! Не грюкайте!
Я подошел под его спину и выглянул так, чтоб люди сквозь дырки в заборе, а кто-то ж наверняка смотрел, увидели меня как такового.
Причем я громко и ясно прокричал:
– Идите по домам! Мы с папой все потушили!
Шкловский резко повернулся к моему лицу, сверльнул глазами и выдохнул:
– Гад!
С того дня я начал жить у Переца на правах родного сына.
Для уверенности я вызнал, где живет Ракло с женой Розалией. День простоял возле дома, где помещалось Губчека, увидел, как Ракло боевито заходит и выскакивает туда-сюда. Потом перебежками проводил его по месту жительства. Оказалось – недалеко от Рувимовой больницы. В большом доме. Аж сердце прищемило – зайти б, проведать… Но я обещал Шкловскому, что с Рувимом – никаких встреч, что он сам уладит переходные дела.
Возле этого же дома и дамочку встретил – ту, из-за которой моя жизнь закрутилась новым кругом. Оказалось – точно, жена Ракла, Роза, Розалия Семеновна. Я у хлопцев спросил – на дворе гуляли. Они и квартиру мне сказали.
Потом как-то нарочно немножко ей на ботиночек наступил, не больно… Извинился, конечно, и шепнул: или не забыл ей товарищ Шкловский сообщить, что я теперь у него живу как сын, и что товарищ Ракло про меня знает. И что я ни за что забыть не могу, какая она красивая у товарища Шкловского за столом сидела и игристо смеялась.
Так же хлопцы в другой раз сообщили мне, что Розалия работает по разряду образования. А ее муж – скаженный и может любого застрелить и ничего ему за это дело не будет, потому что он имеет право с мандатом. Стоило мне такое известие две папиросы. Их я купил на базаре из тех денег, которые мне Шкловский давал на личные нужды.
Что греха таить. Я думал напервах, что Рувим придет меня забирать, упрашивать вернуться, стыдить за мое такое поведение. А только нет, не пришел Рувим. И я зла на Либина не держал. Зла у меня вообще не существовало, я, между прочим, не раз за собой подмечал. А тут такое дело. Ему ж без меня лучше. Еще свободней.
В первые дни Перец за мной буквально следил – вплоть до устройства провокаций на разнообразные темы.
Например, вдруг спрашивал, куда я подевался в тот день, когда убили моих деда и маму. Я честно ответил, что не помню, а помню только, что по хлопчачим делам.
Или такое: какого черта мы с Мариком терлись возле Волчьей горы – кто-то там нас видел из остёрских.
Или: может, рассказывал мне Марик что-нибудь про домашние обстоятельства, про своих каких-нибудь других родственников.
Я мычал неопределенное и туманное.
И делал зарубки в памяти.
Перец быстро отставал, не сильно интересовался моим любым ответом. Спросит – вроде укусит, а укусит – отбежит в сторону.
Я держал себя настороже и не болтал.
Виделись мы лицом к лицу редко.
Питался я хорошо. Одежду мне Перец выдал малоношеную, хорошую. И что нужно – из белья и верхнего теплого.
Конечно, по возрасту я мог пойти работать. Раньше, при Рувиме, если б что, я так и поступил бы. Но теперь мне сильно захотелось еще поучиться, и я попросил, чтоб Перец устроил меня на класс меньше, чем полагалось бы. Переростков тогда было много, и это не считалось стыдным.
В новую школу Перец меня определил в предпоследний, шестой класс. Школа расположилась на Валу, где до революции была женская гимназия и куда на какой-то великий праздник заезжал сам царь Николай Второй Кровавый. Уроки там вели спокойно, так как ученики подобрались все чистые и спокойные. Место располагало. Не то что в старой школе.
Фамилия и имя фактически сохранились при мне. Никого не удивишь – я представлялся Мариком Шкловским, так и значился в школьных журналах, новым товарищам я рассказал про находку отца и про то, что у меня в результате два имени и две фамилии. Отзывался я и на Лазаря, и на Марика.
Я скоро оказался на хорошем счету. Причем выделился на общем фоне. В комсомол пока не вступал, но должную активность проявлял.
А с Перецом было так.
Я попросил коньки – и у меня появились норвеги. Как раз рядышком с школой расчистили на деснянском льду каток, и я там катался – научился с самого первого раза. Лезвия резали лед, и многие высказывали недовольство, что после меня надо зачищать. Но я весело смеялся в ответ. Конечно, дело состояло в зависти. А если включена зависть, спорить всегда и везде бесполезно.
Некоторые недоразумения беспокоили меня, но я их откладывал, потому что справедливо рассудил – распутывать неясное пока не надо.
Примерно через месяц я спросил у Шкловского, или он искал Марика и, может, есть сведения любого рода в этом отношении. Перец зыркнул в мою сторону и сказал, чтоб я эту тему не открывал никогда.
Как-то я намекнул Перецу что-то про хороший дом, в котором живет Ракло с женой, и закруглил:
– Алексей – большой начальник, у него все в кулаке. Вы б его попросили, может, ваш Марик в детском доме где-нибудь как беспризорник или в колонии для малолетних преступников. Зато живой. Я б до самого товарища Дзержинского дошел. Хотите, я с вами к товарищу Раклу пойду? Вместе будем просить. Вечерком как-нибудь, чтоб жена его Розалия Семеновна дома была обязательно. Она добрая. Точно слово за нас скажет!
Шкловский бросил свое обычное:
– Гад!
И все.
За что человек платит в основном? За сиюминутность. Человеку надо решать сиюминутность. И он ее решает любым путем. Про дальнейшее не рассуждает.
Перец в ту роковую для себя минуту перед Раклом спасал собственную жизнь от смерти. И вот что получилось. Я только воспользовался щелочкой и пролез в его спасенную жизнь. Мне себя стыдить и виноватить не за что. Называет меня гадом – его полное право. Перед ним я вроде и гад. А на самом деле – не гад. У меня есть я и есть обязанность заботиться.
Первоочередная забота состояла в том, чтобы прояснить вопрос с Рувимом. Без обиды с моей стороны.
Зачем он сказал Перецу, что меня убили вместе с родителями? Какую пользу для себя преследовал в такой нахальной и жестокой брехне?
Это для начала разговора. Потом как пойдет.