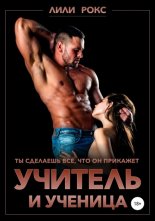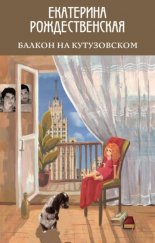По ту сторону жизни Демина Карина

Пусть кто-то иной говорит о совести и чести, но я радовалась. Мой ребенок выживет. И получит то, что по праву должно было принадлежать ему.
И это тоже было вполне объяснимо. Свое мы отдавать не любили, а уж добровольно уступить кому-то… Интересно, не по этой ли причине дядюшка покинул родительский дом, едва ему исполнилось шестнадцать лет? Удерживать его не стали. Искать тоже. И теперь я, пожалуй, знаю почему.
А знает ли он? Я плохо разбираюсь в детях, однако почему-то мне кажется, что девять лет – уже тот возраст, когда происходящее вокруг худо-бедно воспринимается вполне адекватно. Вряд ли дядюшка сумел бы сделать глобальные выводы, но…
Утрата дара. Такое сложно пропустить или забыть. Дар – это… это нечто всеобъемлющее, ставшее твоей частью. И свой собственный, нестабильный, я ощущала ясно даже в те периоды, когда он внешне никак не проявлялся.
Забрать дар… Его блокируют преступникам, насколько я слышала. И слухи об этой процедуре ходят самые разнообразные, однако одинаково отвратительного толка. Главное, что все сходятся на одном: искусственное ограничение дара приводит к скорой смерти его носителя.
Дядюшка был жив. Относительно здоров, во всяком случае с виду. Дело в божественном вмешательстве? Или в юном возрасте, дети, сколь слышала, легче приспосабливаются к разного рода обстоятельствам… но забывают ли? И могло ли статься, что дядюшка, узнав о произошедшем, решил мстить…
Глава 12
Сейчас, дорогая, тебя мучит вопрос, знал ли Фердинанд о том, что случилось, и о моей роли в произошедшем? Я не могу ответить на сей вопрос однозначно, однако имею подозрения, что ему стало известно многое.
Я рассчитала слуг, которые были при доме в то время, исключая лишь тех, в чьей преданности я была всецело уверена, однако от прошлого не так легко избавиться. Слухи, сплетни и люди, которые порой видят то, что их совершенно не касается.
Иные обстоятельства и вовсе оказалось невозможно предугадать.
Незадолго до несчастья, которое разрушило нашу с тобой жизнь, в доме появилась девица весьма сомнительного вида. Некая Аннабель Искеро утверждала, что является родной сестрой нашего Мортимера. Его матушка, не удовлетворившись полученным состоянием, продолжила поиски мужа, которые, как ни странно, увенчались успехом. Ее избранник искал, правда, не любви, а возможности остаться в Империи и нравом обладал весьма тяжелым, как и представлениями о том, какой должна быть женщина. Не сказать, чтобы я вникала в перипетии чужой жизни, но она громко плакала и умоляла не возвращать ее к отцу.
Увы, перед смертью, которая, к моему великому сожалению, произошла не в одночасье, с души спадают оковы клятв. Именно тогда та невозможная женщина и рассказала дочери о сделке. Анабель же не нашла ничего лучше, нежели явиться в наш дом.
Не помню. Я морщу лоб, тру переносицу, но… не помню. Я ведь уже была? Была. И случись скандал, запомнила бы, но… скандала не случилось, а что бы ни происходило… далеко не на все события я в силу возраста и интересов обращала внимание.
Естественно, ее претензии и требования были смехотворны. Даже, связанная с Мортимером узами крови, она не имела прав на его состояние. Я так ей и ответила.
Она же умоляла спрятать ее. И признаюсь, я задумывалась, стоит ли вмешиваться в естественный ход вещей. Однако, подумав, я признала, что, если одна девица не сделает беды, то ее отец, фигура весьма одиозная, мог доставить множество не самых приятных моментов. Мы дали ей денег.
Да уж, единственное, в чем мой род никогда не испытывал недостатка, это деньги. И как выяснилось, они представляли собой неплохой способ решения проблем.
Как выяснилось, я была права. Ее отец, человек дурного нрава…
Если уж ведьма пеняет кому-то на дурной характер, стоит хорошенько подумать, нет ли возможности вовсе не общаться с этим человеком.
Он посмел обвинить нас в похищении дочери, а ко всему потребовал компенсацию за ее исчезновение. И аппетиты его были таковы, что мы не сочли возможным их удовлетворить.
Он угрожал нам сперва расследованием. А когда мы указали, что по законам Империи дочь его вполне свободна и самостоятельна, мы же имеем свидетелей, готовых присягнуть, что пришла она к нам в поисках защиты, впал в ярость. Он грозил нам всеми возможными карами, при этом не переставая требовать денег.
И вновь не помню. Почему? Не потому ли, что события эти происходили летом, когда я вместе с матушкой переселялась на побережье, где проводила несколько чудесных месяцев?
И тем самым последним летом мы тоже собирались. Мы с матушкой выбрали новые чемоданы, из гладкой кожи. Помню, что уголки их были защищены медными заклепками, а на крышках золотом выдавлены монограммы.
Ах, эти чудесные сборы. Магазины и магазинчики. Шляпный салон, где мне позволяли примерять взрослые шляпки, а еще лавка, где старый мастер шил перчатки. Лавка была маленькой и невзрачной, но мастер – лучшим в городе. Он преставился пять лет тому, передав дело сыну. Я заказываю перчатки только там.
Я знаю, впрочем, что этот мужчина имел беседу с Мортимером, полагаю, представив всю историю в не самом лучшем свете. Во всяком случае, с того самого дня и слабая связь, удерживавшая Морти в лоне семьи, разорвалась.
Он явился нетрезв и разгневан. Он с порога выплюнул мне в лицо, что всегда чувствовал, что не является мне родным. Обвинил меня в холодности и равнодушии, пренебрежении его интересами, а после и вовсе в том, что дар его столь уродлив.
Да, и я, и Грегор пытались достучаться до разума. Однако к тому времени Морти, изрядно испорченный и своим разрушительным даром, и нашим попустительством – каюсь, многие его поступки мы скрывали, откупаясь от людей пострадавших – окончательно убедил себя, что лишь ему известна истина.
Он потребовал признать его наследником. А когда Грегор отказался, стал проклинать нас. Заявил, что именно я виновата в его несчастьях, что я лишила дара всех, расчищая путь собственному сыну, и просто так он это не оставит.
Именно тогда Грегор, разгневавшись, заявил, что если Мортимер отрекается от семьи, то и семья не желает иметь с ним ничего общего. Увы, та безобразная ссора привела к тому, что Мортимер покинул наш дом. Уверена, что он нашел способ сообщить свои подозрения Фердинанду, но, подозреваю, поддержки не нашел. Наш младший сын всегда отличался поразительным благоразумием. И мне искренне жаль, что я вынуждена была поступить с ним несколько несправедливо.
Несколько… С другой стороны, бабушка, как ни крути, была ведьмой и не из последних. А это накладывает определенный отпечаток на личность.
Знаю еще, что Мортимер продолжил тесно общаться с тем отвратительным человеком, который изволил называть себя последователем истинной тьмы. Я не уверена, что дела их касались лишь веры, однако, посоветовавшись с мужем, решила не вмешиваться. Каждый имеет право совершать свои ошибки.
Да уж, великодушно. Я покосилась на Диттера, который поглаживал край пыльного листа. Вид у него был задумчивый. Подсчитывал количество пунктов Договора, нарушенных бабулей? Или раздумывал, можно ли божественную волю считать смягчающим обстоятельством?
Мы получали письма от Фердинанда, однако на похороны он не счел нужным явиться, хотя, как выяснилось позже, находился в Империи.
Зато в день после похорон в наш дом заявился ужасный человек, который заявил, что нас настигла заслуженная кара. И если мы по глупости и неведению своему лишили тьму законной жертвы, она взяла ту, которую посчитала достойной заменой. И нам следует лишь молиться и надеяться, что трех жизней будет достаточно, чтобы заменить одну.
И не скажу, чтобы его слова вовсе не тронули меня.
И да, я попыталась отыскать Анабель, однако девица словно сквозь землю провалилась. Признаюсь, я даже обратилась к специалистам, но и они оказались бессильны.
И зачем?
Что-то я мало понимаю, а вот Диттер, судя по мрачному выражению лица, знает куда больше моего. И если он надеется отмолчаться, то зря…
Позже и он сам исчез, оставив меня без ответов. Что же касается Мортимера, то, когда я явилась к нему, желая примирения, он рассмеялся и сказал, что все идет, как должно, и это лишь начало. Что он получит принадлежащее ему по праву, и единственный способ изменить судьбу – это немедля передать ему права на титул и семейное состояние.
К тому времени, сколь мне известно, собственные его дела, пошатнувшиеся было после ухода из дому, наладились. И подозреваю, во многом благодаря его новым друзьям.
Естественно, я отказалась выполнять безумные эти требования. У меня имелась ты и в то время я испытывала как страх, так и надежду, что именно ты поспособствуешь возрождению рода, а потому я не желала оставлять тебя во власти моего несчастного сына.
И за это я была бабуле благодарна. Что бы ни испытывал ко мне дядюшка Мортимер, сомневаюсь, что это было любовью.
Я сделала все, чтобы воспитать тебя достойным образом. Увы, время мое уходит, а сделано еще слишком мало. И надеюсь лишь, что письмо, полученное накануне, лишь чья-то дурная шутка. А если нет… я спускалась в храм. Я говорила с Нею. Я напомнила о договоре и крови. А потому… я оставлю распоряжения о своей смерти, а ты, дорогая, надеюсь, не додумаешься повторить их. Впрочем, зная тебя, я верю, что ты вовсе не будешь думать о смерти, а потому все ритуалы будут исполнены надлежащим образом. Если мои предположения верны и ты, оставив этот мир, вернешься, значит, древний Договор еще сохранил свою силу, как и проклятый дар твоего рода.
С тем завершаю это послание. И надеюсь лишь, что приближение смерти позволит мне отрешиться и от иных клятв. Как-то слишком уж много собралось их на моей душе. И до чего же они тяжелы. Если бы знала ты, сколь давит вынужденное молчание.
В моем прошлом, да и не только в моем, есть страницы, которые заставляют по-настоящему бояться будущего, ибо душа моя отнюдь не так чиста, а Ее суд не приемлет допущений. И оглядываясь, я понимаю, что наша семья причинила немало зла. Честолюбие моего дорогого супруга, заразившее и нашего сына, его мечты, его надежды, обернувшиеся пролитой кровью. Их упрямство, неспособность отступить, когда даже Она в своем терпении велела остановиться. Их вера и моя собственная слабость, неумение отказать мужу. Я любила своего Грегора. Я продолжаю его любить и сейчас, пожалуй, лучше чем когда бы то ни было, осознаю, что, повторись история вновь, я бы поступила точно так же, как и тогда.
Запомни, деточка, любовь меняет нас.
Твоей матери любовь придала сил. И лишь Она знает, чем закончилась бы их с отцом история, не случись того взрыва. Меня же любовь сделала слабой, зависимой от Грегора, но вместе с тем счастливой. И я хотела бы сказать, что не жалею ни о чем. Но это неправда.
Клятва еще держит. Та самая, последняя, и это к лучшему. Все же хотелось бы оставить в памяти твоей светлый образ семьи. И я уповаю, что ты никогда не найдешь это письмо.
Я так надеюсь ошибиться, моя дорогая. Я так боюсь оказаться права.
И ни слова о любви.
Впрочем, ведьма, что с нее взять… Могла бы предупредить, мол, дорогая, ты, вполне вероятно, имеешь все шансы отправиться следом за родителями, но мне известна некая тайна, которая позволит совершиться чуду… и так далее. Нет же, развели секретов.
Я перевернула последний лист и осмотрелась. Письмо… письмо, это, конечно, хорошо. Куда лучше с ним, чем без него, во всяком случае, я теперь знаю, что оба моих дядюшки, теоретически, с преогромным удовольствием поучаствовали бы в диверсии… но мало. Как же мало.
О тетках она ни слова не написала. И этот намек на иные клятвы… ненавижу намеки, как и игру в прятки, причем с самого детства. А здесь со мной явно играют. Ради одного-единственного письма всю комнату переделывать? Уж проще в сентиментальный порыв поверить.
Нет. Я приду сюда позже. Одна. И по взгляду Диттера, который задержался на столе, я поняла, что приду не только я. Пускай.
Глава 13
Старуха Биттершнильц обитала на краю города, в прекрасном особняке, построенном не так давно, чтобы он успел обзавестись дурной репутацией. А в нашем городке это само по себе достопримечательность.
Была вдова, пережившая, поговаривают, троих мужей, просто неприлично богата и разумно прижимиста, что наполняло сердца дальних родственников – собственных детей у Биттершнильц не было – печалью и надеждой. Впрочем, поговаривали, что здоровьем она отличалась отменнейшим, а потому всем родственникам следовало запастись терпением.
Что добавить?
Дурной норов? Восхитительную злопамятность и ясный ум, вкупе с немалой изобретательностью? Друзей у старухи не было. С редкими приятельницами, дамами своего круга и состояния – а в нашем городке подобных было, к удивлению, немало – она встречалась на еженедельных заседаниях Книжного клуба и еще, пожалуй, в Благотворительном комитете, где числилась председателем.
Бабушкино место. И бабушкины розы. Я и сейчас узнаю этот сорт с темно-багряными, в черноту, лепестками. Летом здесь, должно быть, красиво. А сейчас… от роз остались колючие стебли, лысые деревья стояли, растопырив ветви. Небо было сизым, грязным, а лужайка медленно превращалась в болото, где то тут, то там проглядывали островки зелени, столь неестественно яркой в сумрачный этот период, что одно это казалось противоестественным.
Журчал фонтан, нагоняя тоску. Сияли белизной мраморные статуи. Стены, слегка прихваченные плющом, были ровны, высоки и надежны с виду… сплошная благодать, плюнуть некуда.
Я остановила экипаж у парадного входа и поморщилась. Все же сегодняшнее солнце было слишком уж ярким… почти невыносимо. Диттер, выбравшись из экипажа – дверцу открывать не стал, позер этакий, – подал мне руку.
Рядом, словно из-под земли, возник лакей самого благообразного вида… но ключи я ему не отдала. Нет, прислуга – это хорошо, но машину я за месяц до смерти выписала, и не хотелось бы, чтобы ее ненароком поцарапали. Да и вообще не люблю чужих рук, которые тянутся к моей собственности, пусть и с благими намерениями.
Тяжелое наследие предков, не иначе.
В общем, оглядевшись, я решила, что места здесь хватает, а гости к старухе наведываются не так, чтобы часто, поэтому…
Пусть себе стоит.
Нас встречал давешний унылый блондин, ныне облачившийся в полосатую визитку вполне приличного кроя. Окинув нас насмешливым взглядом, он произнес:
– Бабушка изволит отдыхать…
– Мы подождем.
Блондинчик сделал попытку заступить мне дорогу, но я, к счастью, не настолько хорошо воспитана, чтобы это подействовало. Легкий тычок зонтом в ребра, и он отступает…
А перед бледным носом появляется серебряная бляха.
– Инквизиция, – Диттер потеснил меня. – Значит, ваша бабушка плохо себя чувствует?
– Она… – Блондинчик слегка побледнел, а на щеках проступили бледные пятна. – Понимаете, все-таки возраст… в последнее время она стала странно себя вести… и мы опасаемся, что…
– С кем ты там говоришь, болван? – резкий голос вдовы донесся из приоткрытого окна. – Они все-таки приехали? Отлично… вели подавать чай. И коньяк пусть принесут… и не надо мне говорить о моем здоровье. Я еще всех вас переживу.
От этакой перспективы, как по мне вполне реальной, блондинчик побледнел еще сильнее.
– Понимаете, – он посторонился и даже любезно предложил мне руку, а я воспользовалась.
Надо же, как сердечко стучит.
Ах, как мы волнуемся… прелесть до чего волнуемся… и чем это беспокойство вызвано? Печальной перспективой провести десяток-другой лет, угождая склочной старухе? Или чем-то иным?
– Я не знаю, что она вам наговорила, но… поймите, я не желаю ей зла. Я просто беспокоюсь. Возможно, нам стоит обратиться к целителям, но бабушка на дух их не переносит.
Диттер, наплевав на правила, шагал слева, и меня подмывало взять под руку и его…
Сердечко моего провожатого дернулось. А сквозь резковатую вонь одеколона пробился запах пота.
– Она начала путать вещи… утверждать, будто кто-то меняет ее обувь… у моей бабушки две комнаты забиты обувью. Камеристка дважды проводила перепись. Все на месте, даже бальные туфельки, которые ей шили на первый выход…
В холле царила удивительная прохлада.
А в остальном… светло и свободно. Обыкновенно. Ковры. Картины. Тоска смертная… и старухина компаньонка, смиренно ждущая у подножия лестницы.
Серое платьице, длиной до середины голени. Серые чулки крупной вязки. Воротничок белый, кружевной и на вид колючий до невозможности. Два ряда мелких пуговиц на лифе этакой границей добродетели. И единственным украшением – брошь-камея под горлом.
– Как она? – шепотом поинтересовался блондинчик.
– Плохо, – вздохнула девица и представилась: – Мари. Я при фрау Биттершнильц уже семь лет… она взяла меня из приюта.
Благодетельница. И главное, восторг в глазах у Мари почти искренний. Врать у женщин получается намного лучше.
– И мне жаль осознавать, что… – вздох и бледные ручки, прижатые к подбородку. А на левой-то свежий красный рубец… интересно, откуда? – Она стала путать время… и дни… а еще эта странная убежденность, что кому-то нужны ее вещи…
Мари покачала головой:
– Умоляю, не тревожьте ее покой…
Ага, который, полагаю, в скором времени станет вечным. Вот не нравится мне такая забота. Фальшивая она какая-то…
Мари дернула рукавом, будто пытаясь прикрыть шрам, но сделала это как-то неловко, отчего рукав задрался еще больше.
– Простите, – она потупилась.
– Откуда?
Диттер выглядел мрачнее обычного. Надо же, до чего мне дознаватель чувствительный попался. А где профессиональная выдержка? Стальное сердце и холодный разум?
– Она… иногда случаются вспышки гнева, – вздохнула Мари. – Я делала завивку, и ей показалось, что я хочу сжечь ей волосы и… я понимаю, что это не она, а болезнь… на самом деле она – добрейшей души человек…
И вот тут я окончательно поняла, что меня дурят. Старуху можно было назвать кем угодно, но вот доброй… да она первая восприняла бы подобную характеристику за оскорбление. И была бы права. Добрая ведьма. Смех.
Старуха устроилась в низком разлапистом кресле, которое поставили у окна. Ветер тревожил гардины из легчайшей ткани. С гардений, собранных в высокую вазу, облетали лепестки. Некоторые падали в чай.
Старуха дремала.
Правда, стоило нам войти, она очнулась, встрепенулась, подалась вперед, почти упала на столик. И зазвенели чашки, опрокинулся молочник, выплеснув на скатерть желтоватое озерцо сливок.
– Проклятье! – старуха взмахнула рукой, и на пол полетела вазочка со сладостями. – Что происходит, кто поставил сюда этот столик? Подсунули…
– Видите? – скорбно поинтересовалась Мари. Шепотом.
Но была услышана.
– Что ты там бормочешь, оглоедка? Сплетни распускаешь… – фрау Биттершнильц оперлась рукой на столик, который жалобно заскрипел, но выдержал немалый вес старухи. – Ты это придумала, дрянная девчонка? Ты… кто ж еще… он-то вовсе той головой, которая на плечах, думать не приучен… а ты, деточка, молодец, что пришла. Что стоишь. – Старуха пнула вазочку и наступила на белесую зефирину. – Убирайся, раз натворила… и вели, пусть подадут чай в охотничий кабинет.
Она вцепилась в руку Диттера и произнесла:
– А от тебя смертельным проклятьицем несет… хорошая работа… крепкая… но поможешь мне, я помогу тебе…
– Боюсь, это неизлечимо, – Диттер поморщился.
Весу в старухе было изрядно. Облаченная в темно-лиловое платье, она казалась этакой шелковою горой, на которой то там, то тут поблескивали драгоценные жилы камней.
Аметисты. И алмазы. И отнюдь не только прозрачные… Желтые хороши, крупные, идеально ровного цвета и огранки.
– Нравятся? – старуха подняла руку, позволяя мне разглядеть браслет с подвесками. – Второй мой муженек пожаловал… редкостный скупердяй был, но после того, как я его с одной актрисулькой застала, переменился, да… а ты не стой столпом. Даровали же боги родственничков…
В лиловой гостиной лиловыми были шторы. И ковер. И стены. И обивка мебели, правда, здесь темно-лиловый разбавлялся бледно-сиреневой полоской. Свисала люстра с пыльным абажуром цвета фуксии. На диванчиках выстроились подушки всех оттенков фиолетового. И лишь ковер на полу резал глаз своей вызывающей белизной.
– Садись… ишь, кривишься… а мне оно нравится, – с вызовом произнесла вдова, плюхаясь в креслице. – Ах, погода меняется, кости болят… тебе-то хорошо, ничего уже болеть не будет.
Сомнительное преимущество. Хотя…
Нельзя сказать, что моя нынешняя жизнь много хуже предыдущей. Да и долголетие… и вообще… убивать мне не хочется, жажды крови я не ощущаю, а в остальном. Цвет лица вот выровнялся. В прежние годы мне подобной белизны добиться не удавалось, несмотря на все ухищрения.
– Меня не слушают… целитель наш, штопор ему в задницу… что? Первый мой муженек капитаном был, честным, от низов поднялся… свой корабль зубами у судьбы выгрыз. Ох и любила ж я его, хоть редкостным скотом был… да… но не о том… наплели нашему разлюбезному, будто я уже слабоумная, а он и рад поверить… я ему об одном, а он мне настоечку для успокоения нервов. И морфий. Мол, спать буду лучше. Я ж ему не на сон жаловалась, со сном у меня аккурат все хорошо. Небось, эта потаскушка подливает чего… и Мими мою отравила.
Со скрипом приоткрылась дверь, и в гостиную вошла махонькая облезлая собачонка на тонких ножках. Облаченная в попонку с аметистами, она казалась одновременно нелепой и жалкой. Круглая головенка на тонкой шее. Несоразмерно огромные уши, из которых торчали пучки шерсти. Хвост-нитка с пушистым облачком на конце…
– Привезли мне… – старуха стукнула клюкой по стулу. – Уродца… и говорят, что это Мими… будто я свою собаку не знаю!
Существо проковыляло ко мне и, обнюхав ноги, вяло рыкнуло.
– Я тебе, – я погрозила собачонке пальцем.
– Мими тебе его бы отхватила, а это… тьфу, пакость, а не собака… пшла отсюда…
Собака широко зевнула и плюхнулась на ковер. Она свернулась клубочком, из которого торчали лишь уши… нет, определенно, не понимаю, какой в ней смысл.
– Началось все с полгода тому назад… Мари ты видела. Тихой девкой была, спокойной… исполнительной. Я ее в приюте подобрала. У меня-то компаньонки наемные долго не выдерживали. Не везло…
Если кому и не везло, то, как по мне, именно компаньонкам. Вот и сбегали. А сироте деваться некуда. Да и платить не надо. Сплошная экономия.
– Конечно, сперва она мне показалась слегка туповатой… ничего не знает, ничего не умеет… взялась платья чистить, так испортила… но я ее учила. Я была терпелива…
Для ведьмы.
– И вроде выучила… – старуха махнула рукой на дверь. – Ишь, стоит… заходи уже, я тебя слышу…
Мари вошла. В руках ее был поднос с кружками, высоким кофейником, молочником и полудюжиной серебряных вазочек…
– Долго возишься, – почтенная вдова переложила клюку по другую сторону кресла. – Опять подслушивала…
Мари вздрогнула. И полетела на пол. Неловко кувыркнулся поднос. Разлетелись кружки, зазвенели тарелки, превращаясь в груду осколков… выплеснулось содержимое кофейника, причем прямо на старуху…
– Криворукая дура! – вдова схватилась за клюку.
– Простите, простите, пожалуйста… я не заметила вашу собачку, я… – Мари сжалась, прикрывая голову руками. Вид у нее был до крайности жалкий.
Собачонка издала протяжный вздох. И поднялась. И… лежала она в двух шагах от Мари.
Клюка полетела в стену.
– Вон пошла! Чтоб я тебя… – старуха добавила пару слов покрепче, полагаю, подхваченных от супруга-капитана. – Вели, чтоб прибрались… ничего доверить нельзя…
– Вы только не волнуйтесь…
Мари поднялась, а я ощутила запах крови. Резкий. Едкий. И невероятно сладкий, манящий. От аромата этого закружилась голова, и вдруг я осознала, что голодна. Невероятно, невозможно голодна… настолько, что готова…
Я сглотнула. И сглотнула вновь, попыталась отвести взгляд от белого девичьего запястья, по которому скатывались алые капли. Такие крупные, такие совершенные…
– Я… я… – Мари прижала руку к себе, но так, что порез был виден. И Диттер дернулся было, но взгляд его остановился на мне. – Мне так жаль… простите, пожалуйста… умоляю, простите… и не волнуйтесь… вам вредно волноваться… у меня сердце…
– И почки, и печень…
Их голоса звучали где-то вдалеке… Я слышала стук сердца. Ровный. И… девчонка знает, что делает. Сердце не обманешь… кровь…
– Смотри на меня, – легкая пощечина отрезвила.
– Гад, – я потерла щеку, пытаясь отрешиться от манящего стука. – Я в порядке.
– Нет, – Диттер вцепился пальцами в мой подбородок. – Слушай меня. Ты слушаешь?
Слушаю, слушаю… куда ж я денусь… и слышу… правда, его голос заглушает песню чужого сердца, но это не имеет значения. Кровь ведь осталась… совсем немного крови мне не повредит. Девица все равно порезала руку, так зачем пропадать добру…
Вторая пощечина заставила меня зарычать. Никто и никогда еще…
– Сейчас мы уйдем, – это было сказано тоном, не терпящим возражений. – Но вернемся вечером. Я бы настоятельно рекомендовал и вам отправиться в гости… или воздержаться от приема пищи.
Я облизала губы. Ах… кровь долго не живет вне тела. И это печально… невыносимо печально… ее надо собрать… я ведь немногого прошу… я ведь не собираюсь никого есть… я…
Диттер держал крепко. Какие теплые у него руки… кровь, правда, подпорчена, но мне и такая сойдет… а вот ругаться в присутствии дам – признак дурного воспитания. Впрочем, кто вообще воспитывает инквизиторов? Им главное на костер кого-нибудь отправить…
– Костры уже сотню лет как отменили, – проворчал Диттер, вталкивая меня в автомобиль. – Ключи дай…
Еще чего… Не дам. Поменяю. На кровь… пару капель всего… я ведь не прошу многого… да, не капель, ладно, пару глотков и…
Мотор заурчал. Ах, обманщик какой, отнял ключи силой у бедной женщины… и… наваждение отступало. Жаркий день для зимы. И солнце такое жесткое… неприятное… ощущение, что кожа вот-вот слезет… я захныкала, а Диттер, содрав с себя куртку, накинул ее мне на голову.
Треклятые гардении – откуда они взялись среди зимы? – пахли резко. И куртка тоже. Табаком, Диттером и еще травами… в кармане нашлась жестянка с карамельками… смешной, такой взрослый, а сладости любит…
– Сиди тихо. Дыши глубоко. Скоро пройдет, – вел он, к слову, осторожно. А меня окончательно отпустило. Или почти окончательно. Во всяком случае, уже получалось думать не только о крови.
Красной. Сладкой. И такой необходимой мне… почему у других кровь есть, а у меня нет?
– Мне жаль, – выдавила я.
– И мне. Я должен был учесть, – я не видела Диттера, прячась от солнечного света под его курткой. – Слишком много времени прошло, а ты не ела…
– Я, в отличие от некоторых, питаюсь регулярно…
– Ты понимаешь, о чем я…
Понимаю. И… от этого понимания становится тошно. Кажется, я говорила, что моя нынешняя жизнь мало отличается от прошлой? Ложь. В прошлой мне не было нужды пить чужую кровь.
– Извини, пожалуйста, мне пришлось тебя ударить.
И кажется, он действительно чувствовал себя виноватым. Правда, не настолько, чтобы поделиться кровью.
Кап-кап… дождик идет. Алый-алый. Нарядный.
Я закажу себе новое платье, из шелка темно-винного цвета… и к нему гранатовый гарнитур. Или рубиновый? Думать об украшениях… думать… об украшениях… безголовые блондинки только о них и думают. К гранатам… кроваво-красным гранатам…
Машина остановилась. Надеюсь, не потому, что Диттер что-то испортил… А потом снова запахло кровью.
– Пей, – куртка приподнялась, и мне протянули руку. Широкую такую, в меру чистую мужскую руку с любезно вскрытыми венами. Могла бы смеяться – расхохоталась бы, но нет, из горла вырвался жалкий клекот. И я, наплевав на все принципы…
Пить кровь негигиенично. Тем более вот так, слизывая капли с чужой немытой руки… ладно, мытой… но все равно чужой и… подавиться недолго.
Но горячая. Боги, я так замерзла, а она горячая. И тепло расплывалось в крови, опьяняя… мне было так хорошо… мне никогда в жизни не было так хорошо. И поэтому, когда руку убрали, я возмутилась. Зарычала. И… успокоилась. Нет, в голове шумело, тело стало легким, воздушным. Казалось, стоит оттолкнуться от земли, и я взлечу…
Глава 14
Проклятье. Я закрыла глаза и заставила себя дышать. Воздух резиновый, а я… я не человек. Больше не человек. Только принять этот факт невыносимо сложно. Я… закрыла лицо руками и сидела, сидела, казалось, целую вечность, пока не раздалось вежливое покашливание.
– Ты в порядке?
– В полном. – Я испытывала крайне противоречивые чувства: хотелось расплакаться, сказать спасибо и придушить.
– Точно?
– Нет.
– Могу я что-нибудь сделать?
Сгинуть куда-нибудь, а заодно прибрать с собой последний месяц моей не-жизни… и родственничков в придачу.
– Расскажи…
– Что?
– Что-нибудь, – говорить из-под куртки неудобно, а ощупывать собственное лицо тем более… интересно, я перемазалась в крови? И губы влажные, и я их облизываю. Не дам пропасть ни капле… на шее, кажется, пятнышко… на платье влажно… оно темное, так что будет не слишком заметно.
Куртка опять приподнялась, и мне протянули платок.
– Тот человек, о котором писала почтенная фрау, находится в розыске… что ты слышала о кхаритах?
– Ничего.
– Твой род посвящен Плясунье…
– И это не значит, что я должна знать всех сумасшедших, которые считают себя избранными…
Когда говоришь, становится легче. Чувствуешь себя более живым, что ли? И я потерла платком щеку. Не больно… даже если вспороть когтем, все равно не больно. Кожа как резиновая. Ненастоящая. И я сама, выходит, тоже подделка? Под человека? Нет уж, не дождетесь.
– Давным-давно… лет этак десять тому назад…
– Разве это давно?
– Все истории должны как-то начинаться, а из меня рассказчик и без того хреновый. – Он забрался на соседнее сиденье. Кровью все еще пахло, но следовало признать: ныне этот запах не оказывал столь ошеломляющего воздействия, как четверть часа тому. – Так вот, в Бёрне случилось убийство… в принципе, не сказать, чтобы событие из ряда вон… но эта жертва отличалась от прочих. Девушка из хиндари. Ее тело было покрыто красной краской, а волосы уложены в высокую прическу. Ее привязали к колышкам, вбитым в землю, а потом вскрыли живот и выпустили кишки…
– В парке?
– В грязном сарае, который мы нашли после. В парк ее просто вынесли, уложили, прикрыли алым шелком.
Его голос звучал глухо, а я приподняла куртку.
– На шее ее было ожерелье из золотых монет. На первый взгляд они казались обыкновенными, но после, когда кто-то додумался приглядеться, то понял, что на монетах выбит вовсе не портрет императора…
– Плясунья?
– Да.
– Это ложь, что ей нужны кровавые жертвы.
– Не нужны?
– Она способна сама взять любую жизнь. Так зачем ей перепоручать это кому-то еще? – сказала я то, что некогда услышала от бабушки.
Солнечный свет по-прежнему был ярким, но не причинял боли. Глаза слегка слезились.
– Не спеши. Моя кровь – не самая лучшая замена… Сейчас мы отправимся в одно место… не спорь.
Не собиралась.
– Так что там с девушкой?