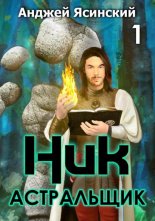Единая теория всего Образцов Константин

– Извините, товарищ капитан, но мест все равно нет.
Даже если бы я ничего не знал о том, кто такой Пекарев, уверенности блондинистого охранника хватило бы, чтобы понять масштаб и размах: если паренек на дверях позволяет себе не пускать к хозяину капитана уголовного розыска, предъявившего служебное удостоверение, это значит, что сам хозяин периодически выпивает в сауне с генералами.
– Меня ждут, – сказал я.
– Кто?
– Дон Корлеоне. – Я толкнул его плечом в грудь и протиснулся в дверь, желая в глубине души, чтобы он попытался меня остановить. Но не сбылось.
Внутри был только один небольшой зал, весьма просто обставленный, без излишеств и роскоши: на стенах декоративная колючая штукатурка цвета морской волны, десяток круглых столиков на металлических гнутых ножках, рядом с ними такие же стулья с веселенькими желтыми сиденьями, справа короткая барная стойка с не особенно богатым набором бутылок на зеркальных полках. Только вентиляторы здесь, в отличие от ленивых пропеллеров в «Висле», крутились с завидным энтузиазмом, давая хоть какое-то подобие прохлады. За ближайшим столиком сидели два близнеца отважного хранителя входа: короткие стрижки, футболки едва не лопаются на мощных торсах – и смотрели маленький черно-белый телевизор со складной антенной, стоящий на стойке. На экране два обаятельных мультяшных гангстера пели про сладкую жизнь:
- Постоянно пьем чинзано,
- Постоянно сыто-пьяно,
- Держим в банко миллионо
- И плеванто на законо…
Пекарев расположился за столиком у окна. Рядом лежала рыжая пачка Camel и стояла миниатюрная чашечка кофе, которая в его руках казалась посудой из кукольного набора. На нем была салатового цвета рубашка с короткими рукавами и крошечной эмблемой в виде зеленого крокодила; русые волосы аккуратно причесаны на пробор, покатые сильные плечи борца и цепкий взгляд бывалого человека. Он увидел меня, улыбнулся и приветственно помахал рукой. Я подошел.
– Привет, – Пекарев поднялся и протянул руку. – Ты Витя?
– Да.
Ладонь у него была сильной и жесткой.
– Толя, – представился он. – Садись. Что-нибудь будешь? Есть кофе отличный, у меня его по-турецки варят, на песке.
Я покачал головой.
– Мне воды и похолоднее.
– А чего-то покрепче?
Я задумался, вспомнил и спросил:
– «Курвуазье» есть?
Пекарев понимающе подмигнул, кивнул и крикнул:
– Паша! Сделай товарищу капитану «Курвуазье». И мне тоже плесни, за компанию.
За стойкой парень с ушами, которые как будто прожевал и выплюнул бультерьер, вынул откуда-то снизу округлую граненую бутылку, сверкнувшую, как бриллиант. Через минуту на столике появились два широких бокала с коньяком, два стакана, бутылка «Боржоми» и блюдечко с лимоном, нарезанным мощной, старательной, но неумелой рукой. Я поднял бокал и вдохнул. Вальяжный насыщенный аромат закружил голову: пахло солнечными виноградниками, старой кожаной мебелью, гаванской сигарой и искушением.
Мы молча чокнулись, выпили и закусили безжалостно истерзанным лимоном.
– Костя сказал, ты тоже самбист?
– Занимался в молодости. На КМС сдал, мастера не успел получить, ушел в армию.
– Ясно. А за какой клуб боролся?
– За «Динамо».
– А сейчас занимаешься?
– Так, иногда, для себя. Толя, ты же не про спортивные достижения хотел со мной поговорить, верно? Давай ближе к делу.
Пекарев согласно кивнул.
– Верно, давай по делу.
Он покрутил бокал с коньяком, посмотрел в окно, взглянул на меня и сказал:
– Как ты догадываешься, речь пойдет про Борю Рубинчика. Он со мной работал.
Я молча ждал.
– У него из сейфа кое-что пропало.
Я достал сигарету. Пекарев лязгнул крышечкой золоченой бензиновой зажигалки, дал мне прикурить и закурил сам.
– Сколько? – спросил я.
– В долларах триста тысяч, и еще полтора миллиона рублями и облигациями, плюс-минус тысяч десять.
Я предполагал, что у Бори взяли немало, но таких сумм не мог и представить. В одно пекаревское «плюс-минус» укладывалась моя зарплата лет так за пять.
– За эти деньги можно убить десять Борюсиков, – заметил я.
Пекарев энергично замотал головой.
– Нет, это не мои, отвечаю. А никому больше Борю убивать нужды не было. Хотя вопросы у меня по этому делу есть, но другие. Первое – то, что он сам эти деньги отдал. Все же знают, что в городе какие-то казачки нахлобучивают деловых. У Рубинчика специально на такой случай было двадцать тысяч отложено. Ладно, это, предположим, он объяснил: один из этих казаков-разбойников позарился на картину и сейф нашел, ну а Боря – не герой-партизан, да и деньги, даже большие, – не полковое знамя, чтобы за него умирать. Объяснение так себе, потому что, насколько я знаю, никогда раньше эти ребята ничего, кроме денег, не брали. Но допустим.
– Кто-то из ваших знал про сейф за картиной?
– Только если Боря сам сдуру кому-нибудь проболтался, что на него не похоже. Где сейф и есть ли он у Рубинчика в квартире, даже я не знал. Можно было бы предположить, что он спьяну какой-нибудь бабе про него рассказал, но такого точно не мог сделать тот Боря, которого я знал.
– Опыт показывает, что как раз те, кого мы хорошо знаем, могут удивить сильнее всего. Про первый вопрос я понял, но ведь есть и второй?
– Да, и непростой, я бы сказал. Примерно через неделю после налета дошла информация, что Боря по своим каналам активно интересуется возможностью срочно выехать за границу. Положение сейчас сам знаешь какое, КГБ закрыл все дыры, даже такие, о которых никто и не вспоминал уже годами. У нас все поставки остановились. Дошло до того, что несколько дней назад ко мне чекист приходил, бровастый такой, с челюстями. Жевалов, кажется. Разговаривал как со ссученным, приказал, чтобы, если в нашей системе координат появится этот пропавший ученый с девицей, я немедленно ему позвонил. Потом оказалось, что комитетские ко всем приходили, кто имеет какой-то вес в обществе и работает с заграницей. Ну, я не отказался, конечно. КГБ ни зла, ни добра не забывает, почему бы и не помочь Родине. И вот представь, что в этой ситуации Рубинчик начинает метаться, будто ему приспичило. В сочетании с очень странно пропавшими миллионами выглядит, мягко говоря, некрасиво. Ну, мы же не звери, допросов с пристрастием устраивать не стали, но наблюдение я поставил, чтобы, если он вдруг рванет куда-то с чемоданами, успели перехватить. Выделил на такое дело машину и пару бойцов. Дальше – больше. В первую же ночь мой человек, который дежурил у дома Борюсика, заметил неприметную такую «копейку», которая стояла напротив него, по другую сторону входа во двор. И два человека в салоне. Ну, пока мой боец соображал, что по этому поводу предпринять и нужно ли вообще что-то делать, его тоже заметили: из «копейки» вышел какой-то мужик, не спеша подошел, попросил прикурить и так же спокойно удалился. Номер мой наблюдатель переписал. Комитетская машина.
– Почему?
– Потому что я попытался номера через ГАИ проверить – и не вышло, вот почему.
Я еще раз отметил про себя широту возможностей Пекарева и спросил:
– Мне запишешь номерок?
– Да, пожалуйста. Но на вторую ночь уже никто чужой за домом Рубинчика не следил, или просто боец мой не заметил. В ночь смерти Бори он тоже там был и вроде бы видел, как примерно в половине четвертого утра двое зашли во двор дома, но кто – не разглядел и даже почему-то не был уверен, что кого-то видел. Кажется, вышли из-под деревьев на противоположной стороне проспекта. Или нет. Но как они выходили обратно, он точно не заметил, а потом поднялась суматоха, милиция подъехала, ну и паренек мой тоже задерживаться не стал. Вот такие дела.
– Это все? – осведомился я.
– Да вроде.
– Тогда спасибо вам, товарищ Пекарев, от лица советской милиции за неоценимую помощь следствию. Я пошел, счастливо оставаться.
Я залпом допил коньяк, что по отношению к такому напитку было почти кощунством, будто наследную принцессу по заднице шлепнул, и поднялся. Пекарев усмехнулся.
– Ладно тебе, капитан, не спеши. Я еще не закончил.
Я снова сел.
– Слушай, Костя Золотухин сказал, что ты человек толковый. Он, кстати, о тебе очень хорошо отзывается и верит, что ты и это дело раскроешь, и «вежливых людей» найдешь. Просьба у меня к тебе: когда будешь точно знать, кто это, шепни мне. Мы их потом тебе отдадим – арестовывай, под суд отдавай, но нам бы деньги вернуть. Понимаешь? За это дело готов заплатить два процента от суммы в рублях. Тридцать тысяч. Извини, дал бы больше, но не могу, деньги не только мои. Согласен?
Хорошая трехкомнатная квартира в новом кооперативном доме стоила тысяч десять-двенадцать. Еще за десять можно было взять новую «Волгу», а «Жигули» последней модели и вовсе за шесть. В воображении ярко вспыхнули образы: триада советского счастья – квартира, машина и дача, Тонечка, рвущая светлые кудри и запоздало проклинающая товароведа, а из красного уголка памяти рыкнул голос с мужественной хрипотцой: «Да ты, Копченый, и впрямь без ума! Чтобы Жеглов твои поганые деньги взял!..»
– Обсудим, когда результат будет, – ответил я.
– Деловой подход, одобряю. А сам что думаешь про этих «вежливых людей»?
– Думаю, что кто-то из вашей среды наводки дает.
– Может, и так, среда-то гнилая, – согласился Пекарев. – А может, и из вашей, так сказать, среды. Как считаешь? В обществе есть мнение, что это милиционеры сами налеты устраивают. Очень уж все четко и гладко выходит. Знают много, все имена, адреса, обращаются по имени-отчеству, не уродуют никого. Одни грабят, а другие, например, их прикрывают в ходе расследования.
Взгляд у Пекарева стал холодным и твердым, как закаленный барочный гвоздь. Парень с переломанными ушами невозмутимо протирал стаканы за стойкой. В телевизоре капитан Врунгель уже завершил на сегодня свои похождения, звучала песня на титрах, а двое спортсменов за столиком продолжали молча смотреть в экран. Казалось, что они прислушиваются к чему-то или ожидают сигнала. Светловолосый атлант подпирал плечом дверной косяк, перекатывая во рту спичку и задумчиво глядя мне в затылок.
– Всякое в жизни бывает, – рассудительно ответил я. – Скажем, Борю могли замучить до смерти потому, что заподозрили в краже общественных денег, а когда поняли, что ошибочка вышла, обратились за помощью к милиционерам. Так, например.
Стало как-то особенно тихо. Все вокруг задержало дыхание. Пекарев рассмеялся.
– Ладно, Витя, давай, у меня тоже дела еще сегодня… Увидимся. Если что – звони в любое время, здесь у меня всегда кто-нибудь сидит, даже ночью, будет что-то срочное – передадут. Тебя подвезти куда-нибудь?
Подвозить меня было не надо. Я попрощался и не без некоторого облегчения вышел за дверь, провожаемый распевным напутствием из телевизора:
- Порой не верится, друзья,
- Но в жизни так бывает,
- Порой не верится, друзья,
- Но в жизни так бывает.
У метро «Парк Победы» я зашел в телефонную будку и набрал номер, подглядывая в записную книжку. Мне нужно было кое-что проверить, да и приятно шумевший в голове «Курвуазье» настраивал на игривый лад.
– Жвалов! – буркнуло в трубке.
– Здравия желаю, товарищ подполковник! – гаркнул я так, что в будке задребезжали стекла. – Капитан Адамов, уголовный розыск! Разрешите доложить?
– Докладывай! – рявкнул он.
– Согласно полученной оперативной информации, за квартирой дважды потерпевшего Рубинчика велось наблюдение посредством слежки из неопознанного транспортного средства! – взревел я, надсаживаясь, как на плацу. – Номерной знак государственной регистрации…
Пожилой мужчина в летней шляпе из светлой сетчатой ткани подошел было к будке, но шарахнулся и отошел, озираясь.
– Знаю! – заорал Жвалов в ответ. – Продолжайте работу!
И повесил трубку. Понятие сарказма было подполковнику контрразведки неведомо.
Я вышел, улыбаясь раскаленному солнцу. Пекарев не ошибся: за домом Бори действительно наблюдали сотрудники госбезопасности.
Человеку свойственно стремление к объяснению окружающего мира. Так уж устроен наш разум: он требует стройной системы, которая бы внятно и непротиворечиво разъяснила все обстоятельства жизни, сформировала представление о ее смысле, не упустила бы ни одной детали и ответила на все вопросы бытия. Нам нужна единая теория всего, и неважно, будет ли она научной, религиозной или вовсе мифологической. По большому счету нам даже не нужно ее понимать; достаточно быть уверенным в том, что есть книга, трактат, меморандум, где все изложено, и если будет к тому потребность, то достаточно открыть обложку, прочесть несколько строк и воскликнуть: «Ах, вот, оказывается, в чем тут дело!»
Однако следует избегать в решении кажущихся запутанными задач искушения уложить все, зачастую противоречивые, исходные в одну красивую схему. Мишка пукнул в лесу; сова ухнула; лиса съела зайчика. Если попытаться объединить все это единой историей, можно додуматься до генетически модифицированного медведя, испустившего вызывающие агрессию газы по сигналу совы, после чего подпавшая под их воздействие лиса напала на зайца, который должен был сове денег. Но, как правило, все оказывается ровно тем, чем кажется с первого взгляда: медведя пучит, сова – пустобрех, лисичка голодная, а зайчик – лопух.
Вокруг злосчастного Рубинчика действительно происходило что-то странное, и разговор с Пекаревым только добавил неизвестных в это и без того иррациональное множество. Если общественные деньги стали добычей «вежливых людей», то зачем Боря вдруг начал лихорадочно искать способы выехать за границу, да еще и в такой неподходящий момент? Испугался, что его обвинят в воровстве? Или Пекарев все-таки нажал на него, запугивал, требовал вернуть деньги? Но целую неделю после налета Рубинчик оставался спокоен, а потом вдруг заметался как подстреленный. Если Боря действительно не устоял перед искушением присвоить себе миллионы и списать их пропажу на банду разбойников, то куда разумнее было бы подождать, пока улягутся страсти, а потом, через полгода-год, спокойно уехать и начать новую жизнь в любой точке мира, а не бегать по городу в панике, привлекая внимание и порождая опасное недоумение. Фатальный приступ безумия и последующее самоубийство кое-как укладывались в версию оказанного давления или даже просто могли быть вызваны сильным испугом, но можно было бы ожидать такого развития событий сразу после налета, а не через десять дней, из которых неделю Боря не проявлял никаких видимых признаков беспокойства, а в последние три дня вдруг принялся искать возможность к побегу. Внимание со стороны госбезопасности, с одной стороны, было легко объяснимым при роде занятий покойного Бори, но оставалось неясным, откуда такой энтузиазм в желании знать обстоятельства последних дней его жизни и трагической смерти.
Факты не сочетались друг с другом, как грани в кубике Рубика, где стоит собрать сторону одного цвета – и другая тут же превращается в безнадежный хаос. В таких случаях полезно бывает начать с исходной точки, и я, больше повинуясь чутью, нежели логике, отправился с повторным визитом в «академический» дом.
По случаю жаркого дня многие окна, выходящие в длинный и узкий двор, были открыты, некоторые завешены влажными простынями, дававшими хоть какое-то чувство прохлады и защиту от вездесущего дыма; на паре балконов беспардонно сушилось белье, из окон неслись телевизионные голоса и звуки музыки, что все вместе придавало строгому «академическому» дому какой-то расслабленный южный колорит, столь же неуместный рядом с серыми, изрезанными дождями пилястрами и кариатидами, как легкомысленный купальный костюм на престарелом профессоре. Золотисто-желтый автомобиль Рубинчика все так же стоял на своем месте, как верный пес, не знающий еще, что хозяин ушел навсегда. Асфальт на том месте, где Борюсик завершил свой земной путь, тщательно вымыли, но, приглядевшись, еще можно было различить неприятного вида темное пятно.
Я вошел в тихий подъезд и поднялся на третий этаж, решив для начала нанести визит Ядвиге Ильиничне. На дребезжащие звонки в дверь никто не отозвался, даже Пополь не откликнулся лаем. Я поднялся этажом выше. Дверь в квартиру Рубинчика была опечатана бумажной лентой с синей казенной печатью. Из квартиры напротив слышалась музыка: Алла Борисовна Пугачева сетовала на ледяной нрав океанского айсберга. Я прислушался и нажал на кнопку звонка. За дверью мелодично пропел гонг. Я подождал немного и позвонил еще раз. Музыка стала чуть тише, мягко прошелестели шаги, и дверь открылась. На пороге стояла уже знакомая мне соседка Маша с бокалом, до половины заполненным рубиновой жидкостью, и в кое-как прихваченном поясом шелковом длинном халате, не скрывающем щедрых даров благосклонной природы. Из квартиры пахнуло хмельным и теплым.
– Здравствуйте, – сказал я. – Сергей дома? Я хотел с ним поговорить.
Маша смерила меня оценивающим взглядом из-под черной блестящей челки, сделала рукой с бокалом неопределенный жест и сообщила:
– А его нет.
Потом прищурилась, улыбнулась и добавила:
– Он в исполком поехал. Может, зайдешь?
Маша повела бедром. Надо отдать должное, толк в движении бедрами она понимала.
– Нет уж, спасибо. Как-нибудь в другой раз. – И я зашагал по лестнице выше, думая, что Ядвига Ильинична была слишком оптимистична, когда говорила о Серафиме Лепешинской как о единственном позоре приличного дома.
– Он только через два часа вернется! – крикнула Маша мне вслед, потом что-то проворчала разочарованно и с лязгом захлопнула дверь.
В квартиру Льва Львовича я позвонил уже без особой надежды, но на этот раз мне повезло: хозяин был дома и встретил меня, заспанно щурясь и дыша вчерашним спиртным. Я представился, потом напомнил, что нам уже приходилось встречаться, и еще с минуту ждал, пока Лев Львович очнется настолько, чтобы осознать полученную информацию.
– А! – сказал наконец он и отступил на шаг в коридор. – Входите. Только давайте пройдем на кухню, у меня в комнатах некоторый беспорядок.
Глядя на Льва Львовича, в это легко верилось.
Мы прошли в большую, но уютную кухню. В ней чувствовалась заботливая женская рука, которая, впрочем, уже некоторое время не касалась своих владений: герань и фиалки на подоконнике не мешало бы полить, нарядная клеенка на столе была покрыта неопрятными липкими пятнами, в глубокой раковине, вмонтированной в светлого дерева кухонный гарнитур, скопилась посуда с присохшими остатками пищи. Форточка была закрыта, и воздух пропитали запахи перегара и не вынесенного вовремя мусорного ведра. В тишине громко тикали ходики с кукушкой и гирьками.
Лев Львович кое-как нацепил очки, сел напротив меня за стол, слегка покачнувшись на скрипнувшем стуле, и произнес извиняющимся тоном:
– Вы простите меня, я в отпуске. Уже вторую неделю. Супруга с сыном на даче, у нас домик под Гатчиной, а я вот тут, на холостяцком, так сказать, положении.
– Выглядите отдохнувшим, – заметил я.
Он смущенно засмеялся и поправил очки.
– Ну, это я так, для расширения сосудов. Знаете, у меня такой стресс на работе весь год: подготовка проектов, приемные комиссии, между смежниками эта вечная грызня – хочется просто провести время в покое и одиночестве. Крепкий сон, книги, телевизор… Вы меня понимаете?
Я заверил, что да.
– Лев Львович, я по поводу смерти Бориса Рубинчика. Хочу кое-что уточнить в обстоятельствах той ночи.
Он как-то дернулся, обеспокоенно посмотрел вниз и в сторону и спросил:
– А что же еще уточнить? Я уже все рассказал.
Я откинулся на спинку стула, проницательно прищурился, постучал пальцами по столу и веско сказал:
– Не все, Лев Львович. Не все.
– На что это вы намекаете? – попытался возмутиться он, но вышло не очень. Уверен, что у себя в «Турбостроителе» ина пике формы возмущение у Льва Львовича могло бы получиться что надо, но сейчас я застал его похмельным утром, едва очнувшегося ото сна, во вчерашней майке и кое-как натянутых тренировочных брюках, и поэтому уверенно продолжал:
– Не упрямьтесь, вы же серьезный, взрослый мужчина. Я только что был у вашего соседа снизу. Он мне все рассказал.
– Так, значит, Сережа тоже видел!.. – воскликнул Лев Львович, посмотрел на меня, осекся и сник.
– Ну что же вы, – подбодрил я. – Смелее! Что мог видеть Сережа?
– Как ребенка, ей-богу, – махнул он рукой. – Я могу чайник поставить?
Как известно, когда грохот в квартире Рубинчика оборвался треском и звоном выбитого окна, а со двора донесся испуганный крик и соседи устремились по лестнице вниз, Лев Львович остался стоять перед дверью.
– Сам не помню зачем, – признался он. – Может, решил, что раз не заперто, нужно присмотреть за квартирой.
И тут дверь широко распахнулась. На пороге стояли мужчина и женщина.
– Я большего страха в жизни своей не испытывал. Если бы оттуда какой-нибудь громила выскочил с топором в руке или бандиты в масках, и то не было бы так страшно. А тут, после всего этого жуткого громыхания, вдруг совершенно обыкновенные люди, приятные даже. Это было так странно, так неправильно, что у меня в прямом смысле мороз по коже пошел.
– Как они выглядели?
Лев Львович задумался.
– Женщина такая, на артистку похожа. Высокая, статная. Красивая очень. Платье, можно сказать, нарядное, кажется, бордового цвета. Бусы крупные, яркие, я на них внимание обратил. В общем, эффектная дама.
– А мужчина?
– А он, знаете ли, типичный американец.
– Это значит какой?
– Ну вот, понимаете… – Лев Львович пошевелил скрюченными пальцами, как будто ощупывая себе лицо, – иностранец, одним словом. Тоже рослый, можно сказать, крупный. Мужественный такой. В клетчатой рубашке.
Со двора доносились крики и гомон. Лев Львович стоял неподвижно и таращился на незнакомцев. Женщина вдруг улыбнулась и подмигнула ему, чем привела в еще больший ужас, если только это было возможно. Мужчина посмотрел на часы – у него большие, массивные часы были на запястье, – кажется, подвел стрелки, а потом они молча повернулись и стали спускаться по лестнице.
– Я инстинктивно пустился за ними следом. Не знаю, что я хотел сделать – догнать, задержать… Они меня опередили на пару лестничных маршей, свернули за угол – и тут смотрю, мне навстречу мчится Сережа, запыхался весь и пробежал мимо меня наверх. Я бегом вниз – никого. Выскочил во двор, осмотрелся – только наши вокруг, а этих двоих и след простыл. Все.
Он замолчал.
– Почему сразу не сообщили?
Лев Львович развел руками.
– А что сообщить? Никто, кроме меня, их не видел. Да я и сам не уверен, видел кого-нибудь или нет. Я же отдыхаю уже две недели, вот и подумал… ну, мало ли… примерещилось.
– Ладно. Есть бумага и ручка?
Он встал, вышел из кухни и вернулся с форматным листом бумаги и остро заточенным карандашом.
– Вот.
Я написал несколько слов и цифр, отдал ему листок и сказал:
– Завтра жду вас с утра у себя в управлении. Здесь время, адрес и телефон. Пропуск будет на проходной. И постарайтесь сегодня не слишком сильно отдыхать.
Лев Львович понуро смотрел на лист бумаги, который заметно дрожал у него в руке. Потом вздохнул и обреченно спросил:
– Меня теперь привлекут?
– За что же? – удивился я.
– Ну, за то, что не сообщил… не просигнализировал…
– Бросьте, Лев Львович, что за глупости! Честно говоря, на вашем месте мало кто рассказал бы о случившемся, – великодушно успокоил я. – Просто показания зафиксируем под протокол, а потом фоторобот составим этих ваших «артистки» и «американца». Ну и альбомы с фотокарточками посмотрите, вдруг узнаете их. Кстати, не в курсе, где Ядвига Ильинична? Я к ней заходил, а ее дома нет.
Приободрившийся Лев Львович взглянул на часы и ответил:
– Так она в это время с собачкой гуляет. У нее пуделек, маленький такой. В саду Дзержинского, тут, рядом.
Я поблагодарил и ушел, на прощание еще раз убедительно попросив выйти из отпуска хотя бы на один завтрашний день. Он пообещал, но без особой уверенности в голосе.
В саду Дзержинского среди живописных старых деревьев и очаровательных ландшафтов из заросших кувшинками узких проток прохаживались по дорожкам молодые мамы с колясками и бабушки присматривали за внуками, возившимися в мокром песке у пруда и ковырявшими прутьями тину. На маленьком изогнутом мостике с ажурными перилами стояла, обнявшись, молодая пара и смотрела в счастливое будущее. У старинной деревянной купеческой дачи в глубине сада старушки бросали хлебный мякиш сизым голубям и отважным взъерошенным воробьям. На лавочке у памятника железному основателю ВЧК расположились за шахматами двое пенсионеров, поблизости маялся мальчик лет шести, катал на веревочке большой пластмассовый самосвал и поглядывал на увлеченного шахматами деда.
Ядвигу Ильиничну я увидел издалека: она стояла у постамента, сама похожая на строгое изваяние в черных одеждах, а по зеленым газонам вокруг носился стремительными кругами маленький персиковый пудель, распугивая недоумевающих голубей. Я подошел ближе. Песик заметил меня и стрелой устремился навстречу. Ядвига Ильинична проследила за пуделем взглядом и тоже увидела меня. Я улыбнулся и помахал рукой. Она беспокойно задвигалась и возгласила:
– Пополь! Пополь!
Пудель подбежал ко мне и заплясал рядом, раскрыв пасть в восторженной собачьей улыбке, вывалив язык и напрыгивая перепачканными лапами на штанины.
– Пополь! Отойди от милиционера, мы уходим!
Я подхватил песика одной рукой и не спеша направился к Ядвиге Ильиничне. Она нервно переминалась с ноги на ногу и стискивала в руках поводок. Ополоумевший от восторга пудель изворачивался и пытался лизнуть меня в нос.
– Здравствуйте, Ядвига Ильинична! Куда это вы так заспешили?
– И вам не хворать. У нас закончилось время прогулки, а у Пополя – режим. Ему пора обедать и спать.
Она защелкнула карабин поводка и опустила песика на землю. Он немедленно запрыгал вокруг, крутанулся, оплел поводком ноги хозяйке и запутался сам.
– Ах, да перестань же егозить, несносное создание! – Ядвига Ильинична с трудом присела, насколько позволяли возраст, юбка и собственное достоинство, и принялась высвобождать себя и Пополя из пут. Я решил воспользоваться моментом и тоже опустился рядом на корточки.
– Ядвига Ильинична, – начал я с мягкой укоризной, – а что же вы не рассказали, что видели в доме посторонних?
– Каких еще посторонних? – раздраженно спросила она, совладала наконец с поводком и поднялась. – Единственными посторонними в нашем доме в ночь смерти Бори были милиционеры, уж простите меня за прямоту. И я все еще тогда рассказала, причем неоднократно, и вам – в том числе.
– Значит, добавить вам нечего? – произнес я профессиональным задумчивым тоном, словно мысленно определяясь со статьей Уголовного кодекса, по которой непременно привлеку вздумавшего упрямиться свидетеля.
– Абсолютно нет.
– А вот сосед ваш, Лев Львович, кое-что все-таки вспомнил.
– Господи, нашли кого слушать! Леве скоро будет трудно вспомнить, как его звать. Если у вас ко мне все, мы пойдем. Пополь хочет домой.
Песик действительно натягивал поводок, скреб лапами землю, азартно хрипел и упирался, как единственный в связке бурлак, пытающийся сдвинуть с места груженую баржу.
– Давайте я вас провожу, мне все равно в сторону метро.
– Извольте, – недружелюбно согласилась Ядвига Ильинична, и мы тронулись в путь, держась друг от друга на неприязненном расстоянии, как поссорившиеся супруги.
– Послушайте, – я не сдавался, – речь идет о лицах, подозреваемых в совершении тяжкого преступления и, возможно, причастных к смерти Бориса Рубинчика. Вы уверены, что ничего не хотите мне сообщить?
– Боже мой, вы об этом! – воскликнула Ядвига Ильинична. – Так я уже все сообщила куда следует.
– Куда же?
– В Комитет государственной безопасности, – веско ответила Ядвига Ильинична.
Это был неожиданный поворот.
– Что вы им сообщили? – спросил я, чувствуя, как глупо прозвучал мой вопрос.
– Это невыносимо! Вы с ума меня хотите свести? О лицах, подозреваемых и причастных, как вы соблаговолили выразиться. Вот о ком!
И Ядвига Ильинична сердито ткнула пальцем в газетный стенд на стене, где красовалась комитетская ориентировка: фотография исчезнувшего ученого Саввы Ильинского и фоторобот молодой девушки с распахнутыми по-детски глазами.
– Вы видели их двоих? – быстро спросил я.
– Нет, только ее. Бледная рыжая худосочная девица. Я с ней на лестнице буквально столкнулась, в прошлый четверг. Выходила с Пополем на вечернюю прогулку, в начале девятого, чтобы успеть вернуться к программе «Время», а она мялась у Бориной двери. Не поздоровалась, кстати, только зыркнула так, настороженно. Потом дверь открылась, она туда юркнула – и все.
– И вы ее сразу узнали?
– У меня феноменальная память на лица, – сообщила Ядвига Ильинична. – Да тут и запоминать нечего, если на всех углах расклеены листовки и по телевидению их показывают чаще, чем членов Политбюро. Разумеется, едва мы с Пополем вернулись домой, я позвонила – не по 02, а по другому телефону, длинному. Там ответили: «Комитет государственной безопасности, оперативный дежурный» – так я и поняла, кто их разыскивает. Ко мне потом и сотрудники приезжали, вежливые, внимательные, хорошо одетые, между прочим.
Она бросила колючий взгляд на мою клетчатую рубашку и видавшие виды отечественные джинсы.
– Больше вы ее здесь не встречали?
– Нет. Кстати, если это не государственная тайна, кого Лева якобы видел в ночь гибели Бори?
– Он утверждает, что, когда все спустились во двор, из квартиры Рубинчика вышли двое, мужчина и женщина.
– С хвостом и рогами? – ядовито осведомилась Ядвига Ильинична.
– Нет, вполне приятной гражданской наружности.
– И куда же они подевались?
– Спустились по лестнице и исчезли.
Она фыркнула:
– Ну, все понятно. И вы, стало быть, хотели поинтересоваться, не наблюдала ли я пьяных галлюцинаций Льва Львовича?
Я виновато развел руками.
– Получается, что так.
Ядвига Ильинична искоса посмотрела на меня, потом чуть улыбнулась, а потом вдруг рассмеялась неожиданно молодо и задорно. Я подумал, что лет тридцать назад она способна была влюбить в себя без памяти кого угодно.
Мы подошли ко входу во двор и остановились. Ядвига Ильинична взглянула на осиротевшую «шестерку» и покачала головой.
– А я знала, что все так и закончится. Вся эта красивая жизнь нувориша, сомнительные знакомства, странные вылазки по ночам… Да, кстати, вспомнила, может, это будет вам важно. Боря в последние две ночи перед кончиной к кому-то ходил.
– Именно ходил? Не ездил?
– Довольно странно пользоваться автомобилем, когда идешь в соседнюю парадную. Я в последнее время взяла себе привычку ложиться спать довольно поздно, иногда даже за полночь. Наверное, это возраст, не знаю. У меня весьма приличная библиотека, я выбираю какую-нибудь книжку из непрочитанных, иду в кабинет покойного мужа, включаю лампу и читаю за его рабочим столом. Пополь спит, кругом ночь, тишина. В тишине хорошо и читать, и думать. И вот буквально в пятницу, на следующий день, как я видела здесь эту девицу с плаката, слышу – этажом выше хлопнула дверь. Потом шаги, кто-то спускается мимо моей квартиры. На часах полночь. Я подошла к окну – в кабинете окна как раз выходят во двор, посмотрела: вышел Боря, остановился под фонарем, потоптался, а потом так крадучись, вдоль стены, аки тать в ночи, тихонько идет налево и заходит в соседнюю парадную. Мне, как вы понимаете, стало любопытно. Если бы он направо пошел, я бы могла подумать, что он таки сговорился с Серафимой, про нее давно уже ходят такие слухи. Но Серафима в первой парадной живет, а Боря зашел в третью, а к кому он мог там пойти среди ночи? Не к Марфе же Игнатьевне. Я осторожно так из-за портьеры стала смотреть, не загорится ли где-нибудь свет. Но нет, в окнах темно. Думаю, если бы он даже в прихожую к кому-то зашел, я бы увидела отсвет. Хотела было дождаться, когда он обратно вернется, но до часу ночи Боря оттуда не вышел, а потом я уже легла спать. Но так интересно стало, я даже весь день думала: ну к кому мог Боря наведываться? И зачем? С вечера уселась у окна в кабинете и стала ждать. И что бы вы думали? Ровно в полночь Рубинчик таким же манером вышел – и туда же, в третью парадную. Я решила, что, если еще раз туда же отправится, я за ним прослежу.
– Вы отважная женщина, Ядвига Ильинична.
– Ах, оставьте, – отмахнулась она. – Чего мне бояться? Но в третью ночь Боря никуда не пошел. Я ждала, ждала его у окошка, как Аленушка, до половины первого, а потом пошла спать. Ну, а под утро проснулась от грохота…
Ее темные глаза чуть затуманились, черты постаревшей античной богини немного смягчились, как будто потеплел мрамор. Она и сама, вероятно, почувствовала, что вдруг дала слабину: вздрогнула, приосанилась и холодно произнесла:
– Прощайте. Надеюсь, я ответила на все ваши вопросы, и даже более того.
– Спасибо большое, Ядвига Ильинична, – искренне сказал я. – Вы очень помогли.
Она молча кивнула и вошла в парадную, таща за собой на поводке присмиревшего пуделя.
Из открытого окна четвертого этажа звонкий итальянский дуэт пел песню о счастье. Маша высунулась во двор, осмотрелась, увидела меня и быстро нырнула обратно. Я подошел к соседней парадной и потянул на себя тяжелую створку двери. Внутри было пусто и тихо. Лестница уходила наверх, но, в отличие от парадной Бори Рубинчика, здесь имелся и второй выход: в конце короткого полутемного коридора виднелась простая деревянная дверь. Я открыл ее и оказался в узком, как галстук стиляги, переулке между домами. Напротив в приземистом желтом доме темнела низкая арка. Слева переулок заканчивался тупиком, справа шумел оживленный Кировский проспект. Я вошел в арку и попал в широкий квадратный двор, окруженный чумазыми стенами. Тут жили люди попроще, чем в «академическом доме»: в разгар рабочего дня окна были закрыты, мелодии и ритмы зарубежной эстрады не нарушали застоявшейся тишины, неподвижный воздух наполняли запахи тушеной капусты и острая вонь от прокисших помойных баков. По замусоренному потрескавшемуся асфальту праздно слонялись похожие на шпану облезлые голуби. Я немного покружил по дворам, стараясь держать направление в сторону метро, миновал желтый облупленный флигель с приоткрытой рассохшейся дверью, за которой в пыльном сумраке виднелись старые метлы, повернул направо и вышел на проспект. «Академический» дом остался далеко позади. Почти напротив меня серым памятником конструктивизму высился Дом культуры им. Ленсовета, а слева, не доходя до метро и Дома мод, располагалась стоянка такси. Сейчас машин там не было, и под круглым знаком с большой синей буквой «Т» топтался высокий сутулый гражданин в желтой рубашке и с портфелем в руке, поглядывая на часы и не теряя надежды.
Ядвига Ильинична, наверное, обладала глубокими знаниями в области человеческих страстей и пороков, но в случае с Рубинчиком не владела всеми обстоятельствами дела, поэтому напрасно ждала, что где-то в окнах соседней парадной вспыхнет свет. Если Боря и наведывался к кому-то в гости, то уж точно не по соседству. Простой и изящный маневр позволил ему уйти от наблюдения и пекаревских спортсменов, и даже сотрудников госбезопасности. Единственным способом передвижения по городу за полночь было такси, и я не сомневался, что именно им Рубинчик и пользовался.
Надо будет наведаться на эту стоянку попозже вечером, когда таксисты, эти хищники ночи, покинут дневные убежища.
Утром следующего дня в курилке Игорь Пукконен из второго отдела сказал мне, что в возбуждении уголовного дела по факту смерти Рубинчика было отказано. Результаты проведенной экспертизы однозначно указывали на самоубийство. С учетом предшествующих и сопутствующих обстоятельств, по факту доведения до самоубийства дело тоже решили не заводить. Игорь воспринял эти новости с видимым облегчением, и я его понимал.
Я вернулся в кабинет и набрал номер Леночки Смерть.
– Привет, Адамов! Что, уже победили преступность?
– Нет, Лена, пока еще боремся. Смежники подводят.