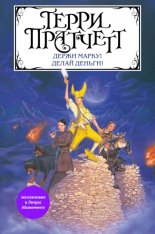Неутолимая любознательность. Как я стал ученым Докинз Ричард

- Вот шесть пенсов, славные шесть пенсов,
- Столько навеки хватит мне,
- Два я в долг дам, два потрачу,
- Два же отнесу домой жене.
А в песенке, приведенной ниже, нас учили произносить букву R в слове birds (“птицы”); в то время я не понимал, зачем это надо, но дело было, наверное, в том, что песенка считалась американской[44]:
- Сидим мы все, как птицы на деревьях,
- Сидим как птицы,
- Сидим как птицы,
- Сидим мы все, как птицы на деревьях,
- Где-то в Демераре…
Школа Орла отчасти унаследовала у школы Дракона ее знаменитый дух любви к приключениям. Я помню один потрясающий день, когда учителя организовали для всей школы массовую игру в “матабеле и машона” (по названиям двух основных племен Родезии – местную разновидность “ковбоев и индейцев”[45]), в ходе которой мы носились по лесам и лугам гор Вумба (что означает “туманные горы” на языке племени машона). Одному небу известно, как нам всем удалось не заблудиться и не потеряться в чаще. Хотя у нашей школы не было бассейна (он был построен, но позже, когда я там уже не учился), мы имели возможность купаться (голышом) – в очаровательном озерке под водопадом, что было намного веселее. Какому мальчишке нужен бассейн, если у него есть настоящий водопад?
Однажды меня отправили в школу Орла на самолете – настоящее приключение для семилетнего мальчика, путешествующего без родителей. Я летел на биплане “Быстрый дракон” из Лилонгве в Солсбери (нынешний Хараре), откуда должен был продолжать путь до Умтали (нынешнего Мутаре). Предполагалось, что родители моего соученика по школе Орла, жившие в Солсбери, встретят меня в аэропорту и отправят дальше, но их почему-то не было. Мне казалось, что я провел чуть ли не целый день (теперь я понимаю, что на самом деле все-таки не так долго), слоняясь вокруг аэропорта Солсбери. Люди были добры ко мне: кто-то накормил обедом, а кто-то пустил меня в ангары посмотреть на самолеты. Как ни странно, этот день я вспоминаю с большим удовольствием, и мне ничуть не было страшно – ни от одиночества, ни от неизвестности. Наконец появились те, кто должен был меня встретить, и с их помощью я добрался до Умтали, где, если не ошибаюсь, меня уже ждал Танк на своем джипе “виллис”, который мне нравился, потому что был похож на “Ползучую Дженни” и напоминал о доме. Я описал этот случай так, как сам его помню. Дэвид Глинн помнит его иначе, но я полагаю, что у меня было два подобных путешествия – одно с ним, а другое без него.
Прощание с Африкой
В 1949 году, через три года после описанного выше длительного отпуска, мой отец взял подобный отпуск, и мы снова отправились в Англию из Кейптауна, на сей раз на очень приятном кораблике под названием “Умтали”, о котором я мало что помню, кроме чудесной полированной деревянной обшивки и светильников, выполненных, как я теперь думаю, в стиле ар-деко. Команда была слишком маленькой, чтобы иметь в своем составе еще и массовика-затейника, поэтому на эту роль выбрали некоего мистера Кимбера, из тех людей, которых называют душой компании. В частности, когда мы пересекали экватор, он организовал по этому поводу праздничную церемонию, включавшую в себя появление Нептуна с бородой из морских водорослей и трезубцем. В другой раз он устроил маскарад, на котором меня нарядили пиратом. Я завидовал другому мальчику, одетому ковбоем, но мои родители объяснили, что его костюм, который был, надо признать, качественнее моего, просто купили в магазине, а мой создали сами, а значит, на самом деле он был лучше. Теперь я могу это понять, но тогда не мог. Один маленький мальчик изображал Купидона: он был совершенно голый и держал стрелу и лук, которым кидался в окружающих. Моя мама преобразилась в одного из индийцев-официантов (мужчину), для чего она покрасила кожу марганцовкой, не смывавшейся еще много дней, и одолжила форменную одежду с характерным кушаком и тюрбаном. Другие официанты ей подыграли, и никто из ужинавших ее не узнал: даже я, даже капитан, которому она нарочно принесла мороженое вместо супа.
В тот день, когда мне исполнилось восемь лет, я научился плавать в крошечном корабельном бассейне, сделанном из парусины, натянутой между закрепленными на палубе столбиками. Я был так рад своему новому умению, что хотел поскорее применить его в море. Поэтому во время стоянки в порту Лас-Пальмас на Канарских островах, в ходе которой корабль должен был принять на борт большой груз помидоров и всех пассажиров высадили на весь день на берег, мы отправились на пляж, где я гордо плавал в море под бдительным надзором мамы, остававшейся на берегу. Вдруг она увидела, что на мою крошечную плывущую по-собачьи фигурку грозит обрушиться выдающихся размеров волна. Мама, как была в одежде, самоотверженно бросилась в воду, чтобы меня спасти, и тогда волна, бережно приподняв меня, со всей силы обрушилась на нее, промочив с головы до пят. Пассажиров пустили обратно на корабль только вечером, поэтому мама провела остаток дня в мокрой и пропитанной солью одежде. К сожалению, ее неблагодарный сын забыл этот пример материнского самопожертвования, и я рассказываю о нем с ее слов.
Помидоры, должно быть, загрузили плохо, потому что груз вскоре заметно сместился, и корабль так угрожающе накренился на правый борт, что иллюминатор нашей каюты оказался полностью под водой, в связи с чем моя маленькая сестра Сара решила, что “теперь мы правда затонули, мама”. В печально известном Бискайском заливе, где “Умтали” попал в мощный шторм, крен стал еще хуже – так что даже стоять было трудно. Я же в восторге побежал в нашу каюту и стянул со своей койки простыню, которую хотел использовать в качестве паруса, чтобы ветер гнал меня по палубе, как яхту. Мама пришла в ярость: она сказала, что меня может сдуть за борт (возможно, она была права). Любимое детское одеялко Сары действительно сдуло за борт, и это была бы настоящая трагедия, не догадайся мама заранее разрезать его надвое, чтобы приберечь про запас половину, которая сохранит правильный запах. Пахучие детские одеяла интересуют меня как явление, хотя у самого такого никогда не было. Обычно дети держат одеялко так, что ощущают его запах, когда сосут палец. Подозреваю, что это как-то связано с результатами экспериментов Гарри Харлоу с тряпичной “искусственной матерью” для детенышей макак-резусов.
В конце концов мы добрались до Лондонского порта и поехали в Эссекс, где остановились в очаровательном старом фермерском доме в стиле Тюдоров под названием Кукуз (Кукушки), расположенном напротив Хоппета. Мои дедушка и бабушка купили этот дом, чтобы предотвратить застройку земли. Вместе с нами в нем жили мамина сестра Диана, ее дочь Пенни и ее второй муж – брат моего отца Билл, приехавший в отпуск из Сьерра-Леоне. Пенни родилась после того, как ее отец, Боб Кедди, погиб на войне, унесшей также жизни обоих его доблестных братьев. Это была ужасная трагедия для пожилых мистера и миссис Кедди, которые после этого сосредоточили все свое внимание на маленькой Пенни, что вполне понятно, ведь она оказалась их единственным оставшимся потомком. Они также были очень добры к нам с Сарой – двоюродным брату и сестре их внучки, – обращались с нами как с почетными внуками, регулярно дарили нам дорогущие рождественские подарки и каждый год возили нас в Лондон на какую-нибудь пьесу или пантомиму. Они были богаты (семья владела “Универсальным магазином Кедди” в Саутенде) и жили в большом доме, во дворе которого располагались бассейн и теннисный корт, а в самом доме был чудесный детский рояль фирмы “Бродвуд” и телевизор, которые к тому времени только-только появились. Мы, дети, еще никогда не видели телевизора и как зачарованные следили за размытым черно-белым изображением ослика Мафина на крошечном экране, находящемся посередине большого корпуса из полированного дерева.
О тех нескольких месяцах, когда все мы жили одной семьей в Кукушках, у нас с сестрой остались волшебные воспоминания. Подобные возможны только в детстве. Наш любимый дядя Билл смешил нас, обзывая “штанами из патоки” (мне теперь известно из Гугла, что это австралийское жаргонное выражение, соответствующее английскому “штаны на полмачты”[46]), и пел две свои песенки, которые мы часто просили исполнить. Вот первая:
- Зачем корове столько ног? Узнать бы, право слово.
- Не знаю я, не знаешь ты, не знает и корова.
А вот вторая, на мотив матросского танца хорнпайп:
- Старичок, не зевай, чайник нам доставай,
- Не достанешь, ну что ж, хоть кастрюльку давай.
Томас, единоутробный брат Пенни, родился в Кукушках как раз во время нашего там пребывания. Томас Докинз приходится мне дважды двоюродным братом – редкая степень родства. У нас общие все дедушки и бабушки, а значит, и все предки, кроме родителей. Процент общих генов у нас такой же, как у родных братьев, хотя мы и не похожи друг на друга. Новорожденному Томасу наняли няню, но она продержалась у нас недолго – пока не увидела, как дорогой дядя Билл готовит завтрак на обе семьи. Он расставлял тарелки вокруг себя на каменном полу и кидал в них по очереди яичницу и бекон, как будто сдавал карты. В то время люди еще не помешались на гигиене и технике безопасности, но все же это было слишком для брезгливой няни, которая тут же покинула наш дом и больше не возвращалась.
Мы с Сарой и Пенни учились в то время в школе Св. Анны в Челмсфорде, той самой школе, где в том же возрасте учились Джин и Диана, причем директором школы была все та же мисс Мартин. Я мало что помню об этой школе: только запах сладкой начинки для пирожков в школьной столовой, мальчика по имени Джайлс, утверждавшего, что его отец однажды лег на железнодорожное полотно между рельсами и над ним проехал поезд, а также имя учителя музыки – мистер Харп[47]. Мы пели на его уроках песню “Красотка с Ричмонд-Хилл”[48]: “Я б корону отверг, чтобы стала моей…”, но я понимал это не как “Я отверг бы корону, чтобы стала моей…”, а считал, что “коронуотверг” – это один глагол, который, исходя из контекста, означает “очень хотел”. Подобную ошибку я делал и в интерпретации церковного гимна “Наутро новая любовь / Дарует пробужденье вновь”. Я не знал, что такое “пробуждениновь”, но полагал, что эту вещь, очевидно, неплохо получить в подарок. У школы Св. Анны был вполне достойный девиз: “Я могу, мне следует, я должен, я сделаю” (может быть, не в таком порядке, но звучал он примерно так). Взрослым, жившим в Кукушках, это напоминало песню верблюдов из “Парадного марша войсковых зверей” Киплинга, которую они так здорово читали, что я никогда ее не забуду:
- Не пойду! Никуда! Ни за что! Никогда!
- Мы идем по тропе войны![49]
В школе Св. Анны меня травили несколько более старших девочек – в действительности не так уж жестоко, но достаточно жестоко, чтобы я воображал, что если буду достаточно усердно молиться, то смогу призвать на их головы заслуженную кару сверхъестественных сил. Я представлял, как мне на помощь, прочертив небо над спортивной площадкой, придет черно-фиолетовая туча, похожая на нахмуренный профиль человеческого лица. Для этого нужно было только по-настоящему поверить, что это произойдет; и это не происходило, видимо, лишь потому, что я молился недостаточно усердно – как когда-то в школе Орла, где я молил превратить мисс Копплстоун в мою мать. Такова наивность детских представлений о молитвах. Разумеется, некоторые взрослые их так и не перерастают и молятся Богу о том, чтобы он придержал для них парковочное место или даровал им победу в теннисном матче.
Предполагалось, что, проучившись один семестр в школе Св. Анны, я вернусь в школу Орла, но, пока мы были в Англии, планы нашей семьи кардинально изменились, и я уже больше никогда не видел ни школы Орла, ни Копперс, ни Танка. Тремя годами раньше мой отец получил из Англии телеграмму, что он унаследовал от одного очень дальнего родственника семейные владения Докинзов в Оксфордшире, в том числе усадьбу Овер-Нортон-Хаус, поместье Овер-Нортон-Парк и несколько коттеджей в деревне Овер-Нортон. В 1726 году, когда оксфордширские владения купил член парламента Джеймс Докинз (1696–1766) и они впервые стали собственностью семьи Докинз, их площадь была намного больше. Он оставил их в наследство своему племяннику, моему прапрапрапрадеду, тоже члену парламента Генри Докинзу (1728–1814), отцу того Генри Докинза, который похитил невесту при помощи четырех двухколесных экипажей, помчавшихся в разных направлениях. Впоследствии этой недвижимостью владели многие поколения Докинзов, в том числе печально известный полковник Уильям Грегори Докинз (1825–1914), вспыльчивый ветеран Крымской войны, который, как утверждают, угрожал арендаторам изгнанием, если они не будут голосовать за ту же партию, что и он, причем, как ни странно, это была Либеральная партия. Полковник Уильям был человеком крайне обидчивым и к тому же сутяжником и истратил бльшую часть своего наследства на иски против старших офицеров, которых он обвинял в оскорблениях. Все это тянулось долго и бессмысленно и не принесло выгоды никому, кроме (как обычно) юристов. Судя по всему, полковник был буйным параноиком. Он публично оскорбил королеву Викторию, набросился на своего командира лорда Рукби на лондонской улице и подал в суд на Верховного главнокомандующего, герцога Кембриджского. Еще прискорбнее было то, что он снес прекрасную усадьбу в георгианском стиле Овер-Нортон-Хаус, решив, что она населена привидениями, а в 1874 году построил на ее месте новое, викторианское здание. Из-за нескончаемых судебных исков он по уши погряз в долгах, вынужден был заложить все свои владения и умер в нищете в одном брайтонском пансионе, где жил на выдаваемые ему кредиторами два фунта в неделю. В конце концов – уже в XX веке – заклад был выплачен его горемычными наследниками, но для этого им пришлось продать бльшую часть земли, от которой в конечном итоге остался лишь небольшой клочок; его-то и унаследовал мой отец.
В 1945 году владельцем этих остатков был внучатый племянник полковника Уильяма майор Херевард Докинз, живший в Лондоне и редко бывавший в тех местах. Херевард, как и Уильям, был холостяком и не имел близких родственников по фамилии Докинз. Судя по всему, когда он готовил завещание, он изучил свое генеалогическое древо и нашел там моего дедушку, на тот момент старшего из живых Докинзов. По-видимому, его адвокат посоветовал ему пропустить старшее поколение, и в итоге выбор пал на моего отца, который приходился майору четвероюродным братом и был намного моложе. Так папа стал наследником Хереварда Докинза, и, как выяснилось, это был блестящий выбор, хотя в то время майор Херевард и предполагать не мог, что мой отец – именно тот человек, который сумеет не только сохранить оставшееся наследство, но и сделать его прибыльным: они никогда не встречались, и, пока отец не получил в Африке нежданную телеграмму, он, по-моему, даже не знал о существовании Хереварда Докинза.
В 1899 году некая миссис Дейли получила в качестве свадебного подарка договор о длительной аренде усадьбы Овер-Нортон-Хаус. Арендная плата, разумеется, исчезала в бездонной яме долгов полковника Уильяма. Миссис Дейли жила в усадьбе на широкую ногу со своей семьей, бывшей одним из столпов местного дворянства и неизменно участвовавшей в Хейтропской охоте на лис. Мои родители не ожидали, что наследство Хереварда изменит их жизнь, – отец собирался делать карьеру в департаменте сельского хозяйства Ньясаленда вплоть до выхода на пенсию (хотя на самом деле он смог бы работать там лишь до той поры, пока Ньясаленд не стал независимым государством Малави).
Однако в 1949 году, прибыв в Англию на “Умтали”, родители получили неожиданное известие о смерти старой миссис Дейли. Их первой мыслью было начать поиски другого арендатора. Но потом они задумались о возможности уехать из Африки и заняться фермерским хозяйством, и эта перспектива постепенно стала казаться им все более заманчивой. Одной из причин была подверженность Джин опасной форме малярии, но помимо этого родителей, вероятно, привлекала и возможность отдать нас с Сарой в английские школы. Наши дедушки и бабушки советовали им остаться в Африке, да и адвокат моих родителей был того же мнения. Родители Джона считали его долгом продолжать служить Британской империи в Ньясаленде, а мать Джин была полна мрачных предчувствий, что с фермерским хозяйством у нашей семьи ничего не выйдет, как это обычно и бывает. И все же Джон и Джин решили не следовать ничьим советам, не возвращаться в Африку, а поселиться в Овер-Нортоне и превратить имение в действующую ферму – впервые за два с лишним столетия, в течение которых оно использовалось лишь как парк для праздного дворянства. Джон подал в отставку из колониальной службы, тем самым лишившись пенсии, и, чтобы освоить навыки, которые должны были понадобиться ему в его новом деле, прошел обучение у нескольких английских фермеров. Папа с мамой решили не жить в усадьбе, а разделить ее на съемные квартиры в надежде на то, что ее содержание начнет окупаться (адвокаты световали им снести здание, чтобы сократить убытки). Сами они задумали поселиться в коттедже, расположенном в начале подъездной аллеи, ведущей к усадьбе, но перед этим его нужно было основательно отремонтировать. И пока шел ремонт, мы все же некоторое время жили (пожалуй, лучше было бы сказать “квартировались”) в одном из закутков Овер-Нортон-Хауса.
Я по-прежнему был захвачен доктором Дулиттлом и в непродолжительный период нашего обитания в Овер-Нортон-Хаусе фантазировал в основном о том, чтобы научиться, как он, разговаривать с животными. Но я рассчитывал делать это даже лучше, чем доктор Дулиттл: посредством телепатии. В своих мыслях, молитвах и желаниях я призывал всех окрестных животных собираться в Овер-Нортон-Парке вокруг меня лично, чтобы я мог о них заботиться. Свои желания я выражал так часто именно в виде молитв, вероятно, под влиянием проповедников, от которых слышал, что, если достаточно сильно чего-либо захотеть, это случится и для этого не требуется ничего, кроме силы воли или силы молитвы. Я не сомневался, что, если верить достаточно сильно, можно двигать горы. Должно быть, я услышал это от какого-то проповедника, который, как это слишком часто с ними бывает, забыл объяснить легковерному ребенку разницу между метафорой и реальностью. Я порой задумываюсь о том, понимают ли они сами эту разницу. Многие из них, похоже, думают, что это не так уж важно.
Мои детские игры того периода были пронизаны научно-фантастическими образами. Мы с моей подружкой Джилл Джексон играли в Овер-Нортон-Хаусе в космические корабли. Каждая кровать была таким кораблем, и мы часами с наслаждением фантазировали на эту тему. Интересно, как двое детей могут вместе выдумывать связные сюжеты, даже не обсуждая их заранее? Один ребенок ни с того ни с сего говорит: “Берегитесь, капитан! С левого фланга приближаются трунские ракеты!” – и другой тут же пытается от них уклониться, а затем, со своей стороны, объявляет о дальнейшем развитии событий.
К тому времени мои родители официально выписали меня из школы Орла и занялись поисками подходящей школы в Англии. Они, вероятно, хотели отдать меня в расположенную поблизости, в Оксфорде, школу Дракона, чтобы я мог продолжить обучение в заведении, проникнутом духом любви к приключениям. Но места в школе Дракона пользовались таким спросом, что ребенка нужно было записывать в нее с рождения. Поэтому меня отправили в школу Чейфин-Гроув в Солсбери (английском Солсбери, в честь которого был назван Солсбери в Родезии), где когда-то учились мой отец и оба его брата. Это тоже была по-своему неплохая школа.
Я должен объяснить читателям, не посвященным в тонкости британской терминологии, что Чейфин-Гроув и школа Орла были так называемыми подготовительными школами. К чему же они нас “подготавливали”? Ответ вносит еще больше путаницы: к публичным школам, называемым так потому, что на самом деле они как раз не публичные, а частные и учиться там могут только те дети, чьи родители в состоянии оплатить их обучение. Неподалеку от моего дома в Оксфорде расположена Вичвудская школа, у ворот которой в течение нескольких лет висела восхитительная табличка:
Вичвудская школа для девочек (подготовительная для мальчиков).
Итак, школа Чейфин-Гроув была подготовительной школой, в которой я учился с 8 до 13 лет, готовясь там к обучению с 13 до 18 лет в публичной школе. Кстати, я думаю, что моим родителям даже не приходило в голову отдать меня в какую-либо другую школу, не похожую на те школы-интернаты, где обычно учились Докинзы. Они, вероятно, считали, что хоть это и дорого, но стоит того.
Под шпилем собора в Солсбери
Начало учебы в новой школе всегда сопряжено с трудностями. В свой самый первый день в Чейфин-Гроув я убедился, что мне предстоит выучить некоторые новые слова. Меня озадачило слово puce (“красно-коричневый”). Я видел его написанным на стене и ошибочно полагал, что оно должно произноситься как pucky. В конце концов я догадался, что это ругательство, синонимичное слову wet (“мокрый”), тоже популярному в Чейфин-Гроув, в значении “ничтожный”. Антонимом к этим ругательствам было слово muscle (“мускульный”): “Я родился в мускульной Индии, а не в ничтожной красно-коричневой Африке” (в ту пору многие дети, учившиеся в таких школах, были уроженцами той или иной британской колонии, окрашенной на картах розовым цветом). Слово wig (“парик”) на диалекте Чейфин-Гроув означало “пенис”. “Ты круглоголовый или кавалер?[50] Ну, твой парик, он как гриб или как шнурок?” Такие анатомические подробности, как обрезанный или необрезанный пенис, все равно не были секретом, потому что каждое утро мы выстраивались голыми, чтобы принять холодную ванну. Как только раздавался сигнал подъема, мы должны были тут же вскакивать с постелей, снимать пижамы, брать полотенца и плестись в ванную, где одна из трех ванн была заполнена холодной водой. Мы ныряли в нее и как можно быстрее выпрыгивали из воды под надзором директора школы, мистера Гэллоуэя. Время от времени тот же сигнал поднимал нас среди ночи на учебную пожарную тревогу. Во время одной такой тревоги я был настолько сонным, что машинально проделал утреннюю процедуру – снял пижаму, взял полотенце и спустился вниз по пожарной лестнице совершенно голым. Лишь спустившись, я понял свою ошибку – все остальные были в пижамах, халатах и тапочках. К счастью, дело было летом. Мы, разумеется, принимали не только холодные ванны. По вечерам (не помню, сколько раз в неделю) ванны для нас наполнялись теплой водой, и в них мы стояли, пока нас мыла заведующая хозяйством или ее заместительница, что нам особенно нравилось, потому что она была симпатичная.
Это было время строгой экономии: война закончилась не так давно, и многие товары по-прежнему нормировались. Еда, как я теперь понимаю, была просто ужасной. Сладости тоже нормировались государством, и это имело парадоксальный эффект (вероятно, плохо сказывавшийся на наших зубах): мы ели даже больше конфет, чем если бы их количество не ограничивалось, потому что после чая каждому из нас исправно выдавали положенную порцию сладостей. Свою порцию я по большей части раздавал. Теперь мне интересно, почему в военное время вообще выдавали сладости? Неужели тому небольшому количеству сахара, которое удавалось провезти, несмотря на атаки немецких подводных лодок, нельзя было найти лучшее применение?
У меня часто мерзли ноги, и я то и дело обмораживал пальцы ног, отчего ужасно страдал. Как известно, знакомые запахи вызывают связанные с ними воспоминания, и эвкалиптовый запах мази от обморожений, которую мне дала с собой мама, неизменно ассоциируется у меня с Чейфин-Гроув и мучительным зудом обмороженных пальцев. Мы часто зябли по ночам и пытались согреться, укрываясь халатами поверх одеял. Под кроватью у каждого из нас стоял ночной горшок, чтобы нам не нужно было ходить по ночам по коридору. Жаль, что я не знал в то время слово, которым этот предмет называли в Северной Англии: gazunder (потому что он “ставится вниз” – goes under).
К тому времени в Чейфин-Гроув остался только один учитель, работавший здесь еще в годы учебы моего отца. Это был мистер Летчворт, добрый старик, похожий на мистера Чипса[51], сражавшийся в Первой мировой и когда-то занимавший пост одного из двух директоров школы. Мы называли его Слаш (Жижа), но только за глаза, потому что в Чейфин-Гроув, в отличие от школ Дракона и Орла, не было принято называть учителей по прозвищам. Исключение делалось только для ежегодного скаутского сбора: во время его проведения мистеру Летчворту нравилось, когда его называли Чиппи – прозвищем более старым, полученным, наверное, еще в те времена, когда он был лично знаком с основателем скаутского движения Баден-Пауэллом. Прозвище Слаш ему не нравилось. Как-то на уроке латыни мы читали отрывок из Тита Ливия, и нам нужно было заучить новые слова, среди которых было слово tabes. Мистер Летчворт специально решил нас испытать, и, когда настала очередь одного из учеников перевести это слово (означавшее в том контексте как раз жижу), мы все захихикали. Учитель с грустью сообщил нам, что его прозвище происходит именно из этого отрывка (“Столько лет назад… это самое предложение… столько лет назад…”), хотя так и не объяснил нам, как оно к нему приклеилось.
Директор Малькольм Гэллоуэй был человеком грозным (быть может, директора школ становятся грозными в силу занимаемой должности?). Мы называли его Гэллоуз (Виселица). В соответствии со своим прозвищем он без колебаний прибегал к высшей мере наказания, которой в Чейфин-Гроув были палки. В отличие от наказания, принятого в школе Орла, где учеников били “по окороку” ребром линейки, наказание палкой от Гэллоуза было действительно болезненным. Говорили, что у него две палки, Тощий Джим и Большой Бен, и провинившийся получал от трех до шести ударов в зависимости от серьезности проступка. К счастью, меня ни разу не били Большим Беном, но полученные мною три удара Тощим Джимом были весьма ощутимыми, и после них остались синяки. Мы относились к таким синякам как к шрамам, полученным на войне, и с гордостью демонстрировали их друг другу в спальнях. Они не исчезали по нескольку недель, становясь из фиолетовых вначале синими, а потом желтыми. Мальчишки шутили, что можно себя обезопасить, засунув в штаны тетрадь, которая смягчит удары, но Гэллоуз бы ее несомненно заметил, и я уверен, что никто и не пытался применить этот трюк.
Теперь телесные наказания в Англии запрещены законом, а учителей, которые их когда-то применяли, подозревают в садизме или жестокости. Я убежден, что Гэллоуз не был ни садистом, ни жестоким человеком. Мы наблюдаем здесь пример того, как быстро могут меняться обычаи и ценности. Это одна из сторон явления, которое в книге “Бог как иллюзия” я назвал “перемены морального духа времени”. Стивен Пинкер в книге “Лучшие ангелы нашей природы”[52]массой фактов подтверждает существование этого явления (которое он называет иначе) на протяжении многих веков человеческой истории.
Гэллоуз был способен и на неподдельную доброту. Перед отбоем он обходил спальни и старался нас развеселить. В это время (и только в это; в течение учебного дня – никогда) он называл нас по именам и вел себя с нами как родной дядюшка. Однажды в “моей” спальне он заметил на одной из полок сборник рассказов П. Г. Вудхауза о Дживсе и Вустере и спросил, знает ли кто-нибудь из нас этого автора. Никто не знал. Тогда Гэллоуз присел на одну из кроватей и начал читать нам рассказ из этой книги. Это был “Большой гандикап проповедников”. Кажется, Гэллоуз читал его в течение нескольких вечеров, и мы были в полном восторге. Этот рассказ стал одним из моих любимых в цикле о Дживсе и Вустере, а Вудхауз – одним из любимых авторов, которого я читаю, перечитываю и даже иногда пародирую.
По вечерам в воскресенье миссис Гэллоуэй читала нам вслух в их с Гэллоузом личной гостиной. Мы оставляли обувь снаружи и рассаживались на полу по-турецки, ощущая легкий запах потных носков. Миссис Гэллоуэй прочитывала нам по главе в неделю, и чтение одной книги занимало целый семестр. Обычно это были волнующие приключенческие повести, такие как “Мунфлит” Джона Мида Фолкнера, “Скала Мэддона” Хэммонда Иннеса и “Жестокое море” Николаса Монсаррата (“издание для курсантов”, без эротических сцен). В одно из воскресений миссис Гэллоуэй была в отъезде, и Гэллоуз читал нам вместо нее. Мы дошли до того места в “Копях царя Соломона”, где доблестные герои в пробковых шлемах выходят к горам-близнецам, которые называются Грудью царицы Савской (интересно, что это название не фигурирует в фильме со Стюартом Грейнджером – вольной экранизации, в которой, как это ни странно, в экспедиции участвует женщина). Гэллоуз прервал чтение и объяснил, что имеются в виду холмы Нгонг в Кении. (“Знаете, ребята, это полная чушь. Гэллоуз просто хвастается, что был в Кении. Но «Копи царя Соломона» вовсе не про Кению. Бежим наверх, в спальню!”)
Однажды ночью разразилась сильная гроза, и Гэллоуз пришел в спальню самых младших учеников, включил свет и постарался успокоить малышей (таких маленьких, что им даже разрешали спать с плюшевыми мишками), которым могло быть страшно. В середине каждого семестра в Чейфин-Гроув устраивали “выходное воскресенье”, когда к ученикам приезжали родители и забирали их из школы на один день. Всегда получалось так, что к одному или двум мальчикам никто не приезжал, вероятно потому, что их родители были за границей или болели. Однажды и я оказался в числе таких учеников. Мистер и миссис Гэллоуэй повезли нас вместе со своими собственными детьми на пикник на большой открытой машине тридцатых годов, называвшейся “Серая Гусыня”, и на маленьком автомобиле “Моррис-8”, называвшемся “Джеймс”. Это был замечательный пикник на берегу пруда, и у меня чуть ли не слезы наворачиваются на глаза, когда я вспоминаю, как добры были к нам мистер и миссис Гэллоуэй, особенно если принять во внимание, что они вполне могли бы провести тот день лишь со своими собственными детьми.
Но как учитель Гэллоуз был страшен. Он орал на нас в полную силу своего мощного голоса, и его зычные гневные восклицания были отчетливо слышны по всей школе. Ученики и другие учителя, заслышав эти крики, заговорщицки улыбались друг другу. “Что нужно делать, когда после ut идет сослагательное наклонение?.. НЕ СПЕШИ И ПОДУМАЙ!” (Хотя, если задуматься, подлинные принципы работы языка имеют мало общего с подобными правилами.) Мистер Миллс, который тоже преподавал латынь, был еще страшнее: его так боялись, что у него даже не было прозвища. Он имел грозный вид и требовал полной аккуратности и безупречного почерка. Стоило допустить хоть одну ошибку, и он заставлял заново переписывать весь отрывок. Его однофамилица, полноватая, приятная и по-матерински заботливая мисс Миллс, носившая косички, сплетенные вокруг затылка наподобие нимба, преподавала у малышей и называла каждого из нас “милый”. У мистера Даусона, жизнерадостного учителя математики, носившего очки и говорившего с легким северным акцентом, было прозвище Эрни Дау. Никто из нас не знал, откуда взялось Эрни, пока однажды он не прочитал нам стихотворение и не назвал в конце имя автора, которым, разумеется, оказался Эрнест Даусон. Не помню, что это было за стихотворение, возможно, Vitae summa brevis…[53]
Мы, конечно, все равно его не оценили. Эрни Дау был хорошим учителем, и именно он научил меня большей части того, что мне суждено было узнать о математическом анализе. У мистера Шоу прозвища не было, но его дочь-подростка называли Красотка Шоу – просто потому, что стоило кому-то сказать: “Я почти уверен…”, как тут же звучала ребяческая шутка, напрашивающаяся по созвучию с ее фамилией.[54]
. У нас преподавали и молодые учителя, которые постоянно сменялись. Среди них, вероятно, были те, кто готовился поступать в университет, и те, кто недавно его окончил. Практически все они нам нравились, вероятно, по той причине, что были молоды. Одним из них был мистер Хауард – Энтони Хауард, который впоследствии стал известным журналистом и главным редактором журнала “Нью стейтсмен”.
В первом семестре второго класса (в самом начале моего обучения в Чейфин-Гроув) моей учительницей была мисс Лонг – худая, угловатая дама средних лет с прямыми волосами и в очках без оправы, очень добрая, как и большинство учителей в этой школе. Она была не только учительницей начальных классов, но преподавала и другие предметы – преимущественно игру на фортепиано. Именно она дала мне первые уроки музыки, о чем я хвастался родителям, сильно преувеличивая свои успехи. Зачем было хвастаться, ведь рано или поздно правда все равно всплыла бы? Я и сам не знаю.
Вскоре стало ясно, что если мои родители сомневались в качестве образования, которое я получал в школе Орла в Южной Родезии, то делали они это напрасно. В школе Орла мои успехи были средними на фоне сверстников, а в Чейфин-Гроув я сразу оказался одним из первых учеников и сам был этому не рад, потому что слишком способных недолюбливали. Я даже делал вид, что знаю меньше, чем знал на самом деле. Например, когда у меня спрашивали значение того или иного латинского или французского слова, я притворялся, что точно не помню, и невнятно мычал вместо того, чтобы сразу ответить правильно, рискуя уронить себя в глазах одноклассников. Эта склонность дошла у меня практически до абсурда в третьем классе, когда я по глупости решил, что раз мускулистые парни, успешные в спорте, обычно не отличались успехами в учебе, значит, я смогу стать спортивным, только если буду плохо учиться. Как мне теперь думается, я, очевидно, и не заслуживал серьезных успехов в учебе, раз был так глуп, что рассуждал подобным образом.
Судя по всему, у меня были самые превратные представления о том, с чем связаны спортивные успехи. В Чейфин-Гроув учились три брата, Сэмпсон-ма, Сэмпсон-ми и Сэмпсон-мин (от латинских major, minor и minimus), все трое очень спортивные, особенно Сэмпсон-мин, который блестяще играл во все игры и однажды “пронес свою биту” от начала матча и до тех пор, пока у него не закончились партнеры, после чего волшебным образом поймал мяч в положении “силли-мид он”[55]
. Мне пришла в голову нелепая мысль, что сходство фамилии Сэмпсон с именем знаменитого библейского громилы не может быть случайным. Я по наивности предположил, что Сэмпсоны наверняка унаследовали свою спортивность если не от самого Самсона, то от какого-нибудь средневекового силача, который заслужил это прозвище точно так же, как предки тех, кто носит фамилии Смит (Кузнец) или Миллер (Мельник) – или, если уж на то пошло, Армстронг (Сильная Рука). Многие фамилии действительно происходят от прозвищ, но кое в чем я заблуждался – в частности, полагая, что наследуемые черты могут сохраняться дольше, чем на протяжении пары поколений. Эта же ошибка содержится в “Тэсс из рода д’Эрбервиллей”, как я уже упоминал в первой главе.
Отец Сэмпсонов, у которого был только один глаз (другой, как нас уверяли, выклевала цапля, хотя поверить в это трудно), владел в Хэмпшире фермой, где во время ежегодного сбора располагался лагерь скаутского отряда школы Чейфин-Гроув. За эти сборы отвечал Слаш; ему помогали Гэллоуз и приглашаемый специально для данного мероприятия внушительных размеров господин, которого называли Дамбо (Тупица). Скаутский сбор был для меня главным событием года. Мы ставили палатки, копали ямы для туалетов и обустраивали очаг для костра, на котором готовили бесподобные пресные лепешки, печеные в золе, и “завитки” (кусочки теста, опаленные в огне). Нас научили связывать палки изящными петлями сизалевой веревки, и мы сами делали всевозможную полевую мебель, от “деревьев” для кружек до сушилок для одежды. Собравшись у костра, мы пели песни – особые скаутские песни, к примеру “Как теннисный мячик его голова…”. Этим песням нас учил Слаш, он же Чиппи. Выучить их было несложно, потому что в основном они были очень короткими, скажем, как эта:
- С веселой песней ослик на наш лужок пришел.
- Кто знает, в чем тут дело? Да в том, что он осел!
- Иа! Иа! Иа-иа-иа!
У некоторых из этих песен вообще не было мелодии, и они были скорее кличами, выражавшими наше единство, чем песнями:
- Ни мухи не сядет на нас!
- Ни мухи не сядет на нас!
- Они могут сесть
- На кого-то из вас!
- Но ни мухи не сядет на нас!
Гвоздем программы была эпическая сага о тухлом яйце, которую пел Чиппи. Я привел ее в онлайновом приложении к этой книге в сентиментальной надежде на то, что кто-то из моих читателей захочет исполнять у костра эту теперь забытую песню, почтив тем самым память Генри Марри Летчворта, магистра искусств Оксфордского университета, сражавшегося в полку Королевских дублинских стрелков, по прозвищу Слаш, по прозвищу Чиппи, доброго и задумчиво-печального, похожего на мистера Чипса патриарха школы Чейфин-Гроув. В 2005 году, к празднованию девяностолетия моего отца в доме главы Баллиол-колледжа, я добросовестно записал песню о яйце, и ее блестяще исполнила очаровательная сопрано Энн Маккей под аккомпанемент фортепиано, а мой отец живо подпевал ей – хотя и не очень в такт.
На скаутском сборе нас награждали значками за достижения в разных областях, например рубке дров, вязании узлов и владении флажковой азбукой и азбукой Морзе. Мне хорошо давалась азбука Морзе, которую я освоил по методу, усовершенствованному моим отцом во время войны в Сомалиленде, где он обеспечивал радиосвязь своего броневика. Для каждой буквы нужно было выучить фразу, которая начинается с этой буквы и в которой односложные слова соответствуют точкам, а более длинные – тире. Например, букву G можно запомнить с помощью фразы “Gordon Highlanders go” (“Гордонские горцы идут”): тире, тире, точка. Мне не удалось придумать аналогичных мнемонических правил для флажковой азбуки, и, быть может, поэтому в ней я не так преуспел. А может быть, так вышло оттого, что у меня слабо развито пространственное мышление: когда я прохожу тесты на коэффициент интеллекта (IQ), то хорошо справляюсь с заданиями, пока не добираюсь до идущих в конце вопросов на вращение фигур в пространстве, – они сильно ухудшают мой результат.
Другим важным ежегодным событием была постановка школьного спектакля. Это всегда была оперетта, и ставил ее всегда Слаш, по традиции, сложившейся по меньшей мере с того времени, когда в Чейфин-Гроув учился мой отец. Дядя Билл впоследствии рассказывал мне, что отец “пробовался на роль лампочки, но был сочтен непригодным”. Главные роли доставались ученикам, умевшим петь, и я был одним из них. Характерным примером такого спектакля может служить поставленная в последний год моего обучения в школе оперетта “Тарелка с ивовым узором”[56]
, в которой я играл главную женскую роль. На заднике был изображен знаменитый синий узор фарфоровых тарелок. Пагода была дворцом принцессы, которая правила страной и умерла, а три человечка на мосту были заговорщиками, уже долгое время скрывавшими ее смерть, чтобы избежать смены монархии республикой. Заговор оказался под угрозой, когда прекрасный принц Татарии прислал известие, что спешит к принцессе просить ее руки. Тут выходил я, одетый деревенской девушкой, и пел свою арию, в которой, указывая подчеркнуто театральными жестами на декорации, описывал синий[57]керамический мир, в котором мы все жили:
- Синеет высь над бедной головой,
- Синеет луг вокруг усталых ног,
- Деревьев синь склонилась над тропой,
- Бросая тень из темной синевы,
- Одет весь мир в одежды синевы,
- И море бурное такое же, увы.
Последняя строчка довольно остроумна (хотя мы, школьники, ее, конечно же, не оценили), и мне хотелось бы думать, что она рассмешила кого-то из взрослых зрителей, которыми почти исключительно были родители, склонные не замечать недостатков исполнения, а также корреспондент “Солсбери кроникл” (очень, кстати, меня хваливший – хотя и незаслуженно).
- Мячи футбольные на дереве растут,
- Принцессы пагода на солнышке блестит.
- (Куплетов несколько еще звучало тут,
- Но память бедная моя их не хранит.)
Три человечка на мосту воспользовались случаем и затолкали меня в пагоду, где я должен был изображать умершую принцессу, и как раз вовремя, потому что на сцену, размахивая саблей, выскочил принц Татарии с нарисованными черными усами. Не помню, как именно наступил хеппи-энд, но сохранилось воспоминание, что в конце концов принц перекинул меня через плечо на манер пожарного и увез к себе в Татарию.
В моей памяти задержались некоторые крайне неловкие моменты, буквально вызывающие у меня стон, когда я их вспоминаю. В Чейфин-Гроув было принято каждый день устраивать чаепитие с бутербродами. Время от времени случалось, что, когда мы выстраивались в очередь, чтобы проследовать в столовую, дежурный учитель зачитывал список имен, составленный мальчиком, у которого был день рождения. Перечисленные приглашенные выходили из очереди и садились за особый стол в дальнем конце столовой, на котором стояли праздничный торт, желе и другие вкусности, присланные любящей матерью. Я понимал, как это делается, и понимал, что нужно передать список имен своих друзей дежурному учителю. С этим все было ясно. Но от моего внимания ускользнула одна мелочь: следовало заранее договориться с мамой, чтобы она прислала торт и желе. В свой день рождения (наверное, мне исполнилось девять) я составил список друзей и дал его дежурному учителю, который зачитал имена вслух. Мои избранные друзья радостно вошли в столовую, обнаружили пустой стол и… Прошло столько лет, но мне до сих пор так неловко, что я не в силах описывать эту сцену дальше. У меня по-прежнему не укладывается в голове, как же я не задумался о том, откуда в таких случаях берется торт. Наверное, я смутно воображал, что его должен предоставить школьный повар. Но даже если так, почему я не подумал о том, откуда повару знать, что у меня день рождения? Возможно, я полагал, что торт должен материализоваться сверхъестественным образом, по волшебству, – подобно монеткам, которые появляются под подушкой, если положить туда выпавший зуб. Как и история с игрой в прятки на горе Зомбе, этот случай показывает, что в детские годы мне, к сожалению, абсолютно не было свойственно критическое или скептическое мышление. Хотя я и нахожу эти случаи неловкими, я считаю, что неспособность продумать, насколько правдоподобны те или иные вещи, встречается у людей столь часто, что может быть интересной темой для изучения. Я еще вернусь к этому вопросу.
В первые годы учебы в Чейфин-Гроув я был исключительно неряшливым и неаккуратным мальчиком. В первых письменных отзывах учителей обо мне настойчиво повторяется тема чернил.
Директор школы: Порой выполнял хорошую работу и вполне заслуживает поощрения. Но в настоящее время у него все в чернилах, и это может портить его работу.
Учитель математики: Работает очень хорошо, но я не всегда могу разобрать то, что он пишет. Ему нужно усвоить, что чернила существуют, чтобы ими писать, а не умываться.
Учитель латыни: Уверенно делает успехи, но, когда пишет чернилами, его письменные работы выходят очень неряшливыми.
Мисс Бенсон, пожилой учительнице французского, удалось пропустить лейтмотив чернил, но и в ее отзыве не обошлось без шпильки в конце.
Учительница французского: Большие способности, хорошее произношение и замечательное умение отлынивать от работы.
Что я могу сказать о чернилах? А чего можно ждать от детей, если на каждой парте стоит открытая чернильница и у каждого есть перьевая ручка, которая как будто создана для того, чтобы забрызгивать чернилами всю комнату или, по крайней мере, покрывать страницу за страницей большими блестящими каплями, которые потом можно размазывать по краям, рисуя пауков, или превращать в кляксы Роршаха, складывая бумагу вдвое? Не удивительно, что все умывальники были усыпаны пемзой (мы думали, что она называется не pumice, а pummy), которую использовали, чтобы счищать с пальцев чернильные пятна. Должен признаться, что я портил вездесущими чернилами не только свои тетрадки, но и учебники. Я говорю даже не о том, что превращал название учебника Бенджамина Холла Кеннеди “Краткий курс латыни для начинающих” (Shorter Latin Primer) в “Поедание песочного печенья для начинающих” (Shortbread Eating Primer). Это разумелось само собой, все так делали. В своем личном увлечении чернилами я заходил намного дальше. Все мои школьные учебники были сплошь покрыты моими каракулями. Я не только приписывал буквы, но и рисовал в правом верхнем углу страниц картинки, которые двигались, если быстро пролистывать книгу. Наши учебники нам не принадлежали: мы должны были сдавать их в конце каждого семестра, после чего их выдавали тем, кто учился на класс младше. И я знал, что, когда придет время расставаться с моими изукрашенными чернилами учебниками, у меня будут неприятности. Я так волновался по этому поводу, что не спал ночами и терял аппетит (надо признать, что кормили нас довольно скверно), и тем не менее продолжал это делать. Я понимаю, что тот портивший книги ребенок и библиофил, каким я ныне стал, – в некотором смысле один и тот же человек, но то мое детское поведение теперь остается за пределами моего понимания. То же самое я чувствую по поводу своего тогдашнего отношения к травле других учеников и подозреваю, что эти чувства разделяют едва ли не все мои сверстники.
Многое из того, что могло показаться травлей, было просто бахвальством – пустыми угрозами, пустоту которых подтверждали отсылки на неопределенное будущее. Угроза “Ну всё! Ты сам напросился. Вношу тебя в список тех, кого нужно поколотить” была примерно такой же туманной, как и угроза “Когда ты умрешь, то попадешь в ад” (хотя, увы, далеко не все считают последнее такой уж туманной угрозой). Но была и настоящая травля, особенно той жестокой разновидности, при которой вокруг предводителя объединяется команда прихвостней, старающихся снискать его одобрение, издеваясь над выбранной жертвой.
В Чейфин-Гроув тоже был мальчик, к которому относились, как к “Тетушке Пегги” из школы Орла, и травили его еще хуже. Он был не по годам развит интеллектуально, блестяще учился, но был нескладным и неуклюжим, у него был скрипучий голос, который рано начал ломаться; с ним мало кто дружил. Я не стану называть его имени из опасения, что он прочтет здесь о себе, а ему, возможно, по-прежнему тяжело вспоминать о том, как над ним издевались в то время. Он был плохо приспособлен к жизни – как гадкий утенок, которому несомненно предстояло стать лебедем и который должен был вызывать сочувствие. Он и вызывал бы его в любой нормальной человеческой среде, но только не в голдинговских джунглях спортивной площадки. Целая команда травивших этого мальчика учеников носила его имя – “Анти… команда”, ее единственной задачей было делать его жизнь адом, хотя вина его заключалась лишь в том, что был некрасив и неловок, не умел поймать мяч, а бегал медленно и вразвалочку и при этом был очень, очень способным.
Он был приходящим учеником, то есть каждый вечер мог укрыться у себя дома (в отличие от нынешних школьников, мучители которых преследуют их и за воротами школы – в Фейсбуке или Твиттере). Но в течение одного из семестров он по какой-то причине (возможно, его родители уехали за границу) вынужден был жить в Чейфин-Гроув. Тут-то и началось настоящее веселье. Его мучения усугублялись тем, что он не переносил холодных ванн. Не знаю, связано ли это было с боязнью холодной воды или с тем, что он стеснялся своей наготы, но то, что все мы проделывали не моргнув глазом, для него было невообразимым ужасом, и он весь трясся и рыдал, судорожно прижимая к себе полотенце, которое ни в какую не хотел отпускать. Холодная ванна была для него как оруэлловская комната 101[58]
. Наконец Гэллоуз сжалился над ним и разрешил ему не ходить на прием холодных ванн по утрам. Что, разумеется, оказало особое влияние на его популярность среди сверстников, и без того запредельно низкую.
Теперь я просто не представляю себе, как люди могут быть такими жестокими, но именно такими, в большей или меньшей степени, были мы все – хотя бы потому, что никто из нас не остановил этой травли. Почему у нас не нашлось ни капли сострадания? В романе Олдоса Хаксли “Слепец в Газе” есть сцена, где герои со стыдом и недоумением вспоминают, как издевались над подобным гадким утенком в спальне своей школы-интерната. Чувство вины, которое испытываю я и которое, по-видимому, испытывают и все мои друзья из Чейфин-Гроув, не забывшие эту историю, возможно, позволяет хоть немного приблизиться к пониманию того, как тюремщики в концлагерях могли делать то, что делали. Не была ли деятельность гестапо следствием патологического сохранения у взрослых людей черт нормальной детской психологии? Вероятно, это слишком простое объяснение, но ныне, будучи взрослым, я мучительно размышляю об этом. И ведь нельзя сказать, чтобы я был лишен сострадания. Доктор Дулиттл научил меня сострадать другим существам так сильно, что большинству людей это показалось бы чрезмерным. Когда мне было лет девять, мы с бабушкой удили рыбу с лодки в гавани Маллиона, и я, на беду, поймал скумбрию. Мне тут же стало ее жалко до слез, и я захотел отпустить рыбку. Мне не разрешили, и я расплакался. Бабушка была доброй и постаралась меня утешить, но все же не настолько доброй, чтобы разрешить мне отпустить бедную тварь.
Я также (возможно, тоже чрезмерно) сострадал школьным товарищам, которым грозило наказание. Я прилагал все мыслимые и немыслимые усилия (вплоть до безрассудства), пытаясь доказать их невиновность, и, пожалуй, расцениваю это как проявления сострадания. И все же я и пальцем не пошевелил, чтобы остановить отвратительные издевательства, о которых только что рассказал. Думаю, это было отчасти связано с желанием не уронить себя в глазах тех, кто пользовался успехом в нашей среде. У успешных мучителей всегда есть ватага верных приспешников. Эта характерная особенность ярко проявляется в жестокости словесной травли, настоящей эпидемией которой охвачены онлайновые форумы, где к тому же травле способствует безнаказанность, предоставляемая анонимностью. Но я не припомню, чтобы даже тайком жалел жертву издевательств в Чейфин-Гроув. Как такое возможно? Эти противоречия терзают меня и по сей день, наряду с сильным чувством стыда за свое тогдашнее поведение.
Аналогично ситуации с чернилами мне трудно разобраться в том, как “совместить” ребенка с тем взрослым, в которого он превратился. Подозреваю, что подобные трудности испытывает большинство людей. Противоречие, с которым мы здесь сталкиваемся, вероятно, связано с нашим убеждением, что ребенок – это тот же индивидуум, что и взрослый: “Кто есть Дитя? Отец Мужчины…”[59]
Это убеждение вполне естественно, потому что в нашей памяти дни за днями, а значит, и десятилетия за десятилетиями следуют друг за другом непрерывно, хотя и утверждается, что в нашем теле не остается ни одной из тех молекул, что составляли его десятки лет назад. Поскольку я никогда не вел дневника, я смог написать эту книгу только благодаря такой непрерывности. Но некоторые из самых глубоких наших философов (например, Дерек Парфит в книге “Причины и личности”[54], а также другие мыслители, которых он цитирует) показали путем остроумных мысленных экспериментов, что наше представление о себе как о том же человеке, кем мы были много лет назад, далеко не очевидно. Психологи, скажем Брюс Худ, подходили к этой проблеме с других сторон. Здесь не место подробным философским рассуждениям, поэтому я ограничусь лишь одним наблюдением: непрерывность памяти дает мне ощущение того, что на протяжении всей жизни я оставался одним и тем же человеком, хотя в то же время мне и трудно поверить, что я – тот самый человек, который в юности уродовал книги и не сострадал жертвам издевательств.
Мои собственные успехи в спортивных играх были тоже не на высоте, но у нас в школе был корт для игры в сквош, и я просто помешался на этой игре. Мне не доставляло особого удовольствия пытаться выиграть у противника, но нравилось самому отбивать отскакивающий от стенки мяч, да еще и как можно больше раз. На каникулах у меня начиналась настоящая ломка, я скучал по резиновому запаху мяча и отдающимся эхом звукам его ударов о стену и мечтал устроить корт для игры в сквош где-нибудь на нашей ферме, например в заброшенном свинарнике.
Возвращаясь после каникул в Чейфин-Гроув, я имел обыкновение следить с галерки за игрой в сквош, ожидая ее окончания, чтобы самому пробираться на корт и продолжать практиковаться. Однажды (мне было, вероятно, лет одиннадцать) вместе со мной на галерке оказался один из учителей, который усадил меня к себе на колено и засунул руку мне в трусы. Он только слегка ощупал меня, но это было неожиданно и крайне неприятно (кремастерный рефлекс вызывает не боль, а пугающее ощущение мурашек по коже, которое едва ли не хуже, чем боль). Вырвавшись из его рук, я тут же побежал рассказывать об этом своим друзьям, со многими из которых, как выяснилось, этот учитель проделывал то же самое. Не думаю, что он нанес кому-либо из нас серьезную травму, но пару лет спустя он покончил с собой. В день, когда это стало известно, во время утреннего богослужения в воздухе висело мрачное предчувствие, и по его окончании Гэллоуз объявил нам о случившемся. Одна из учительниц заплакала. Много лет спустя в столовой Нового колледжа в Оксфорде со мной за столом сидел один важный епископ. Я узнал его по имени: когда-то (будучи намного стройнее) он служил вторым священником в церкви Св. Марка, куда учеников Чейфин-Гроув каждое воскресенье водили, построив парами, к заутрене. Епископ был, очевидно, в курсе тогдашних слухов и рассказал мне, что та учительница была безнадежно влюблена в покончившего с собой учителя-педофила. Никто из нас об этом не догадывался.
По воскресеньям мы ходили, как уже было сказано, к заутрене в церковь Св. Марка, а по будним дням и по вечерам богослужение проводилось в нашей школьной церкви. Гэллоуз был крайне религиозен, причем всерьез, а не для вида: он действительно во все это верил, в отличие от многих педагогов (и даже священников), которые притворяются, потому что им так положено, и политиков, которые притворяются, потому что, по их впечатлениям (преувеличенным, как я подозреваю), это помогает завоевывать голоса избирателей. Бога Гэллоуз обычно называл king (“царь, король”), причем произносил это слово как keeng, что было странно, поскольку в остальном его произношение было общепринято-нормативным. По-моему, в детстве меня это несколько сбивало с толку. Я, должно быть, осознавал, что король Георг VI не был Богом, но в моей голове сложилось некое ощущение связи королевского и божественного, почти как при синестезии. Это ощущение сохранилось и после смерти Георга VI – во время коронации его дочери, когда Гэллоуз внушил нам глубокое почтение к бессмысленным обрядам вроде помазания на царство. Отголоски этого почтения просыпаются во мне и теперь, когда я вижу посвященную коронации сувенирную кружку 1953 года или слышу потрясающий гимн Генделя “Садок-священник” (или марш Уолтона “Держава и скипетр”, или “Торжественные и церемониальные марши” Элгара).
Каждый воскресный вечер мы слушали проповедь, которую читал либо Гэллоуз, либо Слаш, по очереди: Гэллоуз – в мантии магистра Кембриджского университета, с белым капюшоном, а Слаш – в мантии магистра Оксфордского университета, с красным капюшоном. В моей памяти засела одна необычная проповедь. Не помню, кто ее читал, но кто бы это ни был, он рассказал нам историю про группу солдат, проходивших строевую подготовку возле железной дороги. Что-то отвлекло внимание сержанта-инструктора, и он вовремя не скомандовал “кругом!”, так что солдаты, маршируя, вышли на рельсы – и попали прямо под колеса проходящего поезда. История, разумеется, выдуманная, и теперь я полагаю, что сам додумал ту мораль, которая мне запомнилась: что мы должны были восхищаться этими солдатами и их беспрекословным повиновением командиру. Вероятно, здесь память меня подводит. По крайней мере, я надеюсь, что это так. Элизабет Лофтус и ряд других психологов показали, что ложные воспоминания могут быть неотличимы от истинных. Это относится даже к случаям, когда недобросовестный психотерапевт специально убеждает в чем-то своих пациентов, например в том, что в детстве они были жертвами домогательств со стороны взрослых.
Однажды воскресную проповедь нам прочитал один из младших учителей, приятный молодой человек, которого звали Том Стедман. Судя по всему, он очень не хотел этого делать, но его уговорили. Это занятие явно вызывало у него отвращение. Я помню, что он часто повторял фразу “Зачем же рай?”. Меня бы это меньше удивило, если бы я догадался (тогда, а не много лет спустя), что это цитата из Браунинга[60]
. У другого любимого учениками молодого учителя, мистера Джексона, был красивый тенор. Как-то раз его упросили исполнить арию Генделя “Ибо вострубит…”, что он тоже сделал крайне неохотно, видимо, полагая (и вполне справедливо), что мы все равно не оценим его искусство.
Мы не ценили и тех лекторов и артистов, которые иногда выступали в нашей школе, хотя, наверное, хорошо уже и то, что я все-таки кое-кого запомнил. Среди них были капитан Кит-Джопп, прочитавший лекцию об археологии на тему “Никуда не исчезло”, леди Халл, сыгравшая на пианино в столовой “Венский карнавал” Шумана, кто-то, рассказавший нам об антарктических экспедициях Шеклтона, еще кто-то, показавший мерцающий черно-белый фильм о спортсменах двадцатых и тридцатых годов, в том числе о Сиднее Вудерсоне, и трио ирландских музыкантов, соорудивших для себя небольшую сцену и исполнивших песню про скрипку за девять пенсов[61]
. Одна лекция была о взрывчатых веществах. Лектор продемонстрировал нам предмет, который назвал динамитной шашкой, мимоходом заметив, что если ее уронить, то вся школа взлетит на воздух, после чего подбросил ее и поймал. Мы, конечно, поверили ему – наивные, легковерные дети. А как мы могли не поверить? Он был взрослым, а нам все время внушали, что нужно верить тому, что тебе говорят.
Мы верили не только взрослым. Мы проявляли легковерие и у себя в спальне, где нам каждый вечер врал с три короба наш главный любитель небылиц. Он уверял нас, что Георг VI – его дядя и что несчастный король живет в Букингемском дворце как пленник и передает оттуда прожектором отчаянные послания для нашего неутомимого рассказчика, своего племянника. Еще этот юный фантазер пугал нас историями об ужасном насекомом, которое спрыгивает со стены человеку на голову, прогрызает в виске аккуратную дырку размером со стеклянный шарик и помещает туда порцию яда, от которого человек умирает. Во время сильной грозы он рассказал нам, что, когда в человека попадает молния, тот не замечает этого в течение пятнадцати минут. Первым признаком неладного служит кровь, которая начинает сочиться из обоих ушей. Через некоторое время человек умирает. Мы в это поверили, и после каждой вспышки молнии мучительно ожидали, не потечет ли у нас кровь из ушей. Почему мы ему верили? Какие у нас были основания считать, что он знает больше, чем мы? Было ли хоть сколько-нибудь правдоподобно, что человек, в которого попала молния, может в течение пятнадцати минут ничего не чувствовать? Беда была, опять же, в том, что нам не было свойственно критическое мышление. Не следует ли с раннего возраста учить детей критически, скептически мыслить? Не следует ли учить всех нас сомневаться, оценивать правдоподобие, требовать доказательств?
Может быть, и следует, но нас этому не учили. Легковерие не только не порицалось, но даже поощрялось. Гэллоуз придавал огромное значение тому, чтобы еще до окончания школы мы все прошли конфирмацию по англиканскому обряду, и почти все ученики ее проходили. Единственными исключениями, насколько я помню, были один мальчик из католической семьи (ходивший каждое воскресенье в другую церковь, причем в завидной компании: симпатичная заместительница заведующей хозяйством тоже была католичкой) и еще один, не по годам развитой ученик, поражавший нас тем, что объявлял себя атеистом: он назвал Библию “святая чушь”, и мы каждый день ожидали, что его поразит громом (его иконоборчество, если не его умение логически мыслить, проявлялось и в свойственном ему стиле доказательства геометрических теорем: “Треугольник ABC выглядит равнобедренным, следовательно…”).
Я записался на подготовку к конфирмации вместе со всеми, и викарий церкви Св. Марка мистер Хайэм каждую неделю проводил для нас в школьной церкви соответствующие уроки. Это был красивый, благодушный седовласый священник, и мы слушали его развесив уши. Мы не понимали смысла того, что он нам рассказывал, но объясняли себе это тем, что еще слишком маленькие, чтобы понять. Теперь мне ясно, что мы и не могли ничего понять в его словах, просто потому, что никакого смысла в них и не было, это были сплошные бессмысленные выдумки. У меня сохранилась Библия, подаренная в день конфирмации, и мне то и дело случается к ней обращаться. На сей раз это была уже не детская версия, а настоящая “Библия короля Якова”, и я до сих пор помню наизусть некоторые из лучших ее фрагментов, особенно из Экклезиаста и Песни песней (написанных, разумеется, вовсе не Соломоном).
Моя мать недавно рассказала мне, что мистер Гэллоуэй звонил родителям каждого ученика, чтобы сказать, какое огромное значение он придает нашей конфирмации. Он говорил, что в 13 лет дети особенно восприимчивы, поэтому конфирмацию следует проходить не позже этого возраста, прививая ребенку твердые религиозные устои еще до публичной школы, где ему грозит столкнуться с антирелигиозным влиянием. Что ж, по крайней мере, он честно признавался в своих замыслах относительно наших неокрепших умов.
В период подготовки к конфирмации я стал очень религиозным. Я сердито упрекал свою маму за то, что она не ходит в церковь. Она воспринимала это очень спокойно, вместо того чтобы послать меня куда подальше, как следовало бы сделать. Каждый вечер я молился, но не стоя на коленях у кровати, а свернувшись в позе эмбриона под одеялом, где, как я сам себя убедил, у меня был “свой собственный уголок общения с Богом”. Я хотел (хотя так и не осмелился) пробраться глубокой ночью в школьную церковь и преклонить колени перед алтарем, где, как я верил, мне может явиться видение ангела (но, разумеется, только если я буду молиться достаточно усердно).
В мой последний семестр, когда мне было тринадцать, Гэллоуз назначил меня старостой. Не знаю, почему я был так этому рад, но весь семестр я пребывал в приподнятом настроении. Через много лет, когда заведующий моим отделением в Оксфорде был посвящен в рыцари, я участвовал в праздновании этого события. Я спросил одного коллегу, рад ли наш профессор оказанной ему чести, и услышал запомнившийся мне ответ: “Как пес с тремя хренами”[62]. Вот примерно так я и чувствовал себя, когда меня назначили старостой. А также когда был принят в Железнодорожный клуб.
Железнодорожный клуб оказался для меня главной причиной радоваться тому, что родители отдали меня именно в Чейфин-Гроув. Этот клуб возглавлял мистер Четвуд-Эйкен, который вообще-то не работал учителем – за исключением тех редких случаев, когда находился ученик, желающий изучать немецкий. Настоящей страстью этого меланхоличного человека с вытянутым лицом была его Железнодорожная комната, и казалось, что только ей он и занимается (хотя я погуглил сведения о нем и узнал, что он был известным корнуолльским художником). Четвуд-Эйкену была выделена одна из школьных комнат, в которой он сконструировал поистине волшебный электрический макет Большой западной железной дороги с шириной колеи 35 мм, включавший две конечные станции, Пэддингтон и Пензанс, и одну промежуточную – Эксетер. У каждого паровозика было имя, например Сьюзан или Джордж, а оба прелестных маневровых локомотивчика назывались Боанергес (Бо Первый и Бо Второй). На всех станциях были приборные доски, а на них – переключатели, управляющие своим участком путей: красные – в направлении к Лондону, а синие – от Лондона. Когда поезд прибывал в Пэддингтон, нужно было отцепить его от большого паровоза, подвести к нему один из маленьких маневровых локомотивов, стоявших на запасных путях, перегнать поезд с пути к Лондону на путь от Лондона, перевести паровоз на поворотную платформу и развернуть, а затем прицепить его к поезду с нового переднего конца и отправить поезд обратно в Пензанс, где весь процесс повторялся. Я обожал запах озона, производимый электрическими разрядами, и был в полном восторге от возможности управлять переключателями в правильном порядке, осуществляя всю описанную последовательность операций. Думаю, что то удовольствие, которое я от этого получал, было сродни удовольствию, которое я впоследствии получал от программирования, а также от пайки своего однотранзисторного радиоприемника. Всем хотелось вступить в Железнодорожный клуб, а те, кто в него вступал, души не чаяли в мистере Четвуд-Эйкене, несмотря на его вечно скорбный вид. Позже я узнал, что в то время он мог быть уже серьезно болен: он умер от рака вскоре после того, как я покинул Чейфин-Гроув. Не знаю, сохранилась ли Железнодорожная комната после его смерти, но думаю, что со стороны администрации школы было бы безумием от нее избавиться.
Как мне ни нравилось быть членом Железнодорожного клуба и пользоваться правом заходить без спроса в кабинет старост, пришла пора отправляться в другую школу и снова начинать с нуля. Когда мне было всего три месяца, мой отец хотел записать меня в колледж Мальборо – ту публичную школу, где учился сам. Однако ему сообщили, что он опоздал. Надо было записывать меня, как только я родился (интересно, как скоро это предложение начнут цитировать вне контекста?)[63]. Моему отцу, выпускнику Мальборо, было очень обидно получить из колледжа высокомерное письмо, извещавшее об этом, но он все-таки поставил меня на очередь, и, когда пришло время, я вполне мог отправиться в Мальборо. Но тем временем отец заинтересовался другой возможностью. На него произвело впечатление, каким мастером на все руки был наш сосед майор Кэмпбелл, фермер-джентльмен[64], имевший хорошо оборудованную мастерскую, где он на профессиональном уровне занимался сваркой. Папа, естественно, полагал, что я тоже могу выбрать профессию фермера, а умелые руки дают большие преимущества в этой профессии (как я недавно узнал от одного из самых успешных фермеров, которых мне доводилось встречать, и, несомненно, самого нестандартного предпринимателя из них всех – великого и могучего Джорджа Скейлса)[65].
Майор Кэмпбелл освоил это мастерство в Аундловской школе в Нортгемптоншире. В Аундле была лучшая школьная мастерская в стране, а знаменитый директор Фредерик Уильям Сэндерсон, возглавлявший эту школу с 1901 по 1922 год, внедрил систему, при которой каждый ученик проводил целую неделю каждого семестра в мастерских и на это время все остальные школьные занятия прерывались. Ничем подобным не могли похвастаться ни колледж Мальборо, ни какая-либо другая школа. Поэтому мои родители записали меня в Аундл, и во время своего последнего семестра в Чейфин-Гроув я сдавал экзамен на стипендию, дававшую право бесплатного обучения там. Стипендию я не получил, но сдал экзамен достаточно хорошо, чтобы быть принятым в Аундл. Именно туда меня и отдали. Это было в 1954 году, когда мне было тринадцать.
Впрочем, я не знаю, какие еще из своих качеств майор Кэмпбелл выработал за время обучения в Аундле. Полагаю, что жесткий подход к мелким бунтовщикам он усвоил уже в армии. Однажды он поймал одного из своих работников с поличным на мелкой краже – кажется, какого-то инструмента из своей мастерской – и тут же прогнал его, причем в буквальном смысле: “Даю тебе фору в пятьдесят ярдов, а потом буду стрелять из обоих стволов”. Он, разумеется, не стал бы выполнять эту угрозу, но история все равно впечатляет и может служить еще одним примером перемен морального духа времени.
“Малый срок отпущен лету”
Жизнь, разумеется, не ограничивалась школой. В Чейфин-Гроув мы с нетерпением ждали окончания каждого семестра, и нашим любимым церковным гимном был тот, что мы пели в последний день: “Да хранит вас Бог до новых встреч…”[66] Мы любили его даже больше, чем волнующе воинственный миссионерский гимн, хотя от того мы тоже были в восторге:
- Эй, друзья! Смотрите: в небе вьется светлый стяг.
- Подкрепленье на подходе, вот победы знак!
- “Форт держите, к вам иду я!” – Бог сигналит нам.
- Наш ответ – “С Твоей подмогой!” – слышен небесам[67].
Мы все с радостью разъезжались по домам на каникулы: одни – на школьном поезде до Лондона, другие (в том числе и я) – с родителями на машинах. В моем случае это был потрепанный старый “лендровер”, что, впрочем, никогда меня не смущало, хотя и считается, что юных снобов из школ-интернатов должно сильно смущать, если родители приезжают за ними на чем-либо дешевле “ягуара”. Я даже гордился нашим автомобилем-ветераном с протекающей крышей, на котором мой отец ломился по бездорожью по азимуту, исходя из восхищавшей меня идеи, что два прямолинейных участка шоссе, которые, судя по замусоленной официальной карте, лежали на одной прямой, некогда точно соединяла римская дорога.
Такого рода поступки были очень характерны для моего отца. Как и его отец, он обожал карты. Еще они оба обожали все записывать, например сведения о погоде. Папа много лет дотошно заполнял тетрадку за тетрадкой данными о суточных максимальной и минимальной температурах, а также уровне осадков. Правда, однажды мы заметили, как наша собака писает в дождемер, но это не так уж сильно охладило интерес моего отца к показаниям данного прибора, хотя мы и не могли узнать, сколько раз наш любимый Банч делал это раньше и в какие дни уровни осадков были подобным способом завышены.
У отца всегда было какое-нибудь хобби, в которое он погружался с головой. В этих хобби обычно находилось применение его умению работать руками, которое было у него на высоте, хотя он скорее принадлежал к поклонникам старых железяк и красного сноповязального шпагата, нежели к научной школе токарного станка и сварочного аппарата, как майор Кэмпбелл. Отец был избран членом Королевского фотографического общества за свои изящные серии “наплывающих” изображений – искусно составленные последовательности цветных слайдов, демонстрируемые попеременно двумя проекторами, так что одна картинка плавно перетекала в другую в сопровождении звуков музыки и комментариев рассказчика. Сегодня все это можно делать на компьютере, но в те времена плавное появление и исчезновение изображений достигалось за счет ирисовых диафрагм, соединенных таким образом, что по мере открывания одной другая закрывалась. Мой отец изготовил для обоих проекторов ирисовые диафрагмы из картона, соединив их друг с другом чертовски остроумно сконструированной системой резиновых лент и красного шпагата, приводимой в движение деревянным рычажком.
У нас в семье такие изображения называли “бредовыми” (drivelling), а не “наплывающими” (dissolving), потому что именно так кто-то однажды прочитал это слово в неразборчивой записке. Мы все настолько привыкли именовать данный жанр “бредом”, что нам и в голову не приходило называть его как-либо иначе, и это слово утратило для нас свое исходное значение. Однажды отец выступал в каком-то фотоклубе, демонстрируя свои фотографии (в те времена подобные выступления были для него обычным делом). В тот раз он показывал в основном свои старые снимки, сделанные еще до увлечения “бредом”, и в самом начале своего выступления он стал объяснять это публике. Папе была свойственна трогательная манера говорить, слегка запинаясь и путаясь, и при первых же его словах слушатели сразу оживились, хотя и были несколько сбиты с толку: “Ну вот, да, вот, э-э-э, эти кадры в основном относятся, э-э-э, в основном относятся к тому периоду, когда я еще не занимался бредом…”
Не вполне изящный стиль его речи проявлялся и в ту пору, когда он ухаживал за моей матерью. Однажды, нежно глядя ей в глаза, отец пробормотал: “Твои глаза как… мешочки с завязками”. Как ни нелепо это звучит, мне кажется, я понимаю, что он хотел сказать этим сравнением, которое тоже имеет некоторое отношение к ирисовым диафрагмам. Если смотреть на мешочек с завязками сверху, расходящиеся складки по краям стянутого шнурком отверстия немного напоминают красивый лучистый узор ириса (радужной оболочки) – диафрагмы человеческого глаза.
Был год, когда его главным хобби стало изготовление для всех своих родственниц ожерелий, которые он делал из добытых в Корнуолле серпентинитовых галек, просверливая в них отверстия и нанизывая на кожаные ремешки. А как-то папа с головой погрузился в проектировку и изготовление для своего молочного хозяйства автоматизированного пастеризатора с разноцветными сигнальными лампочками и подвесным конвейером для бидонов. Один из его работников, Ричард Адамс (другой Ричард Адамс, не тот, что написал сказку про кроликов), отвечавший на ферме за свиноводство, сочинил по этому поводу следующую эпиграмму:
- Огни горят, клубы парят, как в грандиозной бане,
- А вон под звон летит бидон, как фея в балагане.
У моего отца никогда не иссякали творческие идеи. Он много размышлял (благо на это было время), пока обрабатывал поля, сидя в своей поношенной форменной шляпе Королевских африканских стрелков за рулем маленького серого трактора “фергюсон” и распевая во весь голос псалмы (“Моав – умывальная чаша моя…” – кстати, хотя папа и любил петь псалмы, он вовсе не был религиозен). Он решил, что впустую тратит время, разворачиваясь по своим следам в конце каждой полосы, и придумал оригинальную схему диагональной продольной и поперечной вспашки с разворотами под небольшими углами, позволявшую ему вспахивать все поле дважды, тратя на это лишь ненамного больше времени, чем при обычном способе уходило на однократную вспашку.
Работая в поле, отец всегда был изобретателен, но не всегда благоразумен. Однажды у трактора заело сцепление, и он ни в какую не хотел двигаться с места. Отец лег на землю под сцеплением, чтобы разобраться, в чем дело, и в итоге сумел исправить неполадку. Беда в том, что, лежа под сцеплением трактора, он также лежал прямо перед большим левым задним колесом. После починки трактор бодро двинулся вперед и переехал моего отца. Надо сказать, что ему еще повезло, что это был маленький “фергюсон”, а не какой-нибудь современный гигант. Трактор весело покатил через поле, а работник моего отца Норман, на глазах у которого это случилось, от ужаса просто остолбенел, и отцу пришлось приподняться и велеть ему догнать и остановить беглеца. Бедный Норман так трясся, что не мог даже отвезти моего отца в больницу, и тому пришлось самому садиться за руль. Папу госпитализировали, и он пролежал некоторое время с ногой на вытяжке, но никаких серьезных травм, по-видимому, не получил. Положительным побочным эффектом пребывания в больнице стало то, что он бросил курить трубку. Ему удалось навсегда избавиться от этой привычки, и единственным ее последствием оказались сотни пустых жестянок из-под табака с надписью “Вот уж и правда старый добрый пряный табачок!”, которые папа еще не один десяток лет использовал для хранения всевозможных винтов, гаек, шайб и самых разных старых и грязных металлических деталей, которые он так любил.
Под влиянием проповедей автора книг о сельском хозяйстве Фрэнка Ньюмана Тернера, а также, возможно, и своего эксцентричного друга по Мальборо и Оксфорду Хью Корли мой отец стал одним из первых приверженцев органического земледелия – задолго до того, как оно вошло в моду и ему стали покровительствовать принцы. Он никогда не использовал неорганических удобрений и гербицидов. Авторитеты, у которых он учился органическому земледелию, не одобряли также и комбайнов, да к тому же наша ферма была слишком маленькой, чтобы нам действительно стоило обзаводиться такой махиной, поэтому поначалу мы собирали урожай с помощью старой сноповязалки. Она с громыханием катила по полю за нашим маленьким серым трактором, срезая на своем пути пшеницу или ячмень и выплевывая сзади аккуратно перевязанные снопы (хитроумный механизм, завязывавший узлы, вызывал у меня изумление). А дальше начиналась настоящая работа, потому что снопы нужно было собирать в копны. Мы большой толпой шли за сноповязалкой, подбирая по два снопа и составляя из них небольшие вигвамы (копны), по шесть снопов в каждом. Это был тяжелый труд, после которого наши руки были исцарапаны и натерты, иногда до крови, но мы все равно были довольны, а ночью всласть отсыпались. Моя мать приносила на поле в кувшинах бочковой сидр (скрампи) для работников, и, когда они утоляли им жажду, сцена была исполнена теплоты и чувства товарищества – почти как в романах Томаса Харди.
Собирать снопы в копны требовалось для просушки, после чего их грузили в телегу и забрасывали на скирду. В детстве мне не хватало сил забросить сноп вилами прямо на самый верх, но я очень старался и завидовал отцу, у которого были сильные мозолистые руки – не хуже, чем у любого из его работников. Через несколько недель отец брал напрокат молотилку, которую ставили рядом со скирдой. Снопы подавали в молотилку вручную, и она вымолачивала зерно, а также делала из соломы брикеты. Все работники фермы – и скотники, и мастера на все руки, да, собственно, кто угодно – по собственному почину присоединялись к этой работе. Позже мы все-таки пошли в ногу со временем и стали брать напрокат соседский комбайн.
В одной из предыдущих глав я писал, что тайком пробирался к себе в спальню, чтобы читать книги, вместо того чтобы носиться по улице в любую погоду, продолжая добрую семейную традицию Докинзов. Тем не менее, положа руку на сердце, я не могу похвастаться тем, что произведения, которые я читал во время школьных каникул, имели большое отношение к философии, смыслу жизни и прочим премудростям. Это было обычное юношеское чтиво: “Билли Бантер”, “Этот Вильям!”, “Бигглз”, “Бульдог Драммонд”, книги Перси Фрэнсиса Уэстермана, “Алый Первоцвет”, “Остров сокровищ”. У нас в семье почему-то не одобряли Энид Блайтон и убедили меня, что читать ее не стоит. Дядя Кольер одну за другой дарил мне книги Артура Рэнсома, но я ими как-то не проникся. Помнится, они казались мне слишком девчачьими, что было глупо с моей стороны. Книги Ричмал Кромптон о Вильяме, по-моему, можно считать настоящей литературой, а их ироничность в состоянии оценить и ребенок, и взрослый. И даже книги о Билли Бантере, хотя и написаны так шаблонно, что их мог сочинить чуть ли не компьютер, все же не лишены литературных аллюзий, например: “как в свое время Моисей, он посмотрел туда и сюда и увидел, что нет никого” или “как толстая пери у врат рая”[68]. В книгах о Бульдоге Драммонде показаны глубины ура-патриотической и расистской нетерпимости, столь характерной для описанной в них эпохи, но в юности я по наивности этого не замечал. У моих дедушки и бабушки по материнской линии была книга “Унесенные ветром”, которую я не раз жадно перечитывал на летних каникулах, но лишь став старше, осознал толком содержащиеся в ней элементы патерналистского расизма.
Семейная жизнь в Овер-Нортоне была, в общем, такой счастливой, какой только может быть семейная жизнь. Мои родители были очень привязаны друг к другу. Незадолго до смерти отца в возрасте 95 лет в декабре 2010 года им посчастливилось отпраздновать семидесятую годовщину своей свадьбы. Наша семья не была особенно богатой, но и бедной тоже не была. Мы обходились без центрального отопления и телевизора, хотя телевизор родители могли себе позволить – но заводить не хотели. Семейным автомобилем нам служил вышеупомянутый грязный старый “лендровер” или небольшой фургон. Это были отнюдь не шикарные автомобили, но служили они нам исправно. Мы с Сарой учились в дорогих школах, и родителям, несомненно, приходилось экономить на других расходах, чтобы оплачивать наше обучение. Наша семья отдыхала не на Лазурном Берегу в роскошных отелях, а в Уэльсе в армейских палатках, поливаемых дождем. Во время этих поездок мы мылись в брезентовой ванне, некогда принадлежавшей департаменту лесного хозяйства Бирмы, грелись у костра и готовили на нем еду. Однажды мы с Сарой слышали из своей палатки, как наш отец, принимая ванну, в которую не помещались его ноги, задумчиво бормотал себе под нос: “Как-то мне раньше не доводилось принимать ванну, не снимая ботинок”.
В течение трех важных для формирования личности лет моей ранней юности со мной был друг – почти что старший брат. Близкие друзья нашей семьи Дик и Маргарет Кеттлуэлл остались в Ньясаленде. Дик в очень молодом возрасте возглавил департамент сельского хозяйства и так славно зарекомендовал себя в этой должности, что впоследствии стал министром сельского хозяйства и горнодобывающей промышленности во временном правительстве, готовившем страну к полной независимости. Когда его сыну Майклу, с которым я играл в самом раннем детстве, исполнилось тринадцать, его отправили в Англию в Шерборнскую школу-интернат, и перед его родителями, как когда-то перед родителями моего отца, встал вопрос о том, где их сыну проводить каникулы. Я был очень рад, что он стал проводить их у нас. Разница в возрасте между нами составляла чуть больше года, и мы были с ним просто неразлучны: купались в ледяной речке в долине, ставили опыты с веществами из набора юного химика, собирали модели из конструктора “Меккано”, играли в пинг-понг, канасту, бадминтон, мини-бильярд, делали по каким-то примитивным рецептам свекольное вино, или жидкое мыло, или витаминки. Вместе с Сарой мы организовали небольшую собственную ферму под названием “Хозяева”. Отец доверил нам выводок поросят, которых мы прозвали Бочонки, не забывали ежедневно их кормить и всецело за них отвечали. Мы с Майком остались друзьями на всю жизнь. Более того, он женился на моей сестре, а к настоящему времени стал дедушкой большинства моих юных родственников.
Хорошо, когда в самые важные для формирования личности годы у тебя есть старший брат, но у этого имеется и оборотная сторона. Всякий раз, когда вы с ним что-то делаете, он оперирует, а ты только подаешь инструменты (поскольку Майк впоследствии стал известным хирургом, эта метафора здесь довольно уместна). Про дядю Билла всю жизнь говорили, что у него “руки не из того места растут”, а мой отец, напротив, считался мастером на все руки – возможно, по той же причине. Младший брат не годится в мастера – только в подмастерья. Старший привыкает верховодить, младший – быть на вторых ролях, а детские привычки не так-то легко поменять. В отличие от дяди Билла, я не бравировал тем, что плохо умею работать руками, но как умел, так и по-прежнему умею плохо. Все делал Майк, а я играл при нем роль бесполезного ассистента. Мой отец, вероятно, надеялся, что дело вскоре исправят знаменитые мастерские Аундловской школы, которые помогут мне хоть и с опозданием, но пойти по стопам майора Кэмпбелла. Однако в этих мастерских, как мы еще убедимся, ему предстояло разочароваться.
Во мне как юном натуралисте он тоже, наверное, разочаровался, несмотря на то что однажды мне посчастливилось провести целый день с молодым Дэвидом Эттенборо, одновременно с которым я гостил у дяди Билла и тети Дианы. Эттенборо был уже знаменит, но еще не общеизвестен. Он познакомился и подружился с моими дядей и тетей в дебрях Сьерра-Леоне, где останавливался у них во время одной из своих экспедиций со съемочной группой. Когда Билл и Диана перебрались в Англию, а я как раз приехал к ним погостить, Дэвид привез туда своего сына Роберта и на весь день повел нас, детей, вооруженных рыболовными сачками и банками из-под варенья на веревочках, исследовать окрестные канавы и пруды. Я забыл, кого мы пытались поймать (наверное, тритонов, или головастиков, или личинок стрекоз), но сам этот день был незабываем. И все же даже опыта общения с харизматичнейшим зоологом на свете не хватило, чтобы сделать из меня юного натуралиста, какими были в детстве мои родители. Меня ждала Аундловская школа.
Шпиль у реки Нин
Мальчишкам лучше знать самим, как жить.
Пусть сами и карают недостойных
По школьной справедливости своей.
Джон Бетчеман,
“Призванный колоколами”
Я учился в английской публичной школе слишком поздно (к счастью), чтобы столкнуться с настоящими жестокостями, процветавшими во времена Джона Бетчемана. Но и в моем детстве учиться там было не так-то просто. Полагалось следовать нелепым правилам, придуманным самими учениками, потому что “Мальчишкам лучше знать самим, как жить”. Например, число пуговиц на пиджаке, которые можно было оставлять расстегнутыми, устанавливалось по старшинству, и за этим строго следили. До определенного уровня старшинства учебники разрешалось носить только в разогнутой руке. Почему? Учителя, конечно, знали о подобных вещах, но ничего не делали, чтобы положить им конец.
По-прежнему в ходу была система прислуживания, с тех пор, к счастью, сдавшая позиции. Староста каждого “дома” Аундла выбирал себе одного из новеньких в качестве личного прислужника. Меня выбрал своим прислужником помощник заведующего “домом”, прозванный Джиттерс (Дрожь) – из-за тремора. Он хорошо ко мне относился, но тем не менее я вынужден был делать все, что он велел: чистить его туфли, полировать пуговицы на его кадетской форме и каждый день во время чая жарить для него тост на примусе в его кабинете. Джиттерс мог в любой момент послать меня выполнять какое-либо из своих поручений.
Случалось, что прислужники подвергались и сексуальным домогательствам. Мне четыре раза пришлось отбиваться от пытавшихся забраться ночью ко мне в постель старших учеников, которые были намного крупнее и сильнее меня. Подозреваю, что они не были ни гомосексуалами, ни педофилами в обычном понимании и их поведение объяснялось только отсутствием вокруг девочек. Мальчики препубертатного возраста нередко похожи на симпатичных девочек, и я был именно таким. Наш школьный фольклор кишел историями о мальчиках, которые “втюривались” в других, по-девичьи привлекательных мальчиков. Про меня тоже ходило множество подобных слухов, от которых, впрочем, не было большого вреда, кроме пустой – но при этом весьма значительной – траты времени на сплетни.
Многое в Аундле пугало меня после Чейфин-Гроув. Утром первого дня, когда мы все собрались в Большом зале[69] на утреннее богослужение, у новеньких еще не было постоянных мест, и нам пришлось самим искать себе незанятые стулья. Я нашел один стул, на котором никто не сидел, и робко спросил здоровенного парня, восседавшего рядом, не занято ли здесь. Он с ледяной вежливостью ответил: “Насколько я вижу, нет”, заставив меня почувствовать свое ничтожество. После школы Чейфин-Гроув с ее певшим дискантом хором и фисгармонией, в которую воздух накачивался ножными педалями, страшновато было слышать в Аундле громогласное исполнение гимна “Наутро новая любовь…” под аккомпанемент огромного ревущего органа. Сутулый директор Гас Стейнфорт, облаченный в черную мантию магистра искусств, был грозен по-своему – не так, как Гэллоуз. Он гнусавым голосом призывал нас “полностью погрузиться в работу этого семестра” к третьей неделе, и тогда “дальше все пойдет как по маслу”: мне было не совсем понятно, как в нее нужно погружаться и что значит “пойдет как по маслу”.
Наставником класса 4B1, в котором я учился, был Снэппи Пристман – человек добрый и вежливый, который вел себя как настоящий джентльмен, за исключением тех случаев (довольно редких), когда его выводили из себя. Но даже выходил из себя он как-то по-джентльменски. Однажды на его уроке один из учеников очень плохо себя вел. Когда Снэппи это заметил, поначалу он не подал вида, но потом заговорил, предупреждая нас о своем закипавшем гневе. Поначалу он говорил вполне спокойно, как беспристрастный наблюдатель собственного состояния: “Боже. Я ведь не удержусь. Я сейчас выйду из себя. Спрячьтесь под парты. Я вас предупреждаю. Сейчас начнется. Спрячьтесь под парты”. Голос его становился все громче и громче, а лицо постепенно краснело, и наконец он сорвался, стал хватать все, что попадалось под руку (мел, чернильницу, учебник, тряпку для доски с деревянной ручкой), и с дикой яростью кидать в направлении провинившегося ученика. На следующий день он был само обаяние и – хоть и коротко, но очень вежливо – извинился перед тем учеником. Он был и остался добрым джентльменом, просто в тот раз терпение его лопнуло. С кем не бывает из людей его профессии? Да и моей тоже.
Снэппи приучил нас читать Шекспира и помог мне начать ценить этого величайшего гения. Мы ставили “Генриха IV” (обе части) и “Генриха V”, и Снэппи сам играл умирающего Генриха IV, который говорил своему сыну, раньше времени забравшему у него корону: “Тебя Господь, наверно, надоумил унесть ее, чтоб повод получить еще сильнее этим оправданьем завоевать потом мою любовь”[70]. Он нашел среди нас тех, кто мог имитировать валлийский (Уильямс) и ирландский (Румари, которого он хвалил: “Румари, ты просто клад”) акценты. Он читал нам Киплинга, убедительно изображая шотландский акцент в “Гимне Мак-Эндрю”. Завораживающие ритмичные первые строки “Долгого пути” вызывали у меня жгучую ностальгию по скирдам Овер-Нортона и раннеосеннему чувству удовлетворения – “вот и собран урожай”[71] (пожалуйста, прочитайте эти строки вслух, чтобы уловить киплинговский размер):
- Слышишь голоса глухие в поле, где скирды сухие
- Спят, бока подставя свету:
- “Как пчела душистый клевер, так и ты оставь свой север –
- Малый срок отпущен лету”?[72]
Сразу после этого мистер Пристман читал Китса, как раз воспевавшего пору “плодоношенья и дождей”[73].
Нашим учителем математики в тот год был мистер Фраут, страдавший головокружениями. Я припоминаю, что однажды перед его приходом в класс мы раскачали все лампы, висевшие под потолком, а когда он вошел, стали качаться с ними в унисон. Не помню, чем это закончилось. Быть может, результат нашей проделки стерся из моей памяти из-за угрызений совести. Возможно также, что это ложные воспоминания, основанные на школьной легенде о том, как некогда обошлись с мистером Фраутом другие ученики. Как бы там ни было, теперь я вижу в этом еще один прискорбный пример детской жестокости, о которой я часто думаю, вспоминая школьные годы.
Наши проделки не всегда сходили нам с рук. В тот же год у нас приболел учитель физики Бафти, и его заменял старший учитель естественных наук Банджи. Он выяснил, что мы дошли до закона Бойля – Мариотта, и стал продолжать изложение темы, называя нас по номерам, а не по именам, которые у него не было времени выучить. Он был маленьким сутулым старичком, самым близоруким из всех людей, которых мне когда-либо доводилось встречать, и нам казалось, что он легкая добыча для шуток, – все равно ничего не заметит. Поначалу мы думали, что он и правда ничего не замечает. Но ошиблись. Каким бы близоруким мистер Банджи ни был, он все видел и перед самой переменой спокойно объявил, что нам всем придется задержаться после уроков. Когда в назначенное время мы понуро вернулись в класс, он велел нам открыть тетради на новой странице и записать: “Дополнительный урок для класса 4B1. Тема урока: научить класс 4B1 хорошо себя вести и закону Бойля – Мариотта”. Я уверен, что это не ложные воспоминания, и надо сказать, что закон Бойля – Мариотта я с тех пор запомнил навсегда.
Один из наших учителей, единственный, кто разрешал нам называть себя по прозвищу, имел склонность влюбляться в учеников-красавчиков. Насколько нам было известно, он никогда не позволял себе ничего большего, чем слегка приобнять их и сделать двусмысленный комплимент, но в наши дни, пожалуй, и этого бы хватило, чтобы у него возникли серьезные неприятности с полицией и бдительными читателями бульварной прессы.
Как и большинство подобных школ, Аундл был разделен на “дома”. Их было одиннадцать, и каждый ученик жил и питался в своем “доме”, а также выступал за него на всех соревнованиях. Мой “дом” назывался Лондимер. Я не знаю, как выглядели другие “дома” изнутри, потому что нам не советовали туда ходить, но подозреваю, что все они были довольно похожи. При этом интересно, что мы склонны были приписывать каждому “дому” свой “характер”, который невольно проецировали на всех учеников, живущих в данном “доме”. Наши представления об этих “характерах” были столь расплывчаты, что я ума не приложу, как описать хотя бы один из них. Мы их просто субъективно ощущали. Подозреваю, что это наблюдение может служить примером (довольно невинным по сравнению со многими другими, с которыми мы сталкиваемся за стенами школы) тех же “племенных” чувств, что лежат в основе куда более прискорбных явлений – таких, как расизм или религиозный фанатизм. Я говорю о нашей склонности больше отождествлять людей с теми группами, к которым они принадлежат, чем воспринимать их как индивидуумов. Психологи экспериментально показали, что это происходит, даже когда людей разделяют на группы случайным образом и помечают их условными знаками, такими как футболки разных цветов.
В качестве иллюстрации этого явления можно привести следующий пример (в данном случае довольно отрадный). Одновременно со мной в Аундле учился только один ученик африканского происхождения. Насколько я могу судить, он совершенно не сталкивался у нас в школе с проявлениями расизма, возможно оттого, что, как единственного среди нас чернокожего, его отождествляли не с какой-либо выделенной по расовому признаку группой, а – как и любого другого – с его “домом”, Лэкстоном. Для нас он был прежде всего “этим парнем из Лэкстона”, а вовсе не чернокожим. Предполагалось, что и характер у него такой же, как у всех остальных парней из Лэкстона. Теперь-то я сомневаюсь, что Лэкстону или любому другому “дому” действительно были свойственны какие-то особенные черты характера. Суть крылась не в особенностях “домов” Аундла, а в общем свойстве человеческой психологии – в склонности навешивать на людей ярлыки в зависимости от групп, к которым они принадлежат.
Я выбрал Лондимер потому, что до меня дошел о нем слух (ложный, как выяснилось) как об одном из немногих “домов”, где нет традиции обрядов посвящения (вроде тех унизительных испытаний, которые проходят американские студенты при вступлении в братство). Оказалось, что такая традиция в Лондимере все же существовала: каждый новенький должен был что-нибудь спеть, стоя на столе. Мне пришлось залезть на стол и исполнить пронзительным дискантом одну из песенок своего отца:
- Никогда так солнце не светилось,
- Не светилось так, я вам скажу, вам скажу,
- Как тогда, когда это случилось, –
- Мы оставили младенца на пляжу.
- Да, мы оставили младенца на пляжу
- В самый первый раз, я вам скажу, вам скажу.
- Как увидишь маму, сообщи ей,
- Что мы оставили младенца на пляжу.
Это было тяжелое испытание, но я опасался большего.
В Аундле не особенно травили отдельных учеников, однако в течение одной недели первого или первых двух семестров каждый новенький проходил стандартную череду издевательств. По крайней мере, так было заведено в моем “доме”; но я думаю, что и в других происходило примерно то же самое. В течение этой ужасной недели новенького называли “звонарь” и считали ответственным за все, что бы ни случилось (обычно что-нибудь да случалось). Именно он должен был разводить и поддерживать огонь в камине. В субботу той недели, в течение которой он служил козлом отпущения, новенькому следовало обойти все кабинеты, чтобы принять заказы на воскресные газеты и собрать деньги на них. Затем, в воскресенье утром, он должен был очень рано встать и сходить на другой конец городка за газетами, принести их в школу и разнести по кабинетам. Самая же заметная функция звонаря состояла в том, что именно в его обязанности входило вовремя звонить, объявляя все этапы распорядка дня: подъем, прием пищи, отбой и так далее. Для этого звонарю нужны были очень точные часы. К концу “своей” недели я освоился с этой функцией, но мой первый день в этом звании оказался настоящим бедствием. Я почему-то не уловил, что сигнал о том, что через пять минут начнется завтрак, нужно подавать ровно за пять минут до гонга, возвещающего о начале завтрака. Многие старшие ученики привыкли вставать по звонку именно за пять минут до завтрака, а ведь за столь короткое время не так-то просто умыться и одеться, поэтому им было очень важно, чтобы звонок звучал вовремя. В свой первый день в роли звонаря я подал сигнал пятиминутной готовности, после чего прошествовал к гонгу и всего полминуты спустя ударил в него. В итоге многие опоздали к завтраку, а я стал предметом злых насмешек.
У звонаря и прислужников было так много обязанностей, что удивительно, как новенькие вообще умудрялись хоть как-то учиться. О том, чтобы “все пошло как по маслу”, не могло быть и речи. Теперь, насколько я понимаю, система прислуживания запрещена во всех английских школах. Но я не устаю поражаться тому, что когда-то она была разрешена и что просуществовала так долго. В XIX веке бытовало странное представление о педагогической пользе этой системы. Возможно, ее долгое существование связано с концепцией “раз я через это прошел, почему бы и тебе не пройти”. Кстати, эта концепция по-прежнему отравляет жизнь многих британских врачей-стажеров.
Стоит ли удивляться, что в первые семестры в Аундле я снова стал заикаться. У меня были трудности с произношением твердых согласных, таких как “Д” и “Т”. Как ни печально, моя фамилия начинается с одного из этих звуков, а мне часто приходилось ее называть. У нас были контрольные в виде тестов, при выполнении которых нужно было отмечать правильные ответы галочками, считать, сколько галочек получилось, и выкрикивать их число, чтобы учитель занес его в журнал. Максимальное число было десять, но, когда у меня получалось десять, я выкрикивал “девять” (nine), потому что произнести это мне было намного проще, чем “десять” (t-t-t-ten). Наши занятия по военной подготовке в кадетском корпусе однажды должен был посетить некий генерал. Встречая его, нам следовало по одному выходить из строя, вставать перед ним по стойке “смирно”, выкрикивать свое имя, отдавать честь, разворачиваться кругом и возвращаться в строй. Мне предстояло выкрикнуть: “Кадет Докинз, сэр!” – и эта перспектива приводила меня в такой ужас, что я не спал ночами. Когда я практиковался в одиночестве, мне все удавалось, но кто знал, что у меня выйдет перед всеми? “Кадет Д-д-д-д-д…”? В итоге все прошло нормально, хотя я и сделал неловкую долгую паузу перед Д.
Обучение в кадетском корпусе не являлось совсем уж обязательным. Из него можно было выйти, если вступить в организацию бойскаутов или проводить это время, обрабатывая землю с Богги Картрайтом. В одной из своих предыдущих книг я писал про мистера Картрайта, что он был “замечательный человек с кустистыми бровями, называвший лопату лопатой[74] и редко выпускавший ее из рук”. Хотя платили ему за то, чтобы учить нас немецкому, на самом деле мистер Картрайт, неторопливо, по-деревенски выговаривавший слова, учил нас прежде всего приземленным экологическим премудростям, связанным с сельским хозяйством. На доске у него постоянно было написано слово “Экология”, и если кто-то это слово стирал, стоило ему отвернуться, мистер Картрайт тут же, ничего не говоря, восстанавливал его. Когда он писал на доске по-немецки и на пути немецкого предложения оказывалось слово “Экология”, он изгибал строчку так, что она обтекала это слово. Однажды он застал одного из учеников за чтением Вудхауза и в ярости разорвал книгу надвое. Он явно верил клеветническому обвинению Вудхауза в сотрудничестве с немцами во время войны (старательно поддерживаемому Кассандрой[75] из “Дейли миррор”, где Вудхауза равняли с лордом Хо-Хо и его американским эквивалентом – Токийской розой[76]). Однако у мистера Картрайта были даже более искаженные представления об этой истории, чем те, что излагались в клеветнических статьях Кассандры: “У Воудхауза была возможность спустить немецкого полковника с лестницы, а он ей не воспользовался” (мистер Картрайт произносил фамилию Wodehouse как “Воудхауз” вместо правильного “Вудхауз”). Можно подумать, что он был человеком вспыльчивым, но на самом деле вывести его из себя было не так-то просто, хотя, как ни странно, одного упоминания Вудхауза было достаточно. Просто это был большой оригинал, опередивший время в своей эксцентричной зацикленности на экологии, неторопливо говоривший и в буквальном смысле слова приземленный.
Я оказался недостаточно предприимчивым, чтобы сбежать из кадетского корпуса по одному из двух доступных путей эвакуации. Видимо, я слишком сильно поддавался влиянию сверстников (как и все те годы, что провел в Аундле). Но мне в конце концов удалось избежать худшей части военной подготовки, вступив в военный оркестр, где я вначале играл на кларнете, а затем на саксофоне под управлением сержанта, говорившего нам: “Ну, давайте начнем с отправной точки ентого марша”. Нас, музыкантов, разумеется, не освобождали от обязанности еженедельно чистить свои армейские ботинки, натирать ремни и до блеска полировать медные пуговицы специальными средствами “Дьюраглит” или “Брассо”. Кроме того, раз в год мы должны были ездить на военные сборы, жить в казармах того или иного полка, совершать далекие марш-броски и участвовать в учениях с холостыми патронами в своих допотопных винтовках “Ли-Энфилд”. Еще мы стреляли боевыми патронами по мишеням, и как-то один парень из моего взвода случайно прострелил адъютанту икру ноги. Тот рухнул на землю и тут же закурил сигарету, а у нас, свидетелей этого происшествия, продолжавших лежать на животах с ручными пулеметами “Брен”, к горлу подкатила тошнота.
Однажды, расположившись в казармах под Лестером, мы познакомились с настоящим старшиной, прекрасным образчиком этой породы людей, с огромными навощенными рыжими усами. Он орал: “На-а-а пле-э-э-э-э-э-ЧО!” – или: “Аррружие-э-э-э-э-э к на-а-а-а-ГЕ!” – начиная обе команды протяжным басом, а заканчивая отрывистым (и до нелепости высоким) сопрано. Мы с трудом сдерживали смех, фыркая оттого, что боялись рассмеяться в голос, как солдаты Понтия Пилата в фильме “Житие Брайана по Монти Пайтону”.
В кадетском корпусе мы должны были сдавать экзамен на так называемый Сертификат А, для чего от нас, в частности, требовалось зубрить устав – упражнение, явно задуманное для подавления чего-либо, даже отдаленно напоминающего интеллект или инициативу, – те качества, которые не очень-то ценятся у рядовых солдат. “Сколько видов деревьев имеется в армии?” Правильный ответ был “три: ель, тополь и густые кроны” (поэт Генри Рид прошелся по этому пункту в своих стихах, но наши сержанты-инструкторы не оценили бы его иронию).
Известно, какую большую роль среди школьников играет стремление быть как все. Я и многие из моих товарищей были малодушными жертвами этого стремления, служившего главным мотивом всех наших действий. Мы хотели, чтобы сверстники, особенно самые влиятельные из них, прирожденные лидеры, считали нас за своих, а ценности, принятые в нашей среде, по крайней мере до последнего года моего обучения в Аундле, были ценностями антиинтеллектуальными. Нам приходилось притворяться, что мы учимся не так усердно, как на самом деле учились. Врожденные способности были в чести, усердный труд – нет. Со спортивными играми дело обстояло так же. Спортсмены были в любом случае популярнее грамотеев, но особенно популярны были те, кому удавалось преуспеть в спорте, не особенно тренируясь. Почему врожденное ценится больше, чем достигнутое усердным трудом? Разве не должно быть наоборот? Думаю, специалистам по эволюционной психологии есть что сказать по этому вопросу.
Но сколько упущенных возможностей! В Аундле работало так много интересных клубов и кружков, в любой из которых я мог бы вступить с пользой для своего развития! У нас была обсерватория с телескопом (возможно, подарком одного из выпускников), но я и близко к ней не подходил. Почему? Теперь я был бы в восторге от такого шанса – изучать звезды под руководством компетентного астронома с помощью настоящего телескопа, который не нужно самому устанавливать. Я иногда думаю, что возможности школы впустую тратятся на подростков. Быть может, увлеченным учителям, которым приходится метать бисер перед поросятами, следует предоставлять возможность учить людей достаточно взрослых, чтобы оценить красоту этого бисера?
Самой серьезной упущенной возможностью за годы моего обучения в Аундле были мастерские, ради которых, собственно, мой отец и отправил меня в эту школу. Здесь была не только моя вина. Уникальное нововведение Сэндерсона – обязательная неделя в мастерских – по-прежнему оставалось в силе, а сами мастерские были великолепно оснащены. Мы учились работать на токарных, фрезерных и других продвинутых станках, с которыми едва ли столкнулись бы за стенами школы. Но мы не учились как раз тому, что так хорошо давалось отцу: изобретать, проектировать, находить временные решения, справляться с возникавшими проблемами, делать нужные вещи на скорую руку из подручных предметов (в его случае – в основном из старых грязных железяк и красного сноповязального шпагата).
Первым нашим делом в школьных мастерских было изготовление рейсмуса. Никто нам даже не объяснил, что это такое. Мы просто старались в точности повторять все, что нам показывали инструкторы. Вначале мы делали деревянную модель того металлического предмета, который нужно было изготовить. Затем приносили ее в литейную мастерскую и готовили на ее основе литейную форму в очень плотно утрамбованном песке. После этого надевали защитные очки и ассистировали при заливке в форму расплавленного алюминия из докрасна раскаленного тигля. Дальше мы извлекали полученную металлическую заготовку из песка и несли ее в мастерскую металлообработки, где шлифовали заготовку, сверлили и дорабатывали. После этого мы забирали себе полученный рейсмус, по-прежнему не имея ни малейшего представления о том, что это такое, и ни разу не проявив ни инициативы, ни смекалки. Мы были все равно что фабричные рабочие на серийном производстве.
Отчасти проблема заключалась, видимо, в том, что наши инструкторы были не учителями, а (насколько я понимаю) нанятыми школой мастерами, действительно работавшими в фабричных цехах. Они не помогали нам развивать общие навыки, а “затачивали” на изготовление конкретных вещей. Я снова столкнулся с этой проблемой, когда брал уроки вождения в городе Банбери. Меня учили давать задний ход при огибании одного конкретного угла, который оказался любимым углом проверявшего данный навык экзаменатора: “Дождитесь, пока вон тот фонарный столб будет на уровне заднего окна, а затем резко развернитесь вокруг него”.
Единственным исключением среди инструкторов, с которыми я занимался в школьных мастерских, единственным, кто хотя бы отчасти поддерживал традиции Сэндерсона, был кузнец-пенсионер, старичок в очках, заправлявший маленькой кузницей, располагавшейся в углу мастерской металлообработки. Я сбегал с “фабрики” и работал подмастерьем у этого милого старичка. Он учил меня ремеслу кузнеца, а также газовой сварке, и у моей мамы до сих пор сохранилась стоящая на витой подставке кочерга, которую я сделал под его руководством. Но даже у этого старого кузнеца я делал в основном только то, что мне велели, не особенно упражняясь в творческой изобретательности.
У плохого мастера всегда инструмент виноват, а если не инструмент, то инструктор. Но мне некого винить, помимо себя, в том, что кроме как в ту неделю, когда работа в мастерских была обязательной, я и близко к ним не подходил. Я ни разу не воспользовался возможностью приходить туда по вечерам и делать вещи собственного изобретения, точно так же, как не воспользовался возможностью ходить в обсерваторию и смотреть на звезды. В свободное время я, как и мои школьные товарищи, в основном бездельничал, жарил тосты на примусе и слушал Элвиса Пресли. Еще я игрался с музыкальными инструментами, вместо того чтобы играть настоящую музыку. Нами было упущено столько первоклассных, дорогостоящих возможностей, что это просто ужасно. Может быть, возможности школы и правда тратятся на подростков впустую?
Однако я все же вступил в клуб пчеловодов, которым руководил Йоан Томас, замечательный молодой учитель зоологии, и запах воска и дыма по-прежнему вызывает у меня радостные воспоминания. Радостные несмотря на то, что меня довольно часто жалили. В одном из таких случаев (о котором я сообщаю не без некоторой гордости) я не стал смахивать ужалившую меня пчелу, а внимательно смотрел, как она медленно пляшет кругами у меня на руке, “вывинчивая” свое жало из моей кожи. У пчел, в отличие от ос, на жалах имеются зазубрины. Когда пчела жалит млекопитающее, из-за этих зазубрин жало застревает в коже. Если смахнуть ужалившую пчелу, оно остается в коже, оторвавшись вместе с некоторыми жизненно важными органами пчелы. С эволюционной точки зрения поведение отдельной рабочей пчелы альтруистично – она приносит себя в жертву, как камикадзе, ради пользы своей семьи (строго говоря, ради пользы генов, определяющих эту программу поведения и имеющихся также у маток и трутней). Когда обреченная пчела улетает, ее жало остается в коже врага, и ядовитая железа продолжает впрыскивать яд, успешнее работая как средство сдерживания потенциальных разорителей ульев. Все это имеет понятный эволюционный смысл, к которому я еще вернусь в главе, посвященной “Эгоистичному гену”. Учитывая, что рабочая пчела бесплодна, она все равно никак не может передать свои гены потомству и вместо этого работает на то, чтобы их передала потомству матка и другие плодовитые члены пчелиной семьи. Когда я дал той пчеле возможность извлечь свое жало из моей руки, я, в свою очередь, повел себя альтруистично по отношению к ней, но руководствовался при этом преимущественно любопытством: мне хотелось самому увидеть процедуру, о которой я слышал от мистера Томаса.
В своих предыдущих изданиях я уже упоминал Йоана Томаса. На меня произвел неизгладимое впечатление первый же его урок. Мне в ту пору было четырнадцать. Я не помню подробностей, но помню атмосферу этого урока, подобие которой я старался впоследствии передать в своей книге “Расплетая радугу”. Теперь я назвал бы это так: “Наука как поэзия реальности”[77]. Мистер Томас пришел в Аундл совсем молодым учителем, и пришел потому, что восхищался Сэндерсоном, хотя был слишком молод, чтобы застать этого директора. Зато он застал его преемника Кеннета Фишера и рассказал нам историю, из которой видно, что дух Сэндерсона в каком-то смысле остался жить в школе. Я пересказал эту историю в своей Аундловской лекции, прочитанной в 2002 году.
…Кеннет Фишер вел педагогический совет, когда в дверь робко постучали и вошел маленький мальчик: “Простите, сэр, там у реки черные крачки”. “Совет может подождать”, – решительно сказал Фишер собравшимся педагогам. Он встал с председательского места, схватил свой висевший на двери бинокль и уехал на велосипеде в компании юного орнитолога, а добрый, румяный дух Сэндерсона (что очень нетрудно себе представить), сияя, глядел им вслед. Вот это – образование, и к черту всю вашу статистику сводных таблиц, напичканные фактами программы и расписание бесконечных экзаменов! ‹…›
Мне вспоминается состоявшийся лет через тридцать пять после смерти Сэндерсона урок, посвященный гидре – небольшому обитателю пресных водоемов. Мистер Томас спросил одного из нас: “Кто питается гидрами?” Ученик высказал свое предположение. Не комментируя его, мистер Томас повернулся к следующему ученику и задал ему тот же вопрос. Он обошел весь класс, с возрастающим волнением обращаясь к каждому из нас по имени: “Кто питается гидрами? Кто питается гидрами?” И один за другим мы высказывали свои предположения. Когда он дошел до последнего ученика, мы уже сгорали от любопытства в ожидании правильного ответа. “Сэр, сэр, так кто же питается гидрами?” Мистер Томас подождал, пока не наступила мертвая тишина. Затем он заговорил, медленно и отчетливо, отделяя каждую фразу паузой:
“Я не знаю… (Crescendo) Я не знаю… (Molto crescendo) И я думаю, что мистер Коулсон тоже не знает. (Fortissimo) Мистер Коулсон! Мистер Коулсон!”
Он распахнул дверь, ведущую в соседний кабинет, и эффектно прервал урок своего старшего коллеги, приведя его в наш класс. “Мистер Коулсон, известно ли вам, кто питается гидрами?” Не знаю, подмигнул ли ему мистер Томас, но мистер Коулсон хорошо сыграл свою роль: он не знал. И вновь отеческая тень Сэндерсона радостно смеялась в углу, и ни один из нас никогда не забудет этот урок. Важны не сами знания – важно, как открывать их для себя и как думать о них. Это образование в подлинном смысле слова, которое так не похоже на нынешнюю зацикленную на оценках и экзаменах систему.
Эти два случая, в которых я представлял себе призрак давно покойного директора школы, впоследствии приводились в качестве свидетельств того, что в каком-то смысле я верю в сверхъестественное. На самом деле они, разумеется, ни о чем подобном не свидетельствуют. Такие образы можно, пожалуй, назвать поэтическими. В них нет ничего неправильного, если все понимают, что их не следует воспринимать буквально. Я надеюсь, что из контекста приведенных цитат это вполне понятно и никаких недоразумений возникать не должно. Такого рода недоразумения возникают (особенно) тогда, когда к подобному образному языку прибегают богословы, не осознавая, что они делают именно это, и даже не осознавая, в чем разница между метафорой и реальностью. Например, они говорят: “Не так уж важно, действительно ли Христос накормил пять тысяч человек пятью хлебами. Нам важен прежде всего смысл этой истории”. Но на самом деле важно, было ли это в действительности, поскольку миллионы верующих и правда убеждены, что все изложенное в Библии происходило на самом деле. Надеюсь, никто из читателей не станет думать, будто я полагаю, что Сэндерсон действительно смеялся, стоя в углу на уроке мистера Томаса.
На том посвященном гидре уроке со мной произошел один неловкий случай, о котором я тем не менее хочу рассказать, потому что он, быть может, что-то обо мне говорит. Мистер Томас спросил, доводилось ли кому-то из нас видеть гидру. Кажется, я был единственным в классе, кто поднял руку. У моего отца был старый латунный микроскоп, и за несколько лет до этого урока мы с ним провели один замечательный день за разглядыванием при большом увеличении всевозможных обитателей пруда: в основном ракообразных, таких как дафнии, циклопы и остракоды, но также и гидр. Гидры, медлительно качающие щупальцами и чем-то даже похожие на растения, казались мне довольно скучными по сравнению с ракообразными, бодро размахивающими своими конечностями. Воспоминания о гидре были наименее яркими из всех воспоминаний того незабываемого дня, и я, кажется, с некоторым снобизмом взирал на то, сколько внимания мистер Томас уделял ей на том уроке. Поэтому, когда он попросил меня сообщить какие-нибудь подробности о моей предыдущей встрече с гидрой, я сказал, что видел “всех подобных животных”. Разумеется, для мистера Томаса дафнии, циклопы и остракоды вовсе не были подобными гидре животными, но для меня были, потому что мой отец показал мне их всех в один и тот же день. Вероятно, мистер Томас заподозрил, что на самом деле я не видел гидр, и стал меня тщательно допрашивать. Мне стыдно признаться, но я отреагировал на его расспросы самым неуместным образом. Быть может, мне почудился в его словах какой-то выпад против моего отца, познакомившего меня со “всеми подобными животными” и даже научившего их латинским названиям. Я обиженно заупрямился и вместо того, чтобы четко и ясно сказать, что действительно видел гидру (ведь это было правдой), я категорически отказался отделять ее от “всех подобных животных”. Мне неловко об этом вспоминать. Говорит ли обо мне что-то этот случай? Быть может, но я не знаю что. Возможно, он говорит о моей пылкой преданности всему, что было связано с моими родителями, будь то тракторы “фергюсон” (“«фордзоны» – жалкое старье!”) или джерсейские коровы (“голштинские дают не молоко, а воду”).
После того как мистер Томас научил меня основам пчеловодства, у меня появилась возможность заниматься этим и на каникулах, потому что эксцентричный школьный друг моего отца Хью Корли подарил мне пчелиный рой. Это были пчелы удивительно послушной разновидности, которые буквально никогда не жалили, и я работал с ними без перчаток и лицевой сетки. К сожалению, через какое-то время они погибли от отравления инсектицидом, долетевшим с соседского поля. Мистер Корли, страстный поборник органического земледелия и один из первых активистов экологического движения, был просто в ярости и подарил мне еще один рой. Увы, эти пчелы ушли в другую крайность (определяемую, несомненно, генами) и жалили все, что движется. В те годы у меня не было повышенной чувствительности к пчелиному яду, но впоследствии она выработалась – быть может, именно оттого, что в юности пчелы жалили меня много раз. В зрелом возрасте они жалили меня только дважды, когда мне было за сорок и за пятьдесят, и в обоих случаях это вызывало у меня странную реакцию, которой никогда не наблюдалось во времена моего активного занятия пчеловодством. На моем лице вскакивал огромный волдырь над одним глазом, оставлявший меня почти слепым на этот глаз. Непонятно, почему над глазом, ведь жалили меня в руку и в ногу! И тем более непонятно, почему только над одним.
Помимо пчеловодства, которым я занимался под руководством мистера Томаса, я уделял часть свободного времени в Аундле, пожалуй, лишь еще одному сколько-нибудь конструктивному занятию – исполнению музыки. Я провел немало часов в музыкальной школе, хотя и там, надо признаться, упустил массу ценных возможностей. К любым музыкальным инструментам меня с раннего детства тянуло как магнитом, и меня приходилось буквально оттаскивать от витрин, в которых были выставлены скрипки, трубы или гобои. Даже сегодня, когда я оказываюсь на приеме или свадьбе, где играет струнный квартет или джаз-банд, я забываю и хозяев, и гостей и топчусь вокруг музыкантов, следя за их пальцами и разговаривая с ними в перерывах об их инструментах. У меня нет абсолютного слуха, в отличие от моей первой жены Мэриан, и плохо развито чувство гармонии, в отличие от моей нынешней жены Лаллы, которая может без труда сымпровизировать вариации на любую мелодию. Но чувство мелодии мне от природы присуще, и я умею с одинаковой легкостью наигрывать, напевать и насвистывать любой мотив. Мне стыдно признаться, но одним из моих обычных занятий в музыкальной школе было без спроса брать чужие инструменты и самостоятельно учиться наигрывать на них разные мелодии. Однажды меня застали за исполнением мелодии спиричуэла “Когда святые маршируют” на довольно дорогом тромбоне, принадлежавшем одному из старших учеников, и у меня возникли неприятности, потому что инструмент оказался поврежден. Я искренне полагаю, что повредил его не я, но обвинили в этом именно меня (обвинили другие, не владелец тромбона, который обошелся со мной довольно любезно).
От моего скромного мелодического дарования было больше вреда, чем пользы, по крайней мере для такого ленивого школьника, каким я был. Мне так легко давалась игра на слух, что я пренебрегал развитием других важных навыков, например чтения нот или творческой импровизации. Причина крылась не только в лени. Было время, когда я даже свысока смотрел на музыкантов, которым “требовалось” читать ноты. Умение импровизировать я ставил выше. Но оказалось, что и в импровизации я слаб. Когда мне предложили вступить в школьный джаз-банд, я вскоре обнаружил, что, хотя и могу безошибочно сыграть любую мелодию, у меня совершенно не получается импровизировать на ее тему. Гаммы я играл очень небрежно, правда, у меня есть одно, пусть и очень слабое, частичное оправдание: никто не пытался мне объяснить, зачем это нужно. Теперь, будучи взрослым человеком и к тому же ученым, я догадываюсь зачем. Гаммы нужно играть, чтобы полностью освоиться со всеми тональностями, чтобы стоило только увидеть знаки при ключе в начале строки, как пальцы легко и механически начинали бы играть в соответствующей тональности.
Время, которое я провел в музыкальной школе, было потрачено в основном на то, чтобы играться с инструментами, а не на то, чтобы играть на них. Я все же научился играть по нотам на кларнете и саксофоне, но на фортепиано (где требуется умение брать больше одной ноты одновременно) я играл по нотам невыносимо медленно, как читает ребенок, который еще только учится этому и с трудом произносит слова по буквам, а не проглатывает текст целыми предложениями. Мистер Дэвисон, добрый учитель, у которого я занимался фортепиано, заметил мои мелодические способности и научил меня некоторым базовым правилам аккомпанирования самому себе аккордами в левой руке. Несмотря на то что я быстро освоил эти правила, успешно пользоваться ими у меня получалось только в тональностях до мажор и ля минор (где черных клавиш меньше всего), при этом звучали мои аккорды громко, но довольно монотонно – хотя на несведущих слушателей производила впечатление моя способность без подготовки играть то, что меня просили.
Я неплохо пел чистым, не особенно громким дискантом, и меня быстро приняли в сравнительно небольшой и престижный алтарный хор при школьной церкви. Мне безумно нравилось петь в этом хоре, и его еженедельные репетиции под руководством главного учителя музыки мистера Миллера становились для меня самым желанным событием каждой недели. Думаю, это был неплохой хор, уровня обычного хора английского кафедрального собора. Кроме того, я не могу не добавить, что в нашем хоре не было принято претенциозно произносить R раскатисто, но коротко, так что выходило больше похоже на D; от этого нередко страдает хоровое пение, по крайней мере на мой предвзятый слух: “Эта мать была Мадия, / А младенец был Хдистос” или “И солнечный дассвет / И дадостный олень, / И весело поет одган…”[78] Кстати, раз уж я решил поворчать, – псевдоитальянское R старых теноров вроде Джона Маккормака, по-моему, еще хуже: “Как-то, сидя за орррганом…”[79]
Каждое воскресенье мы исполняли какой-нибудь хорал: Стэнфорда, или Брамса, или Моцарта, или Пэрри, или Джона Айрленда, или одного из старинных композиторов, таких как Таллис, Бёрд или Бойс. Мы пели без дирижера: его роль исполняли два баса, стоявшие лицом друг к другу в задних рядах по обе стороны алтаря и управлявшие хором с помощью мимики и движений головы. У одного из этих басов, по фамилии Патрик, был чарующе красивый голос, который, быть может, даже выигрывал оттого, что не был профессионально поставлен. Я ни разу с ним не разговаривал (мы нигде не пересекались со старшими учениками из других “домов”), но он был моим кумиром как звезда мужского хора, выступавшего на школьных концертах под управлением другого талантливого учителя музыки – Дональда Пейна. К сожалению, мне так и не предложили вступить в мужской хор. Когда у меня закончилась ломка голоса, он стал не только ниже тембром, но и ниже качеством.
В Аундле была традиция, которую тоже завел Сэндерсон: каждый год мы всей школой исполняли какую-нибудь ораторию. Причем выбор произведений был потрясающий: за пять лет обучения каждому ученику доводилось поучаствовать в исполнении “Мессии” Генделя и Мессы си-минор Баха. В другие годы исполнялись иные произведения. В мой первый семестр мы пели кантату Баха “Проснитесь, голос к нам взывает” и “Нельсон-мессу” Гайдна, и я был от них в полном восторге, особенно от первой с ее искусно противопоставленными медленным вокальным хоралом и скачущей мелодией контрапункта в оркестре. Это был волшебный опыт, ничего подобного я никогда до этого не испытывал. Каждое утро после богослужения высокий и худой мистер Миллер бодро выходил вперед и проводил пятиминутную репетицию для всей школы, отрабатывая ежедневно всего несколько страниц вплоть до знаменательного дня исполнения. Из Лондона приезжали профессиональные солисты: очаровательные сопрано и контральто в длинных платьях и тенор с басом в безукоризненных фраках. Мистер Миллер относился к ним с исключительным почтением. Не знаю, что они думали о гортанном реве тех, кто не состоял в хоре. Но на мой тогдашний непрофессиональный вкус никто из солистов и близко не мог сравниться с Патриком из нашего школьного мужского хора.
Трудно передать атмосферу английских публичных школ тех времен, когда я учился в одной из них. Линдсею Андерсону удалось неплохо воспроизвести ее в фильме “Если…”. Я, разумеется, не имею в виду побоище в конце фильма и должен отметить, что изображение избиений в этом фильме преувеличено. Быть может, в более ранние, более жестокие времена старосты в вышитых жилетах и вытворяли что-то подобное, но я уверен, что в мое время такого уже не было. Более того, за все время обучения в Аундле я ни разу не слышал о том, чтобы кого-то избили тростью, и только недавно узнал (от одного из пострадавших), что это все же случалось.
В фильме “Если…” отлично передано и то, как симпатичные ученики оказываются в чисто мужской школе предметами бурного сексуального интереса. Обследование паха учеников вооруженной фонариком заведующей хозяйством в огромном накрахмаленном головном уборе преувеличено лишь слегка. В нашей школе обследования проводил школьный врач, не пялившийся на нас так похотливо, как заведующая хозяйством в фильме. В отличие от нее, наш спокойный доктор не крутился возле боковой линии поля для регби с криками: “Дерись! Дерись! Дерись!” Но что Андерсону удалось передать бесподобно, так это жизнерадостную атмосферу убогих комнаток, в которых мы бльшую часть времени жили, работали, пережаривали тосты, слушали джаз и Элвиса и валяли дурака, и тот истерический смех, который объединял друзей-подростков, как игры объединяют щенков. Этот смех тоже вызывали игры – словесные игры на странном собственном языке, включавшем нелепые прозвища, разраставшиеся и эволюционировавшие от семестра к семестру.
Эволюцию нелепых школьных прозвищ (а также, быть может, и ход меметических мутаций в целом) можно проиллюстрировать следующим примером. Одного моего друга называли Полковником, хотя ничего военного в его характере и близко не было. “Вы не видели Полковника?” Вот история этого прозвища. Рассказывали, что несколько лет назад один из старших учеников, к тому времени уже окончивший школу, “втюрился” в моего друга. У этого старшего ученика было прозвище Шкин (искаженное Скин неизвестного происхождения, возможно, как-то связанное с крайней плотью – foreskin – и возникшее еще до того, как я начал учиться в Аундле). Так мой друг унаследовал прозвище Шкин от своего бывшего “поклонника”. Шкин рифмуется с Тинн, а как раз в то время у нас вошло в обиход что-то вроде рифмованного сленга кокни. В те годы на радио Би-би-си шла передача “Гун-шоу”, одним из персонажей которой был полковник Гритпайп-Тинн. Так моего друга стали называть “полковник Гритпайп-Шкин”, а потом, для краткости, – просто Полковник. Мы обожали эту передачу и (как и школьные друзья принца Чарльза, который примерно в то же время учился в подобной школе) соревновались друг с другом в умении подражать голосам персонажей (таких, как Блуботтл, Экклс, майор Денис Бладнок, Генри Кран и граф Джим Мориарти), а также давали друг другу связанные с этой передачей прозвища, к примеру Полковник или Граф.
Современный санинспектор определенно не разрешил бы разводить такую грязь, как та, в которой мы жили. После игры в регби мы принимали “душ”. Я допускаю, что когда-то это действительно был душ и что ученики из других “домов” могли стоять под настоящими струями воды. Но в “доме” Лондимер от душа остался только прямоугольный керамический поддон, который мы заполняли горячей водой. Его размеров хватало лишь на то, чтобы два ученика могли сидеть в нем друг перед другом на корточках. Мы принимали этот “душ” парами по очереди, и к тому времени, когда вся команда из 15 человек успевала окунуться в воду, это была уже не столько вода, сколько жидкая грязь. Звучит, конечно, странно, но, насколько я помню, мы ничего не имели против того, чтобы принимать “душ” последними. Так было даже лучше, потому что это позволяло погреться в теплой воде, а не спешить освободить “душ” для следующей пары. Кажется, я нисколько не был против погружаться в грязную воду, в которой уже помылись 14 человек, и точно так же не возражал сидеть в очень маленькой ванне вместе с другим человеком мужского пола. Сегодня бы мне и то и другое страшно не понравилось. Думаю, это еще одно свидетельство того, что каждый из нас уже не тот человек, которым некогда был.
Аундл скорее не оправдал ожиданий моих родителей. Хваленые мастерские оказались бесполезными, по крайней мере для меня. Слишком много преклонялись перед игроками в регби за команду “дома”, а ум и знания, как, впрочем, и все другие качества, которые так стремился развивать у учеников Сэндерсон, особой ценности не представляли. Правда, к последнему году обучения в моей компании все-таки начали ценить интеллект. Способный молодй учитель истории организовал для учеников шестого класса интеллектуальный клуб под названием “Коллоквиум”. Я не помню, что было на собраниях этого клуба. Возможно, иногда мы даже читали и обсуждали ту или иную статью – как прилежные студенты. Но и помимо этих встреч мы стали по-настоящему оценивать интеллектуальные способности друг друга, пусть и в атмосфере самодовольного снобизма, отлично переданной в двустишии Джона Бетчемана:
- Кто ни придет в наш общий зал, на жителя Афин похож…
- Вот только Льюис подкачал: неплох, но так ли он хорош?
В последний год, когда нам было по семнадцать, мы с двумя моими друзьями по “дому” стали воинствующими атеистами. Мы отказывались становиться на колени в школьной церкви и сидели скрестив руки на груди и сжав губы, вызывающе возвышаясь как гордые вулканические острова среди моря склоненных бормочущих голов. Учителя и руководство школы, будучи настоящими англиканами, относились к этому вполне спокойно и не выражали недовольства, даже когда я вовсе перестал посещать богослужения. Но здесь я должен вернуться на несколько лет назад и рассказать о том, как потерял веру.
Я пришел в Аундл убежденным англиканином, уже прошедшим конфирмацию, и за первый год даже несколько раз ходил к причастию. Мне нравилось вставать рано и идти через освещенный солнцем церковный двор, слушая пение дроздов, а потом упиваться праведным голодом, который предстояло утолить только за завтраком. Поэт Альфред Нойес (1880–1958) писал: “Если когда-то мне и доводилось сомневаться в вечных истинах религии, эти сомнения всегда развеивало одно воспоминание – о том, как сияло лицо моего отца, когда ранним утром он возвращался с причастия”. Для взрослого человека рассуждать подобным образом феерически глупо, но в 14 лет я именно так и рассуждал.
К счастью, ко мне довольно скоро вернулись былые сомнения, которые впервые возникли у меня лет в девять, когда я узнал от мамы, что христианство – это только одна из многих религий и что разные религии противоречат друг другу. Все религии не могут быть истинными, так почему же я должен верить, что истинна именно та, которую исповедуют в семье, где мне довелось родиться? Во время обучения в Аундле, после непродолжительного периода, в течение которого я ходил к причастию, я полностью разуверился в специфических особенностях христианства и даже стал несколько свысока смотреть на все отдельные религии. Меня особенно возмущало лицемерие “общего покаяния”, во время которого мы все хором бормотали молитву, называя себя “жалкими преступниками”. Из того факта, что слова этой молитвы были раз и навсегда записаны и что нам предстояло повторять их и на следующей неделе, и еще через неделю, и так до конца своих дней (как это сложилось с 1662 года[80]), для меня с очевидностью вытекало, что мы твердо намерены и в будущем оставаться не иначе как жалкими преступниками. Зацикленность на понятии греха и центральная для апостола Павла идея, что все люди рождаются во грехе, унаследованном от Адама (святой Павел не мог знать того неудобного факта, что никакого Адама никогда не существовало), и в самом деле составляет один из самых отвратительных аспектов христианства.
Но я продолжал твердо верить в некоего неопределенного создателя, в существовании которого был убежден почти исключительно потому, что на меня производили огромное впечатление красота живой природы и ее кажущийся творческий замысел, а из этого я (как и многие другие) делал ложный вывод, что этот творческий замысел требует существования творца. Мне неловко признаться, что на том этапе я еще не додумался до содержащейся в этом рассуждении явной логической ошибки, которая состоит в том, что если объяснять существование Вселенной замыслом творца, то существование самого творца пришлось бы тоже объяснять чьим-то замыслом. А если мы позволяем себе считать, что самого творца никто не сотворил, то почему бы не применить ту же логику к его предполагаемому творению, тем самым, так сказать, исключив лишнее звено? Как бы там ни было, Дарвин предложил великолепную альтернативу объяснению свойств живой природы замыслом творца, и теперь мы знаем, что он был прав. Огромное преимущество дарвиновского объяснения состоит в том, что оно позволяет понять, как из простых исходных форм путем медленных, постепенных изменений возникла та поразительная сложность, которой отличаются все живые организмы.
Но в то время логика “все вокруг так красиво, что не могло возникнуть без творца” казалась мне вполне убедительной. Эту веру во мне укрепил не кто иной, как Элвис Пресли, перед которым я просто преклонялся, подобно большинству моих друзей. Я покупал его пластинки, как только они выходили: Heartbreak Hotel, Hound Dog, Blue Moon, All Shook Up, Don’t be Cruel, Baby I Don’t Care и многие другие. Звучание пластинок Элвиса бесповоротно (эта ассоциация теперь представляется мне исключительно уместной) связано в моей памяти с отдающим серой запахом мази, которую многие из нас использовали для борьбы с подростковыми прыщами. Однажды на каникулах я поставил себя в неловкое положение: думая, что я дома один, и не зная, что меня слышит отец, я громко распевал песню “Синие замшевые туфли”: “Вали меня в грязь, / Топчи мне лицо, / Плюй на меня / И зови подлецом…” Если петь эту песню, подражая Элвису, нужно выкрикивать ее слова с некоторой злобой, как сегодня исполняют рэп, и мне пришлось глупейшим образом оправдываться, чтобы убедить моего отца, что со мной не случилось никакого припадка и что синдромом Туретта я не страдаю.
Итак, я боготворил Элвиса и твердо верил в существование некоего обобщенного создателя. Каков же был мой восторг, когда однажды, проходя мимо витрины магазина у себя в Чиппинг-Нортоне, я увидел там пластинку под названием Peace in the Valley, на которой одной из композиций была песня “Я верю”. Я был просто потрясен. Элвис тоже верующий! Я немедленно ворвался в магазин и купил эту пластинку. Прибежав домой, я тут же включил проигрыватель и стал ее слушать. Как же мне понравилось то, что я услышал! Мой кумир пел о том, что всякий раз, когда он видит чудеса окружающей природы, это укрепляет его в религиозной вере. Да ведь это было именно то, что чувствовал я сам! То был явный знак свыше. Теперь я ума не приложу, почему меня так поразила религиозность Элвиса. Он вырос в семье простых работяг из южных штатов. С чего бы ему быть неверующим? Но тогда я пребывал в изумлении и даже отчасти верил, что этой неожиданно встреченной песней Элвис обращался лично ко мне, агитируя меня посвятить свою жизнь тому, чтобы рассказывать людям о боге-создателе всей природы, а для этого лучше всего было бы стать биологом, как мой отец. Мне казалось, что это мое призвание, и призвал меня не кто иной, как Элвис, которого я считал полубогом.
Я не вижу причин гордиться этим периодом истовой религиозности и рад сообщить, что продлился он недолго. Вскоре я начал понимать, что открытый Дарвином механизм эволюции – убедительная альтернатива моему богу-создателю как обоснованию красоты и кажущегося замысла живой природы. Об этом механизме мне первым рассказал отец, но поначалу – хотя я и понял лежащий в основе этого механизма принцип – мне представлялось, что он не все позволяет объяснить. Я был предубежден против дарвиновской теории под влиянием прочитанного в школьной библиотеке предисловия Бернарда Шоу к его циклу пьес “Назад к Мафусаилу”. В этом предисловии Шоу в свойственной ему красноречивой манере излагал свои сумбурные мысли, превознося ламаркизм (целенаправленную эволюцию) и понося дарвинизм (эволюцию механистическую), и благодаря его красноречию сумбур показался мне убедительным. В течение некоторого времени я сомневался в достаточности естественного отбора для объяснения всего, что он призван объяснить. Но затем один мой друг (из тех двух, вместе с которыми я впоследствии отказывался становиться на колени в церкви; кстати, ни тот ни другой не стал биологом) сумел разъяснить мне идею Дарвина во всем ее блеске, и я отбросил последние остатки теистического легковерия. Мне тогда было, наверное, лет шестнадцать. Вскоре я стал убежденным и воинствующим атеистом.
Я уже говорил, что к моему нежеланию преклонять колени школьные учителя относились спокойно, как настоящие англикане, и не обращали на это внимания. Но все-таки некоторых из них, по крайней мере двоих, мое поведение задевало. Первым был Флосси Пейн, который в то время вел у нас английский. Мне запомнилось, как он разъезжал на своем велосипеде, гордо выпрямившись и держа над головой зонтик. На одном из уроков Флосси потребовал от меня объяснений по поводу бунта, который я устраиваю, не преклоняя колени в церкви и призывая к этому других. Должен признаться, что я не сумел постоять за себя как подобает. Вместо того чтобы воспользоваться случаем и действительно призвать своих одноклассников последовать моему примеру, я, жалко заикаясь, промямлил, что урок английского не место для таких дискуссий, и замкнулся в своей скорлупе.
Вторым был заведующий моим “домом”, Питер Линг (вообще-то, хороший человек, но немного конформист и большой традиционалист). Мне лишь недавно стало известно, что он звонил Йоану Томасу, нашему учителю зоологии, и выражал ему свою озабоченность моим поведением. Об этом случае я узнал из письма мистера Томаса, который сообщил мне, что тогда заявил мистеру Лингу следующее: “Заставлять такого ученика по воскресеньям дважды ходить в церковь значит причинять ему несомненный вред”. Далее в письме говорилось, что вместо ответа заведующий повесил трубку.
Кроме того, мистер Линг однажды вызвал моих родителей, чтобы по душам поговорить с ними за чаем о моем вызывающем поведении в церкви. В то время я ничего об этом не знал: моя мать поведала мне эту историю буквально на днях. Мистер Линг просил моих родителей попытаться убедить меня исправиться. Отец ответил примерно следующее (по воспоминаниям матери): “Мы не вправе на него давить, такого рода заботы – это ваши проблемы, поэтому боюсь, что не могу выполнить вашу просьбу”. Мои родители относились ко всей этой истории как к чему-то не стоящему внимания.
Как я уже сказал, мистер Линг был по-своему неплохим человеком. Мой старый друг по “дому” недавно рассказал мне следующую милую историю. Однажды днем он в нарушение правил находился в спальне и целовался там с одной из горничных. Услышав тяжелые шаги на лестнице, молодые люди запаниковали, и мой друг спешно подсадил девушку на подоконник и задернул шторы, чтобы ее не было видно. В комнату вошел мистер Линг – и наверняка заметил, что шторы задернуты только на одном окне. Хуже того, к своему ужасу, мой друг увидел, что ступни девушки отчетливо оттопыривают штору. Он был твердо уверен, что мистер Линг обо всем догадался, но сделал вид, что ничего не заметил, – наверное, из тех соображений, что “мальчишки есть мальчишки”: “Что это ты делаешь в спальне в такой час?” – “Просто зашел сменить носки, сэр”. – “Ну что ж, не задерживайся здесь”. Достойный поступок со стороны мистера Линга! Впоследствии мой друг стал, пожалуй, самым успешным выпускником Аундла своего поколения, был посвящен в рыцари, возглавил одну из крупнейших в мире международных корпораций и щедро поддерживал школу, учредив, в частности, стипендию имени Питера Линга.
Директор большой школы – фигура далекая и грозная. Сутулый Гас Стейнфорт преподавал у меня богословие в течение только одного семестра, но мы его смертельно боялись. Он заставлял нас читать “Путешествие Пилигрима”[81], а затем изображать на рисунках, что каждый из нас вынес из этой довольно неприятной книги. Проработав директором Аундла только половину предполагаемого срока, Гас покинул школу, чтобы возглавить колледж Веллингтона, где он сам некогда учился, а новым директором Аундла стал Дик Найт – крупный, спортивный человек, завоевавший наше уважение своей способностью выбивать мяч за пределы поля (в свое время он играл в крикет за Уилтширский клуб) и совместным пением с теми, кто не состоял ни в каком хоре, на ежегодном исполнении оратории. У него был большой старинный “роллс-ройс” – двадцатых годов, насколько я могу судить по его впечатляющим вертикальным линиям, так не похожим на плавные очертания моделей следующих десятилетий. Так случилось, что он приехал по делу в Оксфорд в то самое время, когда мы с одним моим другом сдавали вступительные экзамены и проходили собеседования в выбранных нами колледжах. Узнав об этом, мистер и миссис Найт любезно предложили подвезти нас обратно до Аундла на своем старом “роллс-ройсе”, и по дороге мистер Найт тактично поднял тему моего бунта против христианства. Для меня было настоящим откровением, что среди христиан есть такие приятные, человечные и умные люди, воплощающие в себе англиканскую толерантность в лучших ее проявлениях. Кажется, он искренне интересовался мотивами, которыми я руководствовался, и совершенно не был склонен меня осуждать. Много лет спустя я ничуть не удивился, когда узнал из его некролога, что мистер Найт, который в молодости был не только известным спортсменом, но и выдающимся специалистом по Античности, после выхода на пенсию учился в Открытом университете математике и получил соответствующий диплом. Сэндерсон был бы от него в восторге.
Мои отец и дед даже не рассматривали для меня возможности учиться после окончания Аундла где-либо, кроме оксфордского Баллиол-колледжа. В то время Баллиол по-прежнему сохранял репутацию лучшего колледжа в Оксфорде. Он занимал одно из первых мест в университете по результатам экзаменов и славился великолепным набором выдающихся выпускников: писателей, ученых и государственных деятелей, в том числе премьер-министров и президентов многих стран мира. Мои родители договорились о встрече с Йоаном Томасом, чтобы узнать, что он думает о моих шансах. Мистер Томас реалистично оценивал мои возможности и был откровенен: “Ну, может быть, он и умудрится попасть в Оксфорд, но Баллиол ему, наверное, не по зубам”.
Хотя мистер Томас и сомневался, что у меня достаточно способностей для поступления в Баллиол, этот замечательный учитель был твердо уверен, что мне стоит попытаться. По вечерам я регулярно ходил к нему домой на дополнительные занятия (разумеется, бесплатные: он был не из тех учителей, кто берет за это деньги), и в итоге меня каким-то чудом все-таки взяли в Баллиол. Но главное было не то, что я поступил именно в Баллиол, а то, что я поступил в Оксфорд. Прежде всего именно благодаря Оксфорду я и стал тем, кем стал.
“Дремлющие шпили” Оксфорда
– Мистер Докинз? Распишитесь здесь, сэр. Помню трех ваших братьев, один из них был прекрасным крайним нападающим. А вы не играете в регби, сэр?
– Нет, боюсь, что нет, и, э-э-э, вообще-то, у меня никогда не было братьев. Вы, наверное, имеете в виду моего отца и двух моих дядьев.
– Да, сэр, прекрасные молодые люди, распишитесь здесь, пожалуйста. Ваша комната – номер три, одиннадцатая лестница, ваш сосед – мистер Джонс. Кто следующий?
Может быть, не слово в слово, но примерно так звучал этот разговор. Я не догадался сразу его записать. Привратник Баллиол-колледжа носил, как положено, шляпу-котелок и смотрел на жизнь так, как с незапамятных времен заведено у людей его профессии. Юные джентльмены приходят и уходят, а колледж остается на века. И правда, в те годы, когда я учился в Баллиоле, колледж отпраздновал свое семисотлетие. Говоря о славной старинной профессии университетского привратника, я не могу не вспомнить историю, которую мне недавно рассказал главный привратник моего последнего места работы – Нового колледжа (хотя новым он был в 1379 году). Один неопытный новоиспеченный привратник еще не разобрался, как вести книгу происшествий и зачем она нужна. Вот какие записи (приблизительно – за подробности я не ручаюсь) он оставил в этой книге за вечер своего первого ночного дежурства:
20:00. Дождь.
21:00. По-прежнему дождь.
22:00. Дождь усиливается.
23:00. Дождь продолжает усиливаться. Слыхал, как он стучал мне в котелок, покуда делал обход.
Здесь я должен объяснить, как устроен Оксфордский университет. Он представляет собой федерацию колледжей. Баллиол-колледж – один из трех, которые считаются старейшими. Здания всех старых колледжей стоят по периметру четырехугольных дворов. В этих красивых старинных зданиях, в отличие от современных общежитий и гостиниц, обычно нет длинных коридоров, вдоль которых располагаются комнаты. Вместо этого в них есть множество лестниц, по которым можно пройти в комнаты, расположенные на площадках четырех или пяти этажей. С каждой лестницы во двор ведет отдельная дверь, и каждая комната обозначается номером лестницы и своим порядковым номером на данной лестнице. Чтобы зайти в гости к соседу, обычно приходится спускаться во двор и заходить через отдельную дверь на другую лестницу. В мое время на каждой лестнице была ванная комната, так что нам не приходилось в любую погоду выходить во двор в халатах. Теперь ванные есть при большинстве комнат, что мой отец назвал бы “порядками для жутких молли” (неженок, нюнь). Подозреваю, что их установили не столько ради студентов, сколько ради участников конференций, под которые все оксфордские и кембриджские колледжи сдают свои помещения во время каникул.
Колледжи как в Оксфорде, так и в Кембридже обладают финансовой автономией и самоуправлением. Некоторые из них, такие как Сент-Джонс-колледж в Оксфорде и Тринити-колледж в Кембридже, очень богаты. Кстати, кембриджский Тринити-колледж исключительно богат не только деньгами, но и достижениями. На его счету больше Нобелевских премий, чем у любой страны мира, кроме США, Великобритании (разумеется), Германии и Франции. Оксфордский университет может похвастаться тем же, но до кембриджского Тринити далеко всем оксфордским колледжам, даже Баллиолу, который среди оксфордских колледжей занимает по нобелевским лауреатам первое место. Кстати, я недавно осознал, что мой отец – один из немногих людей, учившихся как в оксфордском Баллиол-колледже, так и в кембриджском Тринити-колледже.
Для отношений между университетом и колледжами и в Кембридже, и в Оксфорде характерна такая же тревожная натянутость, как для отношений между федеральным правительством и правительствами штатов в США. Развитие естественных наук увеличило власть и значение “федерального правительства” (университета), потому что занятие естественными науками – слишком смелое предприятие, чтобы каждый колледж мог справиться с ним по отдельности (хотя в XIX веке один или два колледжа пытались это делать). Естественно-научные отделения колледжей принадлежат университету, и главную роль в моей жизни в период обучения в Оксфорде играл не колледж, а отделение зоологии.
Тот привратник был, должно быть, одним из первых, обращавшихся ко мне “мистер Докинз” (и тем более “сэр”) – как к взрослому, что было непривычно. По-моему, студенты моего поколения отличались довольно неловкими попытками выглядеть взрослее, чем были. Студентам следующих поколений была свойственна скорее обратная склонность: неряшливо одеваться, напяливать капюшон или бейсболку, свободно висящий рюкзак и иногда даже еще свободнее висящие джинсы. Но мое поколение предпочитало носить твидовые пиджаки с кожаными вставками на локтях, элегантные жилеты, вельветовые брюки, шляпы трилби, усы и галстуки – иногда даже бабочки. Некоторые (я был не из их числа, несмотря на пример моего отца) придавали этому имиджу завершенность курением трубки. Быть может, подобным манерам способствовал тот факт, что многие из моих однокурсников были на два года старше меня: мои ровесники были чуть ли не первым послевоенным поколением, которое не призывали в армию. Те из нас, кто пришел в университет сразу после школы, в 1959 году были еще мальчишками, в то время как другие студенты, ходившие с нами на одни лекции, жившие с нами по соседству и обедавшие с нами в одной столовой, были уже мужчинами, отслужившими в армии. Возможно, это способствовало нашему стремлению поскорее повзрослеть, чтобы и нас принимали всерьез. Мы забросили Элвиса и слушали Баха или “Модерн Джаз Квартет”. Мы торжественно, с выражением читали друг другу стихи Китса, Одена и Марвелла. Подобные настроения тонко передал Цзян И в своей завораживающей книге “Молчаливый странник в Оксфорде”[82], относящейся к немного более ранней эпохе, где он с китайским изяществом описывает, как два первокурсника бегут вверх по лестнице у себя в колледже, перепрыгивая через ступеньки. Здесь автор с бесподобной проницательностью подмечает: “Я понял, что они первокурсники, потому что услышал, как один из них говорит другому: «Ты много читал Шелли?»”
Представлению о том, что армия делает из мальчишки мужчину, посвящена одна прелестная история. Ее герой – Морис Баура, легендарный директор Уодхэм-колледжа (о нем ходит столько анекдотов, что всех не пересказать, но этот особенно мил). Сразу после войны Баура проводил собеседование с неким поступавшим в колледж молодым человеком.
– Сэр, я должен признаться, что, пока был на войне, совсем забыл латынь. Я ни за что не сдам вступительный по латинскому.
– О, не беспокойтесь об этом, дорогой мой, война зачтется за латынь, война зачтется за латынь.
Мои старшие однокурсники, к 1959 году отслужившие в армии, не были в буквальном смысле закаленными в боях, как тот абитуриент, который проходил собеседование с Баурой, но они, несомненно, производили впечатление людей бывалых и взрослых и этим были непохожи на меня. Как было уже сказано выше, я полагаю, что мои сверстники, напоказ курившие трубку и носившие галстуки-бабочки и аккуратно подстриженные усы, пытались не ударить в грязь лицом перед теми, у кого за плечами был опыт военной службы. Прав ли я, подозревая, что сегодняшним студентам колледжей свойственно противоположное стремление, стремление казаться моложе, чем они есть? На доске объявлений колледжа в первый день учебного года нередко можно встретить что-нибудь вроде такой записки: “Первокурснички! Вам тоскливо? Не знаете, как быть? Скучаете по мамочке? Заходите к нам, попьем кофе и поболтаем. Мы вас любим”. Когда я поступал в колледж, подобного сюсюканья на доске объявлений нельзя было и вообразить! На ней скорее можно было встретить объявления, явно предназначенные для того, чтобы мы почувствовали, что попали в мир взрослых: “Не мог бы тот ‘джентльмен’, который ‘позаимствовал’ мой зонтик…”
Я решил специализироваться по биохимии. К счастью, наставник, проводивший со мной собеседование, добродушный Сэнди Огстон, который впоследствии стал главой оксфордского Тринити-колледжа, отказался взять меня на эту специальность (быть может, потому, что сам был биохимиком, и если бы он меня взял, ему пришлось бы меня учить) и вместо этого предложил мне специализироваться по зоологии. Я с благодарностью согласился, и оказалось, что это было совершенно правильное решение. Биохимия не смогла бы меня увлечь так, как зоология: доктор Огстон и правда был тем мудрым человеком, каким казался благодаря своей почтенной седой бороде.
В Баллиоле не было своего зоолога, поэтому меня направили на отделение зоологии к милейшему, общительному Питеру Брунету. Ему предстояло со мной заниматься самому или организовывать для меня занятия с другими преподавателями. Во время одного из первых занятий с доктором Брунетом произошел случай, который, вероятно, помог мне начать избавляться от школьного отношения к учебе и вырабатывать у себя университетское. Я задал доктору Брунету какой-то вопрос из области эмбриологии. “Я не знаю, – задумчиво ответил он, потягивая трубку. – Интересный вопрос. Я спрошу Фишберга и передам его ответ”. Доктор Фишберг был ведущим эмбриологом на отделении зоологии, поэтому этот ответ был вполне уместен. Но тогда реакция доктора Брунета произвела на меня такое впечатление, что я написал о ней своим родителям. Мой наставник не знал ответа на вопрос и собирался выяснить его у специалиста, а затем сообщить мне! Я почувствовал, что попал к серьезным людям.
Михаэль Фишберг был швейцарцем и говорил с сильным швейцарско-немецким акцентом. В своих лекциях он неоднократно упоминал какие-то “звякающие полосы” (tonk bars), и я думаю, что в своих конспектах большинство из нас писали именно так, пока наконец не увидели, как этот термин на самом деле пишется. Имелись в виду “язычковые полосы” (tongue bars), одна из структур, наблюдающаяся у эмбрионов на определенной стадии развития. В докторе Фишберге очень подкупало то, что за годы жизни в Оксфорде он так увлекся крикетом – нашим национальным видом спорта, – что даже основал команду отделения и стал ее капитаном. У него был весьма необычный стиль подачи мяча. В отличие от питчера в бейсболе, боулер в крикете должен держать руку прямо. Швырять изо всех сил строго запрещено: рука не должна сгибаться. Учитывая это ограничение, единственный способ придать мячу сколько-нибудь ощутимую скорость состоит в том, чтобы разбежаться и после этого подавать. Самым быстрым боулерам в мире, таким как грозный австралиец Джефф Томсон (Томмо), удавалось подавать мяч со скоростью 160 км/ч (сравнимой со скоростью подачи мяча питчером в бейсболе, где руку положено сгибать), и они добивались этого за счет очень быстрого разбега и верхней подачи прямой рукой, изящно замахиваясь на бегу. Доктор Фишберг подавал иначе. Он стоял неподвижно по стойке “смирно” лицом к бэтсмену, горизонтально поднимал прямую руку, чтобы хорошенько прицелиться в калитку, а потом делал один дуговидный взмах, в верхней точке которого отпускал мяч.
Я играл в крикет безнадежно плохо, но иногда, когда никого получше найти не удавалось, а игрок был до зарезу необходим, меня все-таки уговаривали играть за команду отделения зоологии. Тем не менее мне очень нравится смотреть игру в крикет. Я с увлечением наблюдаю за тем, какую стратегию использует капитан, размещая полевых игроков вокруг бэтсмена, подобно шахматисту, выставляющему свои фигуры вокруг короля. Лучшим игроком, которого мне довелось видеть на крикетном поле в Оксфордских университетских парках, был набоб княжества Патауди (Тигр) – капитан оксфордской сборной, учившийся со мной на одном курсе в Баллиоле. Как бэтсмен он был бесподобен и умел без труда обхитрить полевых игроков, отражая мяч. Но особенно сильное впечатление он производил на меня, когда сам выступал в роли полевого игрока. Однажды бэтсмен, удачно отразивший мяч, ожидал легкой пробежки, но тут увидел, что полевой игрок, бросившийся к мячу, был не кто иной, как Тигр Патауди, и что есть мочи завопил игроку собственной команды, чтобы тот вернулся на свою черту. К сожалению, Тигр впоследствии потерял глаз в автомобильной аварии, и ему пришлось обходиться монокулярным зрением, но и после этого он был настолько хорошим игроком, что стал капитаном сборной Индии.
Я уже сказал, что стал тем, кем стал, прежде всего благодаря Оксфорду, но точнее было бы сказать, что это произошло благодаря системе консультаций наставников, характерной для Оксфорда и Кембриджа. Оксфордская программа обучения зоологии помимо консультаций наставников включала лекции и лабораторные занятия, но они не особенно отличались от лекций и лабораторных занятий, которые можно посещать в любом другом университете. Некоторые лекции были хорошими, некоторые – плохими, но для меня это едва ли имело значение, потому что в то время я еще не понимал, зачем они вообще нужны. Явно не для усвоения информации; и не было никакого смысла делать то, что я делал (и что делают почти все студенты), а именно стараться очень подробно все записывать – ведь возможности думать уже не остается. Я лишь однажды воздержался от конспектирования, когда забыл ручку и у меня не хватило духу попросить сидевшую рядом девушку одолжить мне другую. (Девушки вызывали у меня благоговейный трепет, ведь я учился в школе для мальчиков, да и вообще отличался робостью, так что можете себе представить, учитывая, что я не смог даже попросить у девушки ручку, как часто я осмеливался приближаться к девушкам ради чего-либо более интересного.) Итак, на одной лекции я ничего не записывал и вместо этого думал. Это была не самая хорошая лекция, но я вынес из нее больше, чем из других (иные из которых были намного лучше), потому что из-за отсутствия ручки мне пришлось слушать и думать. Но мне недостало ума усвоить этот урок и воздержаться от конспектирования на дальнейших лекциях.
Считается, что конспекты нужны, чтобы их перечитывать, но я в свои записи больше ни разу не заглядывал и подозреваю, что большинство моих однокурсников поступали точно так же. Целью лекции должна быть не передача информации: для этого есть книги, библиотеки, а теперь еще и интернет. Лекция должна вдохновлять и заставлять думать. Слушая хорошего лектора, мы можем следить за тем, как он думает вслух, ищет нужную мысль и иногда ухватывает ее из воздуха, подобно знаменитому историку Алану Джону Персивалю Тейлору. Хороший лектор, думающий вслух, рассуждающий, размышляющий, перефразирующий для ясности, сомневающийся, а затем ловящий мысль, меняющий темп, делающий паузы, чтобы задуматься, может служить образцом для подражания и учить нас самих думать о том или ином предмете и передавать другим свою увлеченность им. Если же лектор монотонно сообщает сведения, как будто зачитывает их, то слушатели могли бы с равным успехом и сами их прочесть, например в книге, написанной им самим.
Когда я советую ничего не записывать, я немного утрирую. Если лектор выдает какую-то оригинальную мысль, которая вас поражает и заставляет задуматься, непременно запишите, что об этом стоит еще подумать или что-то разузнать. Но стремление записывать хотя бы часть каждого предложения, которое произносит лектор (а я стремился делать именно так), ничего не дает студенту и разлагающе действует на лектора. Вот и я, теперь сам читая лекции студентам, замечаю лишь макушки их голов, склоненных над тетрадками. Поэтому мне больше нравится читать публичные лекции, выступать перед широкой аудиторией, например на литературных фестивалях, в университетах в качестве приглашенного лектора, послушать которого студенты приходят по собственному желанию, а не потому, что этого требует их учебная программа. Во время таких выступлений лектор видит не склоненные головы и строчащие ручки, а живые лица, улыбающиеся, выражающие понимание – или непонимание. Читая лекции в Америке, я страшно злюсь, если узнаю, что какой-то профессор потребовал от своих студентов прийти на мою лекцию ради “кредитов” (зачетных единиц). Я и вообще-то не большой поклонник системы кредитов, а уж получение студентами кредитов за мои лекции я просто ненавижу.
Нико Тинберген, который впоследствии стал моим научным руководителем, вошел в мою жизнь как лектор, рассказывавший нам о моллюсках. Он объявил, что с этой группой его связывает только то, что ему нравятся устрицы, но на отделении зоологии была традиция более или менее случайным образом раздавать каждому лектору по одному типу животных, и он ничего против этого не имел. Из этих лекций мне запомнились быстрота, с которой Нико рисовал на доске, его низкий голос (на удивление низкий для такого маленького человека) и речь с акцентом, не сразу выдающим его голландское происхождение, а также доброжелательная улыбка (тогда она казалась мне отеческой, хотя он был намного моложе, чем я сейчас). На следующий год он снова читал нам лекции, на сей раз о поведении животных, и его отеческая улыбка делалась шире от восторга, который он питал к своему собственному предмету. Исследования, проводимые его группой в колонии чаек у деревушки Рейвенгласс в Камберленде, были в ту пору в самом разгаре, и меня совершенно очаровал показанный им фильм о том, как озерные чайки удаляют из гнезд скорлупу яиц. Мне особенно понравился его метод построения графиков: лежащие на песке шесты для палатки служили осями, а размещенные в определенных местах скорлупки – точками. Как это похоже на Нико! И как непохоже на PowerPoint!
После каждой лекции у нас был лабораторный практикум. У меня не было больших способностей к практической работе, а кроме того (таким уж я был молодым и незрелым), на практикуме противоположный пол отвлекал меня еще сильнее, чем на лекциях. По сути, только работа с наставниками и давала мне образование, и я до конца своих дней буду благодарен Оксфорду за этот уникальный подарок – уникальный потому, что по крайней мере в отношении естественно-научных предметов, по-моему, даже Кембридж здесь уступал Оксфорду. Часть I Кембриджского курса естественных наук, занимающая первые два года обучения в колледже, отличается похвальной широтой, но в результате не может дать студенту того радостного чувства, которое можно испытать в Оксфорде, сделавшись специалистом мирового уровня (если я и преувеличиваю, то не намного) в некоем наборе областей (разумеется, очень узких). Я описал эту систему в своем очерке, опубликованном в нескольких разных изданиях и вышедшем в окончательном виде в книге “Оксфордские консультации наставников: «Спасибо, что научили меня думать»”[83]. Дальнейшие абзацы частично заимствованы из этого очерка.
Я подчеркивал, что оксфордский курс не был “основанным на лекциях” в том смысле, в каком это можно сказать о курсах, нравящихся многим студентам, которым приятна уверенность, что на экзамене их могут спросить то и только то, о чем рассказывалось на лекциях. Когда я учился в колледже, экзаменаторы могли задавать любые вопросы из области зоологии. Единственным ограничением было негласное правило, что ни один экзамен не должен слишком уж отличаться от того, каким он был в прошлые годы. И работа с наставниками тоже не была “основанной на лекциях” (боюсь, что теперь происходит именно так): она была основана на зоологии.
Во время моего предпоследнего семестра в колледже Питеру Брунету удалось предоставить мне неоценимую возможность ходить на консультации к самому Нико Тинбергену. Поскольку доктор Тинберген один отвечал за все лекции по поведению животных, он вполне мог сделать эти консультации “основанными на лекциях”. Стоит ли говорить, что он поступил иначе? Каждую неделю я получал от него задание прочитать чью-либо диссертацию и написать по ней эссе, представляющее собой сочетание отзыва на эту диссертацию, обзора истории изучения ее предмета, предложений провести дальнейшие исследования в том же направлении и теоретического и философского обсуждения вопросов, поднимаемых этой диссертацией. Ни наставнику, ни студенту при этом и в голову не приходило задумываться о том, пригодится ли данное задание непосредственно для ответа на какой-либо экзаменационный вопрос.
В течение еще одного семестра Питер Брунет, сознавая, что мой интерес к биологии имеет больший уклон в философию, чем у него самого, организовал для меня консультации Артура Кейна – искрометной восходящей звезды отделения и будущего профессора зоологии в Манчестере, а затем в Ливерпуле. Его консультации тоже отнюдь не были основаны ни на каких лекциях из нашей учебной программы: он задавал мне читать книги исключительно по истории и философии. Мне самому нужно было разбираться в том, как все это связано с зоологией. Я так и делал, и мне это безумно нравилось. Я не хочу сказать, что мои юношеские эссе о философии биологии были хоть сколько-нибудь хороши (теперь я понимаю, что это не так), но я навсегда запомнил, с каким восторгом я их писал и как ощущал себя настоящим ученым, работая в библиотеке.
То же самое можно сказать и о моих эссе на основные темы нашей учебной программы, посвященные обычным зоологическим вопросам. Я уже не помню, была ли у нас лекция об амбулакральной системе морских звезд. Наверное, была, но решение моего наставника задать мне эссе на эту тему никак не было с нею связано. Эта тема осталась одной из многих высокоспециализированных тем, о которых я до сих пор что-то помню, по одной простой причине – что мне довелось писать на эти темы эссе. У морских звезд нет красной крови, зато есть замысловатый водопровод с морской водой – система особых сосудов, состоящая из кольца, окружающего центр тела, и ветвей, отходящих от этого кольца в каждый из пяти лучей. Эта уникальная гидравлическая система позволяет морской звезде управлять многими сотнями полых амбулакральных ножек, расположенных вдоль каждого луча. Каждая такая ножка заканчивается небольшой присоской, и скоординированные взмахи этих ножек позволяют морской звезде перемещаться по субстрату в том или ином направлении. При этом ножки движутся не в унисон, а в полуавтономном режиме, и при серьезных повреждениях окружающего рот нервного кольца амбулакральные ножки разных лучей могут потянуть звезду в противоположные стороны и разорвать ее надвое.
Я помню об амбулакральной системе морских звезд только основные факты, но факты – это не главное. Главное – как нас учили их находить. Мы не только штудировали учебник: мы шли в библиотеку и рылись в разных книгах, новых и старых, мы раскапывали по ссылкам исходные статьи, пока не становились чуть ли не специалистами мирового уровня по данной теме, насколько это возможно за одну неделю (в наши дни значительная часть подобной работы делается в интернете). Благодаря поощрению таких занятий на еженедельных консультациях мы не просто знакомились с амбулакральной системой морских звезд (или любой другой темой): я помню, что в течение той недели амбулакральная система не покидала меня ни днем, ни ночью. Стоило мне закрыть глаза, как перед ними маршировали, нащупывая дорогу, амбулакральные ножки, и, засыпая, я чувствовал, как у меня в мозгу, пульсируя, идет по гидравлической системе морская вода. Написание эссе было катарсисом, а следующая консультация – достойной наградой за все недельные труды. После этого начиналась новая неделя с новым волшебным пиром образов, которые предстояло вызвать из небытия в библиотеке. Мы получали образование… И я полагаю, что если чего-нибудь и стою как автор, то во многом именно благодаря этой еженедельной подготовке.
Наставником, по заданию которого я писал эссе об амбулакральных ножках, был Дэвид Николс, впоследствии ставший профессором зоологии в Эксетере. Еще одним замечательным наставником, оказавшим на меня как начинающего зоолога большое влияние, был Джон Карри, который позднее стал профессором зоологии в Йоркском университете. В частности, именно он познакомил меня со своим (а теперь и моим) излюбленным примером плохого “замысла” в строении животных – возвратным гортанным нервом. Я описал его в книге “Самое грандиозное шоу на Земле”: вместо того чтобы идти от мозга прямо к гортани, которую он иннервирует, этот нерв идет кружным путем (у жирафа длина этого пути поражает воображение), спускаясь вначале в грудь, делая там петлю вокруг одной большой артерии, а затем возвращаясь в шею, к гортани. Как разумный замысел это просто ужасно, но все становится на свои места, стоит нам забыть о замысле и рассмотреть это устройство в свете его эволюционной истории. У наших предков-рыб кратчайший путь для этого нерва лежал позади тогдашнего эквивалента той самой артерии, снабжавшего кровью одну из жабр. У рыб нет шеи. Но когда наши предки вышли на сушу, их шеи стали удлиняться, и артерия постепенно смещалась ближе к сердцу, крошечными эволюционными шажками удаляясь от мозга и гортани. Нерв нашим предкам пришлось тоже принять близко к сердцу (в буквальном смысле). Вначале его кружной путь был недлинным, но по ходу эволюции постепенно увеличивался, достигнув у современных жирафов протяженности в несколько метров. Всего несколько лет назад, участвуя в одной телепередаче, я удостоился чести ассистировать при препаровке этого замечательного нерва у жирафа, который, к сожалению, умер несколькими днями раньше.
Моим наставником по генетике был Роберт Крид, ученик эксцентричного эстета-женоненавистника Эдмунда Бриско Форда, который, в свою очередь, находился под сильным влиянием великого Рональда Эйлмера Фишера и научил нас всех преклоняться перед ним. Из консультаций Крида и лекций Форда я узнал, что гены влияют на организм не как отдельные единицы: действие каждого гена зависит от “фона”, образуемого другими генами, входящими в состав генома. Гены вносят изменения в действие друг друга. Впоследствии, когда я сам стал наставником, я придумал метафору, которую использовал, пытаясь объяснить это своим ученикам. Представим себе, что устройство организма – это имеющая некоторую форму простыня, более или менее горизонтально подвешенная на тысячах веревочек, которые привязаны к крючкам на потолке. Каждая веревочка – это один ген. Мутация в любом гене – это изменение натяжения одной веревочки. При этом (что особенно важно в данной метафоре) веревочки не висят отдельно, а сложным образом переплетены друг с другом. А значит, когда меняется натяжение одной веревочки (в одном гене происходит мутация), то одновременно меняется и натяжение всех остальных веревочек, с которыми она переплетена, и по всему их хитросплетению проходят волны, напоминающие эффект домино. В итоге форма простыни (устройство организма) определяется взаимодействием всех веревочек (генов), а не воздействием каждой из них на свою часть простыни. Организм не похож на схему разделки туши, каждая часть которой соответствует области действия отдельного гена. Каждый ген влияет на организм, взаимодействуя с другими генами. Эту метафору можно и усложнить, добавив влияние факторов среды (всего, кроме генов), тянущих переплетенные веревочки в стороны.
У упоминавшегося выше Артура Кейна я перенял неприятие модного в те времена повального увлечения нумерическими методами классификации, основанными на численных параметрах сходства и различия разных групп животных. У него же я перенял и восхищение способностью естественного отбора вырабатывать исключительно совершенные адаптации (вместе с тем не забывая и о таких важных и интересных исключениях, как вышеописанный возвратный гортанный нерв). Оба эти урока сделали меня еретиком в глазах тех, кто придерживается ортодоксальных взглядов, которые по-прежнему в чести среди зоологов. Кроме того, именно Артур научил меня реже использовать слово “банальный” (mere), на злоупотребление которым я с тех пор всегда обращаю внимание. “Люди – это не банальные мешки с химикалиями…” Ну разумеется, нет, но это утверждение не содержит ничего интересного, и слово “банальные” здесь лишнее. “Люди – это не банальные животные…” Разве это не тривиально? Какую нагрузку несет в этом предложении слово “банальные”? Да и так ли “банальны” животные? Сказать так значит не сказать ничего осмысленного. Если мы хотим произнести что-то осмысленное, нужно так и сделать, а не ходить вокруг да около.