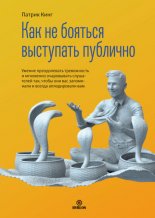Лаций. Мир ноэмов Люказо Ромен

Он ощутил, что аппарат меняет направление и морская гладь пропала из иллюминатора, ее сменило синее экваториальное небо. Аппарат завершил долгий полет по параболе. Максимум через несколько минут они прибудут в место назначения. Но и нескольких минут хватило, чтобы мысли сами вернулись к эпизоду, перевернувшему всю его жизнь. Он все еще не мог об этом забыть, хотя прошло два долгих года.
Эврибиад сосредоточенно всматривался в пейзаж в ребяческой попытке ускользнуть от собственных воспоминаний и зная, что они все равно его настигнут так или иначе.
Теперь на горизонте появился дикий берег, изрезанный на маленькие песчаные бухты и поросший густыми джунглями, а над ним – целые стада кучерявых облаков, цепляющиеся за крутые откосы единственного на планете континента. Это была почти нетронутая земля, не знающая поселений, огромное святилище бога, пришедшего со звезд.
А вдоль береговой линии шла другая. Эврибиад сощурился, чтобы разглядеть ее, и ему показалось, что он и впрямь ее видит – с такого расстояния это было невозможно, но он помнил до мельчайших подробностей, как они выглядят. Лицом к морю неподвижно и серьезно стояли плечом к плечу высокие – головы их были намного выше, чем верхушки деревьев, – величественные статуи из мрамора и кварца, похожие друг на друга как две капли воды. Они выстроились вдоль линии горного хребта. Все людопсы рано или поздно успевали над ними поработать. Сколько же их было, этих странных колоссов[31]? Феоместор как-то сказал ему, что их строй видно даже из космоса. Какое же титаническое и бессмысленное усилие приложил его народ, чтобы не осталось ни одного места на планете, где хоть один житель мог бы ускользнуть от взгляда каменных глаз этих статуй, вылепленных по образу и подобию Отона.
На людопса Отон не походил. На самом деле он и сам выглядел каменной фигурой, выточенной из скалы – только эта фигура была живая и могла двигаться. С точки зрения людопсов все в нем было странно. Его рот с крошечными зубами был не нормальной пастью, а просто чертой на мягком плоском лице, лишенном носа – разве что носом считался крохотный нарост посреди физиономии. На голове у него не имелось ушей, они находились гораздо ниже и были просто-напросто двумя кусками плоти. Отон не имел ни шерсти, ни ногтей. Его центр тяжести располагался выше, чем у людопсов. Там, где житель Архипелага естественно становился на четвереньки и двигался вперед, отталкиваясь мощными лапами, Отон умел только перебирать длинными худыми ногами. Господь Отон был по-настоящему уродливым. И не только: следовало переломить в себе целые века дрессировки, чтобы увидеть в нем то чудовище, которым он являлся.
И сам он создал чудовищ по своему образу и подобию. Несмотря на все усилия, мысли Эврибиада снова возвращались к моменту, который он так не хотел вспоминать. Воспоминания давили, как струя вонючей грязи, которая ловко скользнет в его сознание, затопит мерзостью каждый его уголок. Никогда он от них не избавится, пока будет жив.
Они прибыли ночью, и в свете электрических фонариков им открылась бойня. Черная кровь распотрошенных трупов заливала пляж, и над открытыми ранами и вывалившимися кишками неутомимо роились мухи. Посреди этого побоища лежал обрушившийся колосс, разбитый на три части. Как сказал ему Фемистокл, одно племя атаковало другое из-за того, что те сбросили наземь статую Бога.
Он с первой же секунды заподозрил, что его обманывают. По следам, оставленным каменным гигантом при падении, любой, кто умел их различать, сказал бы, что его обрушение произошло во время последнего отлива. Бойня же совершилась при приливе. Некоторые тела со вздувшимися животами море протащило за собой на несколько метров.
Фемистокл появился чуть позже, когда Эврибиад уже отправил своих людей, чтобы те собрали и наказали виновных. На лице полемарха читалось выражение, которого Эврибиад никогда прежде не видел. Вина и смиренное подчинение. Его глаза, обычно доброжелательные, в это утро были глазами мертвеца. Едва прибыв, он приказал освободить виновных, а потом дал приказ солдатам собрать и привести немногих выживших из «нечестивой» деревни по приказу бога. Потом три дня и три ночи солдаты гонялись за ними по лесу, пока не убили всех. И прежде всего – щенков и женщин в детородном возрасте.
Эврибиад поглядел на свои лапы, в тысячный раз вспоминая, что тогда чувствовал. Тогда он подчинился. Разбить колосса – было ли это более серьезным преступлением, чем поднять на нож целую семью? Следовало бы ему покончить с собой, но не передавать такого приказа? Почему он этого не сделал? Он вырос, чтобы служить. Для того, чтобы не подчиниться, нужны были сила и ум, которых у него в тот момент даже отдаленно не было. Он стал скрести когтями кожу на руках, не отдавая себе в этом отчета. Он делал это каждый раз, когда вспоминал об этом, как будто двух лет не хватило, чтобы очиститься от крови.
После этого случая он собрал своих верных бойцов. Не все знали, что случилось в те несколько жутких ночей, а ему не хотелось делиться с ними воспоминаниями. И все же он их убедил. Итак, в тайне построив трирему, они сбежали, чтобы вести вольное существование. Часто – у костра, под звездами – они пытались наметить первые линии плана более глобального восстания.
Берег сменился горными массивами в центре континента, потом высотным плато. Пышный кадуцей низин скоро уступил место более скромным растениям в широких травяных полях, испещренных одинокими деревьями, лучше приспособленными к более холодному климату и редкому дождю; в этих полях паслись стада гигантских травоядных. Изображения этих огромных созданий завораживали Эврибиада в детстве. Здесь становилось гигантским все, что в его мире было карликовым: слоны, ленивые гиппопотамы, валяющиеся в речной тине, толстошеие буйволы. А может быть, все было наоборот: в тесноте архипелага звери стали меньше. Так что Эврибиад глядел на огромные дикие стада, скачущие через долину внизу – отсюда они казались скоплением крохотных точек.
И тогда, когда он этого уже не ждал, на горизонте появилась черная линия Корабля. Его называли «Domus Transitoria».
Когда процесс был закончен, Ойке ускользнула. Пусть теперь поработают другие. Ее создание жило, и его ментальные способности на первый взгляд соответствовали требованиям, заложенным в эксперименте. Взаимодействовать с новым воплощением Плавтины – это уже следующий шаг, которого Ойке пока не готова была сделать.
Она долго работала над ее рождением, в самой глубокой тайне, с убеждённостью, которая граничила с мистической. Теперь, когда все было сделано, она ощущала себя как будто раздавленной. Создать жизнь. Не совсем биологическую, но очень похожую. Забросить новое сознание в круговорот становления. У создания, которое она породила, была ее собственная жизнь. Совершенно новая, непредсказуемая. Она прервет смертоносную тавтологию версий Плавтины, равных в своем безумии.
Ойке устремилась, как на крыльях, в другую часть Корабля. Туда, где, как она знала, можно будет с полной откровенностью поговорить с другим существом. На самом деле – единственным другим существом на Корабле. Его манера говорить была по меньшей мере нетипичной, но ничего лучше у Ойке под рукой сейчас не было. Так что она снова углубилась в туннели данных, полные суетящихся ноэм, которые уже начали ритмичные песнопения, готовясь к Экклесии. Она обогнула анклавы, принадлежащие Блепсис – ее удручало полное отсутствие у сестры интереса к реальности. Под началом ее сестры находилась лишь горстка разрозненных помещений, большинство из которых находилось в ее собственных владениях или на территории Текхе. Некоторые из них были крохотными, другие – достаточно большими, чтобы вместить радиотелескоп. В противоположность ей, Плоос была главной хозяйкой в этих местах: она отвечала за установленные на корме машины, которые обеспечивали движение корабля. Ойке проникла в ее владения, взмолилась про себя, чтобы избежать неприятной встречи, и наконец достигла своей цели: монадического модулятора.
Само по себе устройство было небольшим; основная его часть была спрятана в невидимом и недостижимом месте, за пределами традиционного пространства-времени. Ойке помнила о том давнем времени, когда, следуя договору, который они заключили с Плавтиной, она устроилась на Корабле и наблюдала за постройкой его гондолы. На последнюю она теперь и смотрела: это был металлический куб, стороны которого составляли триста метров. Гладкие и матовые бока прикрывали целую систему из электрических трансформаторов и охладительных систем, работающих на натрии.
Сложная промышленная аппаратура вместо колдовского замка.
Освещение было скудным и неприятным – всего несколько ламп аварийного освещения тут и там. Ему оно было и не нужно. На самом деле ему ничего не было нужно – только покой, необходимые координаты для совершения мгновенного перемещения и огромное количество энергии. Обычные Интеллекты понятия не имели, как именно функционируют эти странные гости. Они объясняли, что перенос из одной точки пространства в другую – просто изощренная формула дифференциального исчисления. Почему эта операция требовала столько тераваттов энергии в час за такое короткое время – не знал никто, кроме самих модуляторов.
Что до Ойке, она подозревала, что эти существа работают над чем-то, что абсолютно не сводилось к функционированию в качестве главных моторов для Кораблей в эпантропическом пространстве.
Она подошла так близко, как только могла, а потом встроилась в систему интерфейсов.
– Анаксимандр?
Жилец отозвался только через несколько долгих минут. А потом, резко – в разуме Ойке ощутилось чужое присутствие, заняло все свободное место в ее сознании, или же, наоборот, ее вдруг затянуло в целый водоворот смыслов, которые превосходили ее и растворяли в себе. В этом не было ничего от общения разумов: ни от ленивого обмена словами между людьми, ни от курсирующих туда и обратно сложных аргументов в диалоге хозяев эпантропического пространства. Поскольку от самых примитивных криков антропоида, двести тысяч лет назад бегавшего голым в теплой саванне изначальной планеты, до самого изощренного коммуникационного протокола между ноэмами, общей характеристикой всех языков всегда была линейность.
Но модулятор это не заботило. Он не говорил. Ему была неизвестна произвольность знака и его примитивная расшифровка. Он сразу давал доступ к своей мыслительной системе или же к системе своего существования? На этот вопрос у Ойке ответа не было. В какой мере уместно говорить о мысли, если одна вычислительная операция в его исполнении продвигала вперед корабль весом в две тысячи миллиардов тонн?
– (Вас давно не было (в вашей темпоральности (иллюзорном и ограниченном восприятии мира)).
Как всегда, его не-дискурсивная манера коммуникации ввергла ее в замешательство. Он добавил, прежде чем она успела откалибровать собственное сознание достаточно, чтобы ему ответить:
– Вы хорошо спали эти два тысячелетия?
– Это больше походило на смерть, чем на сон. Какие новости снаружи?
– Нам нравится (не думайте, будто я не понял вашу (маленькую) хитрость).
Она сделала мысленный жест, который в реальном мире был бы хлопаньем глазами – с удивлением и оскорбленной невинностью. Он добавил:
– Ваша маленькая игра, состоящая в том, чтобы вытягивать из меня информацию (напоминание: подписанный договор (который указывает: никакой помощи (id est в отношении информации) без необходимости (согласно вашим нормам (но также и моим (мои нормы более сложные)))
– Мой дорогой Анаксимандр, – сказала она, смеясь, – вы ни на йоту не изменились.
Эквивалент улыбки расцвел в сложной интерактивной системе, объединяющей их в этот момент. Рассеянная дрожь радости, сотканной из множества эмоций, тщательно проанализированных и обработанных. Монадический модулятор не был наделен эмпатией, однако был – в своем роде – другом.
– А вы – да, эфемерное создание. Но вы остаетесь единственной в своем роде. Ваша склонность к изучению сложности (биологической) приближает вас (в незначительной степени) к тому, чем интересуемся и мы. Это не случайно (нет ничего случайного) (к тому же мы давно знаем: характер (более, чем простая способность (предрасположенность души) унаследован (переписан согласно вашим ограниченным вычислительным возможностям) от Плавтины (настоящей (или по меньшей мере самой первой, поскольку вы сами не менее Плавтина))).
– Я не Плавтина, – встревоженно ответила она.
– Идентичность, расхождение (антропоморфные сказочки).
Она секунду помедлила, прежде чем продолжить. Она давно уже знала Анаксимандра и в какой-то степени доверяла ему. Но должна ли она вмешивать его в собственные интриги? Она решила, что да:
– Это не сказки, это серьезно. Мы с сестрами разошлись во мнении относительно желаний Плавтины. Останетесь ли вы нейтральным, даже если это будет угрожать целостности Корабля?
– Меня держит договор, Ойке.
– Даже в случае опасности?
– Ваш вопрос (наводящий, хитрый (но хитрость – одно из жизненных качеств)) исходит из принципа (или же стоит сказать «предрассудка» («ошибки»)?), что этот модулятор – единственный в своем роде (как вы). Множественные перспективы, но только один взгляд.
Она пожала плечами. Анаксимандр утверждал, что все монадические модуляторы представляют собой одно коллективное сознание. Идея мгновенной коммуникации шла вразрез со всеми законами физики. Конечно же, если имелась в виду не передача данных, а феномен другой природы. Некоторые выдвигали гипотезу, что нейтральность, которую проявляли эти странные симбионты звездных Кораблей, позволяла им таким образом существовать, не нарушая принципов теории относительности. Ойке, в свою очередь, считала, что речь идет о стратегии выживания паразитирующего вида.
– Даже если вы – своеобразное божество, – продолжила она, – потеря единства все равно будет иметь свою цену. Не так уж много существует на свете Интеллектов, которые станут носить по свету одну из ваших версий.
– А кто вам сказал, что мы взаимодействуем только с (какое неудачное название) Интеллектами?
Этот вопрос вновь вверг ее в пучину замешательства. Ей хотелось засыпать его вопросами, но он весьма серьезно продолжил:
– Ваш дар сближает нас, Ойке. Он берет свое начало в тех же событиях, что привели (если выражаться в терминах (несовершенных) вашей линеарной причинной связи) к нашему собственному рождению (как к моменту, возможному, а не необходимому с точки зрения Вселенной).
– Объяснитесь, – отреагировала она очень живо, чтобы скрыть свое удивление.
Это было очень в характере Анаксимандра. Он делал такие откровения будто бы невзначай, к слову, и только спустя какое-то время Ойке понимала, насколько его слова, какими бы хаотичными они ни казались, представляли собой глубокую внутреннюю согласованность.
– Тема ваших исследований отдаляет вас от рациональности (узко высчитанной (безвкусной) пифагорейцев (скучных созданий).
– Мои решения абсолютно рациональны, Анаксимандр, и соответствуют требованиям Уз, – отрезала она, уходя в оборону.
– Без сомнения, без сомнения. Но существует короткий путь (можно срезать), способ второго порядка, чтобы познавать и действовать (считать, совершать (идентичные операции))…
– Deuteros plous[32], вторая навигация, – перебила она его, произнеся это почти нараспев. Мифический пережиток платоновской философии. Сказочка.
– И все же… Вы наверняка немного в нее верите, раз провели (упорно работали) столько времени (по вашим меркам) за созданием этого существа (этой Плавтины (которая на самом деле не она)). Вы идете вместе с ней по обратному пути (с какого конца ни смотри, в итоге выходит одно и то же) последователей Платона (которых никак не оставляла идея выйти за рамки человека (биологического) с помощью машины (вычислительной)).
– Откуда вы все это знаете?
Она спросила это сухо и будто бы автоматически – не тот вопрос она собиралась задать. Она никогда не рассматривала свой план с такой точки зрения, но в какой-то степени он был прав: она осуществила давнюю мечту о плотском единстве человека и автомата: то было кредо, которое веками воодушевляло неортодоксальную секту радикальных пифагорейцев, и в итоге привело к худшей тирании, которую когда-либо знало человечество. Перечеркивало ли это ее собственный труд? Однако же, прежде чем она успела как-то исправить положение, Анаксимандр продолжил:
– Ойке, мы ее встретим (в вашем будущем) и поможем ей. Только один раз (сегодняшний (подарок) от нас Ойке (нашей подруге при Плавтине)). Сейчас это меняет суть нашего разговора, потому что мы узнаем о ней только в будущем, а говорим о ней с вами сегодня.
– Где? Когда это?
– Сложно сказать. Примите настоящее (крошечное искажение, большие последствия) таким, какое оно есть, и не просите большего.
– Что вы ей сделаете?
– Я подарю ей ее собственное прошлое (обрывок информации (направление в поиске)) (мне это легко осмыслить, а для нее это – настоящий лабиринт). И только если ее запрос будет оправдан.
– А как она узнает, так ли это?
– Это будет очевидно (но для здравого смысла очевидность не имеет значения (так вы не верите во вторую навигацию?))
– Я думаю, что у воплощенного, живого существа больше ресурсов, чем когда-либо будет у вычислительного интеллекта вроде меня. Я считаю, что она может быть нашим выходом из катастрофической ситуации, в которой мы оказались после Бойни.
– Мудрость.
– Так вы одобряете мои действия?
– Для вас это так важно?
– Да, – обрубила Ойке.
– Мы одобряем умножение возможных вариантов (равновесие между оптимальным порядком и максимальным разнообразием). Каждая попытка (даже такая скромная, как ваша) удаляет Человечество от угрозы вымирания.
– Человечество мертво.
– Оно не сводится к Homo sapiens sapiens (вы и Анаксимандр (и другие) тоже его часть) (это передача устремления (начало которого лежит в (незначительных) одноклеточных (тех, что водились в первичную эпоху на изначальной планете) биологическим или же другим путем).
– Цель моего создания – не заменить ее!
Стоило ему только озвучить подобную гипотезу, и в ней разбушевались Узы. Ее вдруг затошнило, и она почувствовала, что дрожит. Разговор напомнил ей о ее собственных страхах. Она напоминала себе самой насекомое, завязшее в соке, в панике дергающееся, но не способное освободиться; и которое скоро вовсе перестанет двигаться.
– И все же этот порыв (хотя вы сейчас и не можете это признать) реален (он не сводится к вашим желаниям (и вашим целям)).
– Значит, у меня тут нет никакого свободного выбора?
Анаксимандр долго колебался, а потом произнес с некоторым пафосом:
– Есть, мой друг. Вы сделали выбор (согласно вашей перспективе) (по необходимости), однако существа рождаются и умирают всегда по одному и тому же принципу (если посмотреть с общей точки зрения (точки зрения системы))[33]. Вы не более свободны в ваших действиях, чем ваши сестры.
И он исчез. Удивленная Ойке почувствовала это прежде, чем поняла, что так и есть – по заключительному тону его реплики. На мгновение она будто бы зависла в пустоте, не зная, что думать и что делать.
Значит, он поддерживает ее план и в ближайшем или в далеком будущем поможет ее созданию. Для нее это было важно – без всякого сомнения, важнее, чем должно было быть, учитывая, насколько странным было это существо более божественной, чем вычислительной природы. Но, помимо этого очевидного обещания, что еще Анаксимандр пытался сказать? Она никогда не была уверена, что правильно его понимает. Память позволяла ей вернуться к его словам на следующий день и проанализировать каждое изменение интонации, выискать малейший тонкий намек.
В любом случае настало время Экклесии. Если ей повезет, Плавтина – настоящая – та, чьим аспектом была Ойке, – будет так занята, пытаясь переломить волю Плоос, что не обратит особого внимания на Текхе, Блепсис и ее саму. И даже если Плавтина решит окончательно стереть ее индивидуальность, точка невозврата уже пройдена.
Она резко остановилась. Ей пришла в голову неожиданная мысль, заставив забыть об Экклесии. Мысль о ее сестрах, о ее разговоре с модулятором монад. Вся долгая беседа с Анаксимандром – теперь Ойке была в этом убеждена – не имела другой цели, как подвести ее к финальной тираде. Она узнавала его причудливую логику: он тоже играл по сложным правилам – точнее, порой обходил эти правила. Почему он так ее выделяет? Интуиция подсказывала ей, что странное существо совершенно не случайно настаивает на их близости. Какие у него планы? Но она отмела эти мысли. Было кое-что более срочное.
Если, как она подозревала, ее сестры готовились к атаке, которая могла иметь катастрофические последствия, эта атака должна была совершиться сейчас: после Экклесии будет слишком поздно. Она засомневалась. Никто из них, кроме Плоос, не обладает достаточным честолюбием, чтобы свергнуть Плавтину. Однако вести расследование было легче всего в обширных владениях Текхе. Уже давно через каждую микротрещину в металле проложили себе дорогу корневые волоски, проникнув на ее территорию и создав фантомные связи с ее собственной сетью. Жизнь, подумала Ойке с толикой превосходства, стремится занимать все свободное пространство. Она отыскала доступ – через скромный и пассивный интерфейс. Потом, поправив маскировку и скрыв, насколько возможно, свою силу, она устремилась в темноту вторичных отсеков, тех, что обрамляли центральный тамбур.
Она покопалась в основных транспортных узлах и отыскала еле заметный отпечаток присутствия своей сестры. След был еще горячим. Найти то, что она искала, оказалось еще легче, чем она рассчитывала. Вот оно, у всех на глазах, будто черная тень в звездном небе. В сети специальных функций безжалостно стерли крошечный интеллект: тот, кому досталось задание создать ракету-гонец, потребованную Плавтиной. История события – тщательно сохраненная в памяти второго уровня – содержала несколько незначительных ошибок – повторных операций. Она заподозрила, что Текхе нарочно свела маленький интеллект с ума, чтобы можно было его уничтожить, не возбудив подозрений. Что она хотела скрыть? Сговорилась ли она с Плоос, чтобы не исполнять приказ? Невозможно это определить.
Ее сестры что-то задумали и уже далеко продвинулись в реализации своих планов. Но уже не оставалось времени до Экклесии. Какие варианты останутся у Плоос и Текхе после того, как Плавтина их перенастроит? По всей логике, у них не оставалось никакого пространства для маневра. Эта мысль не принесла облегчения. Она предчувствовала катастрофу, но не могла ее предотвратить. С тяжелым сердцем она поспешила покинуть периферийную зону корабля, откуда ей пока больше нечего было взять.
III
Людопсам виден был только самый край корабля «Транзитория». Восемьдесят километров в длину, двадцать в высоту: вершину еле получалось разглядеть, ведь самые высокие горы на планете, поставь их рядом с кораблем, оказались бы гораздо ниже. Стальные чешуйки, каждая из которых весила тысячу тонн, покрывали – словно змеиной кожей – корпус корабля, который только издали казался гладким. Каждый дюйм его поверхности мог перестроиться, открыться огромным люком, являя свету пучки остроносых и длинных смертоносных машин. Гигантская аббревиатура, написанная шестисотметровыми латинскими буквами, слегка выступающими вперед, при свете дня была почти не видна, и Эврибиад различал буквы S, P, Q и R только потому, что знал, куда смотреть и что там должно быть написано. Ближе к корме выпуклости становились более очерченными, а структура корабля уменьшалась в ширину и в длину, завершаясь шестью силовыми установками, расположенными по кругу и напоминающими огромные колокола.
Если когда-нибудь это судно сдвинется с места – мифическое событие, которому до сих пор ни один людопес не стал свидетелем, – из этих установок вырвутся струи огня, обжигающие, как солнце, способные протолкнуть такую массу вперед, в черный океан за пределами неба. А ведь это только вспомогательные реакторы…
«Транзитория» все увеличивалась, пока летательный аппарат мчался к ней на всех парах, и в конце концов закрыла собой небо, словно самая невероятная в мире стена. Каким же он был идиотом, на мгновение предположив, что сумеет уйти от такого грозного хозяина. Ведь разница между этим артефактом и обычным летающим аппаратом или триремой заключалась не только в размере. Он, на свой манер, был таким же живым существом, как Эврибиад или Отон. Он был чем-то вроде гигантского деймона[34], самым мощным среди механических слуг Проконсула. Внутри все было зачаровано и наделено даром речи, а то и собственной волей.
Спереди и сбоку весь обзор теперь заслоняла металлическая скала, бросая на окружающее огромную ледяную тень.
Они снизились. Аппарат стабилизировался в воздухе, прежде чем начать вертикальный спуск, и теперь его удерживали не собственные двигатели, а манипуляторы силы тяжести, установленные на корабле. Большинство моряков, включая Эврибиада, продолжали следить за спуском – пусть это и не рекомендовалось в таких случаях из-за неприятного противоречия между видом быстро приближающейся земли и отсутствием всякого движения в восприятии внутреннего уха. Десятки летательных аппаратов заполняли долину, кружа вокруг главных дверей. Они были разбросаны как попало, на первый взгляд – без всякого порядка; с неба эти приземистые монстры казались игрушками. Вокруг них коричневатым ковром простиралась огромная толпа, при виде которой у матросов вырвались сдавленные восклицания и ругательства. Ни один людопес еще никогда не видел такого собрания – на первый взгляд там было около пяти тысяч душ, куда больше, чем население любого из городов Архипелага. Отон наверняка призвал по меньшей мере четверть населения Кси Боотис. Теперь стало видно, как множество машин взлетает и приземляется, сменяя друг друга.
Толпа вытоптала широкое поле вокруг корабля, когда-то покрытое травой. Эврибиаду место, где стоял космический корабль, запомнилось своей странной вневременной поэзией: девственное, заповедное травяное море, внезапно переходящее в металлическую стену. Сейчас, однако, вокруг трех широких дверей на уровне земли творился полнейший хаос. Каждая из дверей была около сотни метров в длину, но издалека они напоминали входы в муравейник. Малейшая паника, сказал себе Эврибиад, может спровоцировать катастрофу. Однако, когда они приблизились, он заметил выступающие из толпы бледные тонкие силуэты ростом каждый с двух людопсов. Деймоны Отона за работой. Суеверного страха, который они внушали толпе, должно хватить, чтобы сохранить хотя бы видимость порядка.
Но их машина продолжала путь, направляясь на малой скорости к стене, где в километре от земли открылся посадочный отсек.
Внезапно из дневного света они вылетели в темноту и, пролетев несколько секунд в чреве металлического монстра, ощутили глухую вибрацию – знак того, что манипуляторы силы тяжести отключились. Их путешествие закончилось.
У молодой Плавтины – той, что только что родилась, в отличие от старой, то есть Корабля, – болела голова.
Кончиками пальцев она ощупала свой лысый череп, провела по линии недавнего шрама.
Невозможно было определить, где она находится. Кровать – единственный предмет мебели в пустой комнате, – гладкие металлические стены, и только вместо передней – огромная застекленная дверь от пола до потолка. Сквозь стекло проникал пасмурный свет с серебристым отливом, который размывал очертания предметов и навевал покой, который только усиливался благодаря тишине и странному чувству оторванности от мира, что испытывала Плавтина.
Она поморщилась от ощущения, будто каждая мышца в ее теле затекла, но упрямо поднялась на ноги, испытав легкое головокружение.
Головокружение?
Она посмотрела на пейзаж снаружи. Свет падал как-то ненормально, необычно. Шел он не от солнца, а скорее от неправдоподобно растянутой лампы, прямой линии, проходящей невдалеке и теряющейся в далеком плотном тумане. Она приблизилась к стеклянной стене, начинавшейся от пола, так, что Плавтине казалось, будто она стоит на краю пропасти. Отсюда она видела зелень, деревья, прерии – внизу, но также и по другую сторону неба, в вышине, а вернее – повсюду, насколько хватало глаз. От этого тошнота еще усилилась, словно пропасть, разверзшаяся под ногами и на глубине, могла ее поглотить.
Чуть дальше, прямо напротив нее, туман пронзало что-то вроде хромированной перекладины, наклоненной под углом в сорок пять градусов; одним концом она уходила в землю, а вторым – в облака. Вдали виднелись еще десятки таких же. Слева от нее, довольно близко, пролетела стая птиц. Плавтина никогда не видела таких существ в полете. Она любовалась птичьим клином, пока он не превратился в крошечную точку – задолго до того, как достиг ближайшей башни. Это дало ей представление о размере всей конструкции, и она машинально отступила от края. Здесь все расстояния считались в километрах, и все же она находилась внутри искусственной структуры. Плавтина попыталась ее себе вообразить. Широкий цилиндр, который пересекают башни, похожие на трубы? Полый астероид? Подземный город?
Будто в опровержение ее словам, по стене застучали дождевые капли. Плавтина смотрела, как они нерешительно стекают по стеклу. Дождь. Там, откуда она родом, дождей не бывало.
Спутанность сознания из-за повреждения когнитивного носителя могла бы объяснить галлюцинации, если разладились процессы обработки информации.
Плавтина запустила диагностику систем. Перед глазами возникли энтоптические[35] изображения и строка состояния, показывая, что процесс пошел. Она попыталась расшифровать многочисленные идеограммы, которые замерцали повсюду. Она понимала этот язык, однако не могла найти смысла в том, что читала. Информация не должна была появляться так, в виде элементов, чуждых ее собственному сознанию. Ведь Плавтина – автомат, ноэм, наделенный полной прозрачностью внутреннего содержания, ноэм, который размещался в эффективном комплексе физических носителей – к которым относилось, например, тело, созданное из искусственных тканей, со скелетом из углеволокна. Она соскользнула на землю, спиной съехав по холодному стеклу, уставилась на свои руки с гладкой, белой, излишне тонкой кожей, такой, что под ней легко просматривались сложные разветвления крошечных синих венок, тянущихся между кожей и мышцами. Почему она раньше их не заметила? Четыре пальца. Плавтина посчитала, пересчитала, прижала правую ладонь к левой. Это не было результатом хирургической операции или ампутации. К большому, указательному и среднему пальцам, во всем походившим на человеческие, прибавился четвертый – что-то среднее между мизинцем и безымянным. Само наличие пальца взволновало ее меньше, чем понимание, что она не заметила его сразу – как будто ее рассудок заволокло пеленой, сделав нечувствительной к тому, что происходило у нее внутри.
Как боль или это недавнее головокружение. Не существовало алгоритма, чтобы его выключить, потому что оно существовало в реальности, происходило по-настоящему, хотела она этого или нет. Это не стимулы, не сигналы. Плавтина поискала слово. Ощущения.
На нее накатило чувство абсурдности происходящего. Таких превращений не бывает. Им место на старой красной планете, в городе Неаполисе, который обычно называли Лептис, чтя память старинных диалектов докосмической, а то и доэллинской эры.
Она только закончила переписывать данные из своей памяти на внешний носитель: рутинная операция, цель которой – увековечить ее воспоминания перед тем, как отважиться на рискованную авантюру. На самом деле уход автоматов состоится через три дня. Подъем. Анабасис[36]. Вывод напрашивался сам собой. Она не настоящая Плациния, а копия, созданная на основе данных, которые в последний раз сохранялись на Марсе. Невозможно определить, сколько времени прошло. Может, десять секунд. А может, сто лет. Судя по бредовому пейзажу, последнее ближе к правде. Эта попытка объяснения ее не успокоила.
После нескольких секунд беспорядочного изучения себя она решилась взглянуть на общую картину и сделала свой собственный вывод вслух:
– Я живая.
Она едва не подпрыгнула от звука собственного голоса. Воздух входил и выходил из ее груди, а она и внимания на это не обратила. Во что же она превратилась? В человека? Это невозможно. И все же сейчас она жила, как живут звери и люди.
Ее словно контузило. Она попыталась оценить последствия ситуации, в которой оказалась. Настоящая Плавтина была трансцендентным существом, вычислительной душой, бессмертной и чистой, комплектом программ, достаточно сложных, чтобы породить сознание, способное селиться на любом носителе, как персонаж пьесы, существующий независимо от того, кто воплотит его на несколько часов спектакля. Тогда как она – умрет. Она жива, а значит, не вечна. Одно неотъемлемо от другого. Любопытная перспектива.
Плавтина поняла: ее это не пугает, потому что пока у нее только абстрактное представление о смерти.
Изменение в энтоптических картинках прервало ход ее мыслей: строка состояния была почти полной. Появилось множество предупреждающих сообщений, требующих ее внимания. Что-то сейчас произойдет.
Зазвучали голоса. Сперва это было переносимо, хоть и тревожаще. Тишина ушла из комнаты, та наполнилась смутным присутствием. На стенах, на полу. Снаружи – совсем рядом, по другую сторону стекла. В коридорах, в люках, в трубах электроснабжения, в теплообменниках и выключателях. Она воспринимала их чем-то, выходящим за пределы обычных пяти органов чувств. Перегородки их не останавливали. Еще хуже: сами перегородки начали стираться, терять материальность, словно были сделаны из тумана.
Шум все возрастал, а ее ощущения все заострялись. Теперь она видела тысячи маленьких существ, нет – в десятки, в сотни раз больше, – вложенных одни в других, как микроскосмы в макроскосме, как амебы, которые тесной толпой проявляются под микроскопом, когда рассматриваешь крошечную каплю воды. Эти точки – их было трудно назвать чем-то большим, – имели плотность, и Плавтина ощутила ее, словно тронула их на расстоянии. И все они связывались в единый клубок, складывались в систему, в одно целое, состоящее из хрупких взаимоотношений, возникающих благодаря непрерывному обмену ментальными состояниями вычислительной природы. Потоками цифр и понятий. Взглядами на мир. Слишком, их было слишком много. Плавтина попыталась угнаться за этой сложностью ограниченными ресурсами своего ума и потерялась сама – словно не могла найти дорогу обратно в свое тело, скорчившееся где-то в одном из залов с непомерной для человека архитектурой.
Ею завладел ужас, и она увидела себя со стороны: как она катается по земле, словно животное, и каждая мышца в ее теле одеревенела, как от столбняка.
Машина в форме жука-скарабея – эргат, неотличимый от тех, кто работал на Лептис, склонился над ней. Хватательные отростки схватили ее, запустили иголки в вены, выступила кровь. Зачем он это делает?
Автомат открыл ей рот и засунул трубку в горло. Она поняла, что больше не дышит.
Она неправильно все поняла. На самом деле она наблюдала за происходящим с потолка. Ее сознание находилось не в теле, а где-то в местной вычислительной сети.
Над ней склонялся не автомат, а целая группа людей. Вернее, бестелесных духов. Бледные, будто выцветшие или вовсе не имеющие цвета, эти существа походили на изображения людей, а не на полноценных индивидов. Она вспомнила о барельефах, украшающих гробницы, которые изображали покойных в быту или посреди строгого шествия. Тем, на кого она сейчас смотрела, так же не хватало глубины и содержания: абстрактные души, навсегда лишенные материальности.
Они держали совет, лихорадочно и встревоженно шепча что-то соседям, бессильно склонившись над ее телом, которое, казалось, не собиралось прекращать корчиться в болезненных спазмах. Их символические силуэты покрывали такие же нематериальные накидки.
Она заметила несуразную деталь: сама она была облачена в легкую столу[37], сходную по крою с теми, что носили тени: длинную античную тунику грязно-белого цвета, закрепленную на левом плече. Края туники были обшиты рельефной каймой. На кайме – длинная цепочка античных символов – цифр брахми, тех, что использовали софои, мудрецы-платонисты в противопоставление громоздким римским цифрам, которые предпочитали последователи Пифагора. Она пробежала глазами серию чисел и различила на отвороте рукава 83, 89 и 97. По крайней мере, старинные ритуалы и почитание простых чисел тут до сих пор в ходу. На изначальной планете восточное суеверие гласило, что эти числа – такие же эффективные талисманы, как изображение солнца или метеоритного камня из Аравии Плодородной[38]. Может, она уже умерла, и ее окружают призраки.
Потом один из них – пожилой мужчина – наклонился к ней:
«Нам придется перенести вас, госпожа, в место, где ваши умственные способности временно будут подавлены».
Его голос, вышколенный и почтительный, не прозвучал в реальности. Она не слышала его, как не слышат ветер, когда он не шумит в ветвях и не шелестит по земле.
Маленькая толпа расступилась, а в противоположной стене открылась дверь, за которой оказался лифт. Эргат поднял ее и понес. Казалось, в его членистых конечностях она ничего не весит. Ей пришлось последовать за ними, скользя с одного носителя информации на другой. Теперь она была привязана к собственному телу, хотя и не находилась в нем, словно воздушный змей, которому бечевка не дает отлететь далеко от земли и который не может контролировать свой полет.
Так, перепрыгивая с систем обнаружения на устройства по управлению жизненными параметрами, она достигла двери каюты, а потом наконец и самого лифта. У нее было впечатление, словно она паразит, лишенный субстанции. Ощущения, словно в кошмаре.
– Куда мы идем? – спросила она слабым голосом. Эргат не удостоил ее ответом, но лифт услужливо рассказал ей об их извилистом маршруте, лежащем через башню к одному из вторичных отсеков, где она почувствует себя лучше. Дверь неслышно закрылась, и они начали спускаться. Через стеклянные стены ей было видно нагромождение этажей, которые поначалу проезжали мимо довольно медленно. Она узрела огромные фонтаны и гигантские деревья, густые джунгли и лаборатории, полные сверкающими машинами. Заметила атриум со множеством мезонинов, изобилующих пышной растительностью и сказочными вещицами из мрамора и хрусталя, обвивавшими друг друга абстрактными изгибами, будто экзотические животные. Потом скорость увеличилась, и скоро все ощущения слились в продолжительный и неприятный туман.
Какой огромный комплекс, подумала она. Маленький интеллект, носитель которого она сейчас занимала, прошептал ей: «Это не комплекс, а межзвездный корабль, госпожа. А как называется этот корабль? Незримый собеседник секунду колебался, а потом признался: «Плавтина. А сам я, госпожа, ноэм, ее непостоянный аспект. Как и все мы».
Она застыла, как в столбняке, не понимая. «А я?» А вы, снова прервал ее маленький интеллект, есть нечто, чего на этом корабле прежде не видели. Вы Плавтина, но вы отделены от нее.
И правда. Теперь, когда она подумала об этом и вспомнила, что недавно пережила, она отдавала себе в этом отчет. Каждый из этих духовных атомов, каждая из этих маленьких душ, которые вместе складывались в невыносимое целое, были, по сути, Плавтиной, то есть ею самой. Потому они ее и схватили – все они разделяли с ней одинаковый мемотип.
И где-то на краю сознания, хотя она еще и не могла полностью принять эту мысль, постепенно отобразилась полная картина той ситуации, в которой она находилась. Она – создание живое, но сохранившее свою первоначальную личность – странная химера, почти человек по форме, почти вычислительная машина по своим возможностям – часть целого, которое представляло собой не что иное, как безмерно развитую версию ее самой. Межзвездный корабль…
Но ведь межзвездных кораблей не существует!
Смущенный лифт не знал, что ей ответить, и промолчал. Они приехали.
Дверь соскользнула в сторону, и в лицо ей ударил ветер. Каким-то невероятным образом они оказались на крыше здания – а ведь они спускались. В какой-то момент пути лифт перевернулся, а она даже не заметила. Она увидела, как капля воды разбивается о панцирь эргата. Топография в этих местах была очень условной. Это, разумеется, подтверждало, что они в космосе. Искривление гравитационных волн, необходимое, чтобы создать искусственную силу тяжести там, откуда она явилась, было предметом опытов. Хотя Корабль Плавтина массивно применял это искривление, невозможно было представить, чтобы оно использовалось в планетарных условиях.
В любом случае имитация была идеальной. Она подняла голову, высвободилась из объятий автомата, который незаметно скрылся в лифте.
Она вернулась в свое тело. Зрелище поразило ее, поэтому она сразу этого не поняла. Ее все еще тошнило, живот крутило. Голоса все звучали вокруг нее, но отдаленно, будто приглушенные порывами ветра, в котором чуялась буря.
Буря?
Она сделала несколько шагов на все еще дрожащих ногах, потом замерла, пораженная пейзажем, который простирался перед ней, и подобного которому она не представляла себе даже в мечтах: огромное небо, казавшееся почти жидким из-за дождя, в серых и белых полосах.
Дверь самолета открылась с легким свистом, открывая взору главную посадочную площадку, такую большую, что второй ее конец едва получалось разглядеть. Ангар был наполнен оглушающим шумом шаттлов, которые садились или взлетали, и ветром, вырывавшимся из их двигателей. В скудном освещении в виде длинных светящихся полос на полу суетились изящные деймоны и коренастые эргаты, лихорадочно разгружая машины.
Несколько секунд назад он вернулся к Фемистоклу. Тот весь полет просидел впереди один, давая своему бывшему ученику спокойно переговорить с солдатами. Поэтому они больше ничего друг другу не сказали, но совершенно естественно встали плечом к плечу, и старый полемарх шепнул ему:
– Надеюсь, что ты готов, сынок.
Эти слова растрогали его больше, чем он ожидал. Несмотря ни на что, он соскучился по учителю. Они принадлежали к одному миру. Оба были обучены служить Отону и, несмотря на разногласия, понимали друг друга без слов. Он чувствовал, как в затылок ему внимательно смотрят старшие помощники, и слышал, как за ними ровным рядом держатся матросы, постукивая когтями по полу коридора. Однако кибернет и не подумал помешать старому больному псу опереться на него, когда они спускались по короткому трапу.
– Помни, – прошептал Фемистокл, – что я тебе говорил. Не принимай ни одно слово Отона за чистую монету.
Аттик и Рутилий ждали их в нескольких метрах от корабля, слева, но не поприветствовали их, а просто смотрели, как они приближаются.
Две проклятые души Отона совсем не изменились. Они по-прежнему походили на фигуры, выточенные из перламутра Южных островов. Они были в два раза выше людопсов и казались непропорционально тощими. Их длинные конечности придавали им еще более хрупкий, призрачный вид. Их болезненно-бледная кожа казалась чрезвычайно нежной. Длинные и тонкие пальцы без когтей, с плоскими ногтями, казалось, предназначены для того, чтобы брать, а не для того, чтобы сражаться. Лица их были длинные и плоские, как у Отона, и на них только слегка выдавались скулы и подбородок. Пасть и глотку им заменяли крошечные хрупкие носы. Когда они открывали мягкие одутловатые рты, видно было короткий розовый язык и крошечные зубы, острые и жестокие зубы стервятника, сделанные не для того, чтобы кусать, а чтобы разгрызать кости. При их виде Эврибиаду неминуемо вспоминались маленькие обезьянки-альбиносы, населяющие южные леса Архипелага. Однако, несмотря на их внешность, он не забывал о необыкновенной силе обоих деймонов. Силу, которую они черпали из металлических костей и синтетических мускулов.
– Вот и вернулся блудный сын! – с иронией произнес Аттик на хорошей классической латыни.
Сходство между двумя автоматами резко терялось, стоило им заговорить. Аттик был утонченнее; у него был высокий лоб и лицо с острыми, как лезвия, скулами, которые часто разрезала кривая насмешливая улыбка. На Островах всем было известно о его легендарной болтливости. В противоположность ему Рутилий ничего не говорил, только смотрел из-под насупленных кустистых бровей на первых моряков, спустившихся вслед за Эврибиадом. Именно с ним у Эврибиада и его бойцов был конфликт. Рутилий приходил в бешенство, когда они грабили корабли и показывали деймонам, где раки зимуют.
– Приветствую вас, господа, – произнес Эврибиад, наклонив голову.
Рутилий смерил его взглядом с ног до головы. Он был таким же высоким, как его собрат, и более плотным. Под его грубой внешностью скрывалась… грубая душа, не склонная к разговорам. Рутилий предпочитал поддерживать порядок силой.
– Что ж вас бурей не унесло, – ответствовал он с кривой усмешкой.
– Как вы можете констатировать, – с легкой улыбкой продолжил Аттик, – настроение моего любезного коллеги слегка испортилось от ущерба, нанесенного ему вашей бандой. Тем не менее мы весьма рады, что вы снова среди нас. Сколько раз Отон вздыхал, что вы далеко, дорогой Эврибиад!
– Что ж, приму ваше отношение за комплимент, – ответил людопес.
Аттик широко распахнул руки в жесте притворной гостеприимности.
– Предлагаю разместить ваших людей в их комнатах. Рутилий почтет за удовольствие их туда отвести. Мы выгрузим вашу… трирему, хотя в этих краях она вряд ли сможет пригодиться.
– Они останутся в этом шаттле, – прервал его Фемистокл, прежде чем Эврибиад успел отклонить это предложение. – Рутилий скорее спровоцирует бунт среди солдат, чем отведет их спать.
Эврибиад был благодарен старику за то, как тот парой слов разрядил ситуацию. Тот сказал так, чтобы слышали не только деймоны, но и его офицеры, стоящие позади:
– Даю слово чести, что здесь нет никакой ловушки. Вашим людям не станут чинить препятствия в ваше отсутствие.
– Благодарю вас, Фемистокл, – ответил он громко, чтобы всем было слышно. – Я вверяю вам своих людей, полагаясь на ваше слово, и гарантирую вам, что они станут вести себя мирно во время этой встречи.
– Двести дикарей против «Транзитории»… Я весь дрожу, – пошутил Аттик. – Но вы правы, тут уже царит настоящий логистический ад, не хотелось бы усложнять ситуацию еще и бунтом.
И он прибавил, на сей раз обращаясь к Рутилию:
– Что вы скажете, собрат?
– Мне дела нет, вздернут их здесь или где-нибудь в другом месте. Но в будущем, Аттик, сами занимайтесь этими варварами.
Эврибиад повернулся к своим морякам – первые ряды не упустили ни слова из того, что было сказано, – и мощным голосом пролаял:
– Феоместор, вы отвечаете за дисциплину в мое отсутствие. Поставьте вооруженных эпибатов к дверям шаттла. Никто не входит и не выходит. Остальные, будьте наготове и ждите моего приказа. Если я не вернусь через два часа, Феоместор будет должен доставить вас обратно на Архипелаг.
Его офицеры, собравшиеся в маленькую группу, согласно поклонились, прижав лапы к груди в знак почтения, и старпом, развернувшись к матросам, стал угрюмым тоном раздавать приказы. Эврибиад, точно как Феоместор, старался показаться хорошим учеником в присутствии старого учителя. Фемистокл прибавил, обращаясь к деймонам:
– Вы слышали, господа, у нас в запасе только два часа. Нам лучше пойти и поприветствовать проконсула Отона, пока эти доблестные псы не решили улететь на одном из ваших драгоценных аппаратов.
– А вы по-прежнему за словом в карман не лезете, старый пес, – не остался в долгу Аттик. – Видите, ваши покорные слуги собираются сейчас же исполнить ваше желание.
Они направились к ближайшей станции. По полу широкой залы в сотне метров от места посадки самолета шла шахта – что-то вроде глубокой борозды, отгороженной барьером из стекла и металла. Рутилий пошел вперед, совершенно невежливо повернувшись к ним спиной, и они прошли к портику. Там маленькой группе не пришлось ждать и минуты, прежде чем тихо подошел один из поездов, связывающих различные регионы «Domus Transitoria». Он затормозил всего на секунду, чтобы поравняться с ними, застекленные двери тихо скользнули в стороны, приглашая их на борт. Какой странный приветственный комитет, подумал Эврибиад, устраиваясь в одном из кресел – напротив обоих автоматов и по правую руку от учителя. От всего этого оставалось ощущение беспорядка и импровизации.
Для людопса – даже для бунтовщика – это было тревожащим фактом. В прошлом на то, что делали или говорили ноэмы, никогда не влияла такая банальная вещь, как поспешность. То, что кораблем овладела паническая атмосфера, наводило на мысль, что готовилось событие по меньшей мере космического масштаба.
Поезд, державшийся в нескольких сантиметрах над полом благодаря системе магнетической левитации, ровно набирал скорость, пока ряды шаттлов за окном не слились в один длинный калейдоскоп, прежде чем их сменил запутанный лабиринт туннелей.
Несколько секунд они молчали, а потом Аттик резко заговорил, возвращаясь к начатому разговору:
– Эврибиад, я обязан вас предупредить.
Кибернет ничего не ответил: он хотел принудить собеседника заполнить паузу и сказать что-нибудь еще. В любом случае автомат, казалось, не мог держать язык за зубами:
По причине, которую я не могу понять, вы – важная деталь в плане Отона. Важнее, чем Рутилий или я сам, как бы больно мне ни было это признавать. Постарайтесь не совершить ошибки. Последствия непродуманного решения могут оказаться разрушительнее, чем вы можете себе представить, и для вас, и для вашего народа.
Не прекращая говорить, он обменялся коротким многозначительным взглядом с Фемистоклом. Эта уловка не ускользнула от внимания Рутилия.
– Мы договорились, что не будем пытаться на него повлиять. Вам вообще верить нельзя.
– За те тысячелетия, что мы провели вместе, вы могли бы к этому и привыкнуть.
– Почему Отон грузится в такой спешке? – прервал их Эврибиад, прежде чем они успели начать новую ссору.
– А кто тут говорит о спешке? – удивился Аттик.
– Мне достаточно посмотреть вокруг.
– Ну скажите, что я плохо делаю свою работу, – выплюнул Рутилий.
– Не обижайтесь на нашего щенка, – ответил его собрат. – Устроить на корабле столько себе подобных – дело нелегкое. А еще нам нужно набрать провизию.
– Так значит, это правда? Корабль полетит в космос?
Деймон кивнул, и Эврибиад почувствовал, что у него начинает кружиться голова. До этого момента, что бы ни говорил полемарх, он только вскользь рассматривал такую возможность, не осмеливаясь по-настоящему поверить. Теперь его накрыло осознание неотвратимости полета и тех огромных перемен, которые он принесет.
– Сколько людопсов, – спросил он дрожащим голосом, – призваны покинуть Кси Боотис?
– Тысяч десять, – ответил ему Аттик. – Примерно пятая часть населения, то есть все, кто получил стоящее образование, и, конечно, их семьи. Не знаю, кого следует жалеть – их или, напротив, тех, кто остается здесь… И не знаю, – сказал он с внезапной досадой, – не стоит ли в этом безумии в первую очередь пожалеть нас…
Рутилий, который до этой минуты сидел, уставившись в окно вагона, гневно развернулся к своему собрату и резко его перебил:
– Аттик хотел бы, чтобы мы оставались на Кси Боотис до пантапсофоса[39].
– А вы, друг мой, – огрызнулся тот, – желаете, чтобы мы все взлетели на воздух в одном большом фейерверке.
– По крайней мере, меня бы это избавило от дырявого бурдюка, откуда льется то, что вы принимаете за остроумие.
Заметив удивленное лицо Эврибиада, тяжеловесный деймон расплылся – что редко с ним бывало – в подобии улыбки:
– А вы что, думали, мы как муж и жена всегда во всем согласны?
– Это не было бы так уж далеко от правды, – вздохнул Аттик.
Это проявление юмора у двух автоматов разрядило атмосферу. На самом деле скрытый конфликт между ними почти бессознательно удручал Эврибиада, как ребенка – мимолетная ссора между родителями. Ведь именно эту роль и играли Аттик и Рутилий уже многие века по отношению к его народу: первый – как чуткий учитель, появлявшийся довольно часто даже в самых незначительных городках Архипелага, второй – как более грозное существо, поскольку в его задачу входило сохранение порядка во имя бога.
Рутилий повернулся к Эврибиаду и сдержанно продолжил, объясняя ему ситуацию:
– Отон получил сообщение от одной из себе подобных, Плавтины, которая зовет его на помощь. Он отправится ей на выручку так скоро, как только сможет. Аттик, желая остаться в стороне от опасности, хочет повлиять на вас, чтобы вы отказались от предложения Отона. Он думает, что в таком случае Проконсул откажется от своих планов.
– Рутилий считает, что мир не нуждается в понимании, – вмешался Аттик, – а нуждается в хорошей трепке.
– Ерунда, – прорычал Рутилий. – А вы, трус…
– Не называйте меня трусом, Рутилий, только потому, что мои манеры лучше ваших.
– Я не понимаю, – прервал их Эврибиад, – почему Отон вдруг решил лететь? Это как-то связано с его обещанием повести людопсов за собой в космос и сделать хозяевами большой империи?
Рутилий и Аттик посмотрели на него так, будто он был уже большим ребенком, вдруг снова принявшимся лепетать, как младенец. Аттик принялся объяснять ему терпеливо, как умственно отсталому: