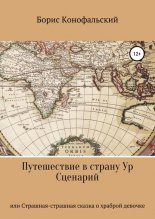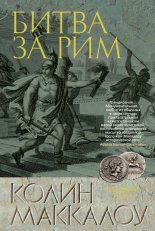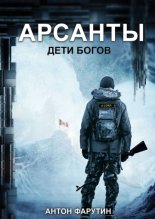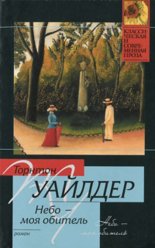Бабий дом Курчаткин Анатолий

– А зато я ее наказала, и она теперь будет знать! – достиг, наконец, ее слуха Анин голос.
– Нет, с нее как с гуся вода! – воскликнула Нина Елизаровна. – Тебя что, эта история ничему не научила?
– Не отдам я ей ее джинсы! Как прошлогодний снег она их у меня увидит.
Нина Елизаровна сорвалась в крик:
– Да тебя хоть что-нибудь в жизни, кроме тряпок, интересует? Хоть что-нибудь кроме?!
Лида не выдержала. Невозможно было слышать этот их базар.
– Мама! Прошу тебя! Ты все-таки старше… Вы сейчас стоите друг друга!
Нина Елизаровна метнула на старшую дочь гневный взгляд, но все же Лидины слова подействовали на нее.
– Может быть, – беря себя в руки, – проговорила она. Может быть… Но я мать, и я несу за нее ответственность… И я никогда не была такой, я не могу ее понять. Как можно без всякой цели? Я всегда, всю жизнь знала, что мне нужно. Всю жизнь, всегда я хотела быть самостоятельной. Ни в чем и ни от кого не зависимой, Чтобы никто и ничто не подавляло мою личность.
– И что она, твоя самостоятельность? – в Анином тоне не было прежней агрессивности, но зато он сделался обличающим. – Водить экскурсии по музею? «Посмотрите сюда, посмотрите туда, обратите внимание на то…» Все! Стоила овчинка выделки.
Нина Елизаровна решила не реагировать на Анин выпад.
– А ты почему, собственно, не собираешься? – обратилась она к Лиде. – Тебе ведь уже выходить скоро.
– Я не еду, – сказала Лида.
– Ничего не понимаю. Почему?
– Да так, мама. Одним словом не объяснишь.
– Что… этот твой обиделся, что ты из-за отцовского спектакля перенесла отъезд на день позже?
– Да нет, мама…
Лида уклонялась от ответа, и слишком явно уклонялась.
Нина Елизаровна поняла, что так просто, сейчас во всяком случае, ничего об истинных причинах Лидиного решения она не выяснит. Но кроме того, ей не терпелось узнать и еще кое о чем.
– Что, хороший спектакль? – спросила она с плохо скрытым любопытством. – Виктор сейчас в прихожей говорил, что у него были пригласительные и он видел… будто бы отец просто блистателен?
– Да, мама, все хорошо, – по-прежнему уклончиво ответила Лида.
Нина Елизаровна вновь, как только что в разговоре с Аней, взорвалась.
– Что ты со мной, – гневно закричала она, – как с чуркой?! Я что, не могу поинтересоваться твоими делами? Одна только шпыняет меня… другая как с чуркой… ты в конце концов даже не жила самостоятельно, не знаешь, что это такое, все за моей спиной… и я могу от тебя потребовать…
– Ма-ам, – с язвительностью перебила ее Аня, – у тебя вообще-то гости…
Это она, корча на крик Нины Елизаровны всякие гримасы и чтобы мать не видела их, отвернулась – и обнаружила, что в дверях комнаты, уже, видимо, некоторое время, с оглушенным видом, явно не зная, как ему поступить – дать ли о себе знать или, наоборот, ретироваться, – стоит с бутылкой коньяка в руках Евгений Анатольевич.
Нина Елизаровна стремительно повернулась в сторону Аниного взгляда.
– Ой, – воскликнула она, – боже мой! Это вы…
Евгений Анатольевич попытался улыбнуться.
– Вообще… мы, Нина, ведь и на «ты» переходили…
– Девочки, что у нас с ужином? – не отвечая ему, приказывающе поглядела Нина Елизаровна на дочерей. – Так уже поздно. Пойдите на кухню, организуйте-ка что-нибудь.
Аня не поняла истинного смысла ее приказа.
– Да Лидка там уже… – начала было объясняться она.
Но Лида не дала ей договорить и потащила ее из комнаты:
– Пойдем, пойдем. Нечего все на меня.
Как будто Аня собиралась сказать о том, что для приготовления ужина достаточно одной Лиды, а вовсе не о том, что ужин Лида давно приготовила и можно садиться.
Нина Елизаровна с Евгением Анатольевичем остались вдвоем.
– Ну, вы, скажу вам… так неожиданно… без звонка… – Нина Елизаровна испытывала страшное смущение, она с трудом заставляла себя говорить что-то и не в силах была встретиться с Евгением Анатольевичем взглядом.
Он же, напротив – и лишь язык старинных романов уместен тут, – буквально пожирал ее глазами.
– Нина! Милая! – проговорил он. – Мне уезжать завтра. А ты все это время… с того раза… почему? Почему ты меня избегаешь? Что произошло? Как же я могу уехать, ничего не понимая? Мы встретились… наши пути пересеклись, и мы не должны потерять друг друга… – В руках он все так же держал бутылку коньяка и, говоря, прижимал ее к груди, что выглядело довольно комично.
– Нет, разве так можно! – оправляясь от смущения, воскликнула Нина Елизаровна. – Без звонка, не предупредив… Мне не до вас сейчас, не до вас, неужели вы сами не видите? И еще с этой, – ткнула она пальцем на бутылку у него в руках, – чего вы все с нею тетёшкаетесь? Выпить хочется, а больше негде?
Евгений Анатольевич потерялся.
– Что? – недоумевающе посмотрел он на бутылку. – Мне?.. Н-нет, Нина, ты что! – он торопливо шагнул к столу и поставил на него коньяк. – Я просто думал… ну, вообще как-то… Я вижу, да… у тебя что-то… но это ведь преходяще, это сейчас важно, а потом будет неважно, это не должно мешать нашему… Мне бы хотелось сказать – чувству, но я боюсь…
Он умолк, опасаясь обмолвиться случайно каким-нибудь не тем словом и все испортить, потому что, едва он произнес «чувству», в Нине Елизаровне будто что-то переломилось, загорелся некий огонь, в ней проснулась та, какою она была несколько дней назад, во время их утреннего свидания, – это проявилось во всем: в выражении ее лица, глаз…
– Ах, боже мой, Женя! – сказала она после изнурительно долгой для Евгения Анатольевича паузы и поглядела на него. – Если бы ты знал, как мне хочется отдаться чувству. Чтобы потеряться, раствориться… Это смешно в нашем возрасте, но это так… и однако же, разве жизнь дозволит? Уезжай, Женя. Спасибо, что пришел, напомнил… уезжай, и пусть в наших воспоминаниях останется тот чудесный, тот, светлый, тот солнечный наш порыв друг к другу!
Евгений Анатольевич бросился к ней.
– Нина! Чудная! Милая! Невыразимая! Мы не можем… я не могу потерять тебя, когда я тебя обрел! Когда человеку долго не везет и, наконец, везет, он не имеет права уезжать от своего везения!
Во время этого своего монолога он все пытался обнять Нину Елизаровну, но она не далась.
– Такова жизнь, Женя, такова жизнь!
– Но надежду! Чудная! Милая! Невыразимая! Надежду! Ты приедешь ко мне? Я один как перст. Никого рядом, пустая квартира, и я в ней… Сын взрослый, старший лейтенант уже, в Казахстане… а я как перст…
Говоря это, Евгений Анатольевич предпринял новую попытку обнять Нину Елизаровну, она, уже не очень противясь тому, отступила назад – шаг, еще шаг, и может быть, спустя мгновение уже сама подалась бы к нему, но наткнулась на оказавшуюся у нее за спиной умывальную раковину и, вцепившись непроизвольным движением в руку Евгения Анатольевича и увлекая его за собой, упала, больно ударившись о край раковины бедром.
Падение, боль от удара – все это разом вернуло Нину Елизаровну в прежнее состояние духа, и от недавнего возжжения его не осталось в ней и следа.
– Да ну какой же вы… ничего толком! – оттолкнув руки Евгения Анатольевича, пытавшегося помочь ей, поднялась она на, ноги и, морщась от боли, принялась ощупывать ушибленное бедро. – Оттого вам и не везет в жизни, и не будет везти! Я чуть не убилась… Что вы «не можете»? Ну хотели доставить друг другу удовольствие, не вышло… что ж тут сейчас! Или вы что, жениться на мне задумали? Прописку получить?!
– Н-но… Н-ни-ина… – начал было Евгений Анатольевич. Глаза ему застилал стыд, от нелепости и непоправимостн всего случившегося он чувствовал себя невероятно ужасно, и окончательный смысл того, что говорила Нина Елизаровна, еще не вполне дошел до него.
Нина Елизаровна, однако, не дала ему объясняться. Она еще не выговорилась.
– Только мне замужества и не хватало! Взять да по рукам, по ногам связать себя. Этого только! У меня уже дочери взрослые, вон, вы их видели, вырастила одна, справилась, зачем мне сейчас хомут?!
– И у вас у всех хорошая, любимая работа, и вы все трое дружны, и вот это-то всего дороже, в этом и счастье… – теперь смысл сказанного Ниной Елизаровной полностью дошел до Евгения Анатольевича.
– Чего-чего? Что вы несете такое? – раздраженно воскликнула Нина Елизаровна.
Того, что это он лишь повторил ее собственные слова во время их свидания, она не поняла.
Евгений Анатольевич не ответил ей. Лицо у него было потрясенное и несчастное. Какое-то мгновение он еще стоял в молчании, потом медленно пошел из комнаты. Уже на пороге он остановился и повернулся.
– А кронштейны я вам достану, – сказал он. – Я уже наводил справки. Это очень дефицитная, штука. На стройке надо доставать. Или даже на домостроительном комбинате. Санузлы ведь прямо на комбинате собирают… Я вам пришлю. Приеду домой, достану и пришлю.
Не дожидаясь ответа, он снова повернулся, вышел из комнаты, прошуршал в прихожей снятый с вешалки его плащ, и следом за тем, открылась и закрылась входная дверь.
Некоторое время, как дверь за ним захлопнулась, Нина Елизаровна стояла неподвижно, все продолжая держаться за ушибленное бедро, потом всплеснула руками:
– Ну это надо же! Нет, это надо же!.. А благородный! Кронштейны он все-таки достанет…
Длинным пронзительным звонком зазвонил телефон. От неожиданности Нина Елизаровна вздрогнула, будто ее ударило током. И суматошливо бросилась к аппарату.
– Алле! – крикнула она в трубку с этой суматошливой запаленностью. Следом все лицо ее пришло в движение, переменилось, сделалось улыбчивым, оживленным и жизнерадостным, полным силы сделался голос: – А, Леночка! Здравствуй, милая, да!.. Сказать, что от Веры Петровны… Ну, я же говорила, что сработает! Это стопроцентно, абсолютно стопроцентно. Может, и Веры Петровны никакой не существует, а это у нее, у Любы этой, просто пароль такой… А массаж как делает, чудо, да? Просто как в раю побывала. Я лично прямо заново рожденной от нее выхожу. Благодарить не надо, не за что, рада была оказать тебе… – Помолчала, слушая, и воскликнула: – Ой, надо! О стольком тебе сказать есть. Но у меня сейчас такая пора… Созвонимся, да. Так по тебе соскучилась… Давай, да, давай. Целую, милая. И я тебя, да. – Она положила трубку, и, пока опускала ее, улыбку с ее лица как смыло. – Кронштейны он, видите ли, достанет все-таки! – воскликнула она, всплескивая руками.
– Уперся, да, мы слышали, – появляясь в комнате, сказала Аня. Прошла к дивану и плюхнулась на него. – Дверь хлопнула.
Нина Елизаровна посмотрела на нее долгим, тяжелым взглядом.
– Что значит «уперся»? Что у тебя за выражения? «Ушел», знаешь такое слово?
Она тоже вернулась в комнату, но остановилась на самом пороге и, заложив за спину руки, прислонилась к косяку, и было в этой ее позе и в выражении ее лица что-то такое смиренно-жалкое, раздавленное…
– Ну, ушел! – поправилась Аня. – Со смаком и выразиться не дадите. – И спросила мать: – Кто такой? На кухне мы с ним сидели – такую поэму про тебя слагал. Прямо святая дева Мария пополам с Афродитой. У меня аж уши вяли.
– В самом деле, мама, кто такой? – спросила и Лида. – Такое хорошее лицо у него.
Нина Елизаровна хотела было ответить что-то резкое Ане, но передумала.
– А, тетёха какой-то, – сказала она, – неудачник. Всю жизнь ему не везло. Не знаю в чем, но не везло. С женщинами, наверное… Соединить наши жизни предлагал. Ни больше ни меньше… Этого только мне не хватало. Хватит с меня, был уже у меня один неудачник.
– Кто это у тебя был неудачник? – проговорила Лида.
Так проговорила, что вопрос ее требовал скорей не ответа, а запрещал его.
– Твой отец, кто ж еще, – ответила тем не менее Нина Елизаровна.
– Это он-то неудачник?
– Я не о сейчас говорю. Я о той поре, когда он институт бросил и артистом себя вообразил. Он вообразил, а кругом никто что-то не воображал. Не жизнь, а каторга. В сумасшедшем доме, наверно, легче.
Лида передернула плечами. Странное было, несвойственное ей вообще движение, казалось, не она передернула ими, а это они передернулись сами по себе.
– Странно ты говоришь: он вообразил, а никто не воображал. Как же он тогда стал им все-таки, да еще таким известным?
– Кто тогда мог представить, что ему так везти начнет, – сказала Нина Елизаровна.
Аня на диване уличающее хмыкнула:
– Логика на грани фантастики! Как это ему везти стало, если у него таланта нет, а он только вообразил?
Нина Елизаровна, в который уж раз за нынешний вечер, снова сорвалась в крик:
– Молчи! Ты еще будешь! Воровка! В гроб меня вгонишь! – Ломая руки, она упала в кресло, откинула голову и в изнеможении покатала ею по спинке. – Господи, за что?! Как я устала… Дочь, родная… такая жестокость. В кого, в кого ты такая?!
– В тебя, в кого же еще, – спокойно, с довольством мстительности сказала Аня. – Ты же бросила Альберта Евстигнеевича, когда ему тяжело было. Не захотела с ним трудности делить. Под крылышко к бабушке с дедушкой убежала.
– Аня, – оборвала ее Лида, – перестань!
– Нет, давай, давай! – истерично проговорила Нина Елизаровна. – Бей мать, которая тебя вырастила! Бей! Что ты знаешь, как я растила?
– Не ты, а бабушка. – с прежней спокойной мстительной интонацией сказала Аня.
– А теперь ты судно из-под нее вынести не можешь?!
– Снова логика на грани фантастики!
– Все! Конец! Хватит! – Лида стремительно перелетела через всю комнату к обеденному столу и с размаху ударила по нему ладонью. – Если еще слово… Обе! Обе! Слышите?!
В крике ее было какое-то такое последнее, предельное отчаяние, что он и в самом деле подействовал отрезвляюще и на Нину Елизаровну, и на Аню. Нина Елизаровна, раскачивая головой, опустила лицо в раскрытые ладони и замерла так. Аня же, посидев немного в молчании, поднялась с дивана, прошла к выходу из комнаты, постояла на пороге и, ни к кому не обращаясь, махнула в сторону кухни рукой:
– Там вообще-то все готово ведь, можно есть…
Никто ей не ответил. Нина Елизаровна на звук Аниного голоса лишь отняла руки от лица и опустила их на колени, а Лида, после своего крика словно закаменевшая, неожиданно бросилась к матери, присела перед нею на корточки и поцеловала ее сложенные на коленях руки.
– Прости, мама… – сказала она.
– Я говорю, там ведь вообще готово все, – повторила Аня.
Лида поднялась с корточек.
– А давайте здесь поужинаем, в комнате. – Лида старалась говорить бодро и весело, и ей это удавалось. – Что мы все на кухне да на кухне. Дверь к бабушке откроем. Все равно как и она вместе с нами….
– Я всегда вас просила, – слабым голосом проговорила Нина Елизаровна, – давайте в комнате. Это вы все: скорей, скорей…
– На фарфоре, да? – оживляясь, выкрикнула с порога Аня.
– Это овощное рагу-то? – чуть осаживающе, но с прежней бодростью сказала Лида.
– Дело не в еде, – голос у Нины Елизаровны окреп, и в нем прозвучала назидательность. – Просто такой сервиз мы уже никогда не купим, и надо поберечь его для особых случаев.
Аня с мечтательностью посмотрела на потолок – давно не беленный, с облупившейся штукатуркой на местах соединения плит перекрытия.
– Обязательно куплю себе такой сервиз… Лучше даже. Может быть, даже два.
– Не в сервизах счастье, – поднимаясь с кресла, сказала Нина Елизаровна.
– Мама! – просяще-предупреждающе посмотрела на нее Лида.
Но нет, что Нина Елизаровна, что Аня, обе они и сами не хотели больше никаких стычек, есть они сейчас обе хотели – вот чего, и вырвавшийся было из-под горячей еще золы жаркий язычок пламени тут же спрятался, исчез, и полыхавший недавно костер больше не напоминал о себе.
6
О, час предночной, час последних дневных хлопот, час сожаления об исчерпанности дневной поры, час предвкушения блаженства сонного забытья! Есть ли что сладостнее этого часа. О, как он быстротекуч и как долог, и один оборот стрелок по циферблату может уместиться в нем, и два, и три, – упоителен час предночной.
Стоит мертвой глыбой металла, холодно поблескивая в темноте безлюдного цеха под лунным лучом, проникнувшим через стеклянный фонарь, молчащий станок; ткнулся долгой членистой шеей в дно раскопанной рваной ямины бездвижный экскаватор, заменяющий собой разом сто землекопов; заперты на замки в бронированных чудищах сейфов и легкомысленных ящиках письменных столов судьбоносные государственные бумаги с чернильными жучками входящих и исходящих номеров в начале и жирными бегемотами круглых печатей в конце… качели жизни достигли одной из своих верхних точек, замерли на миг – чтобы рвануть обратно, устремиться в другую сторону…
И почему же так хочется продлить этот миг, остановить его, растянуть, – что такого особого в нем, по какому праву требует он этого для себя? Миг, когда качели, выбросив в свою верхнюю мертвую точку, полностью распускают все путы, которыми ты связан невидимо с тысячами и тысячами таких же, как сам, разжимают тиски центростремительного бешеного движения и оставляют наедине с собой, наедине лишь со своим; есть у тебя это свое? Если нет, что тогда? Может ли быть так, что нет? Если может, то что, в свою очередь, тогда, вот тогда, когда нет?
* * *
Ужинать в конце концов сели все-таки на кухне.
Пришли туда, начали было собирать посуду, и, велика же сила привычки, странно показалось тащить все в комнату, накрывать стол в комнате, а не здесь – без всякого праздничного повода. Ну, открыли бы дверь к бабушке – что, разве бы она действительно была с ними? Нет, чего хитрить. Они за столом, она у себя в постели. Уж лучше на кухне, чего там. Для ужина в комнате душе недоставало события, чувства торжественности.
Уже пили чай – по-вечернему жидкий, чтобы не напала бессонница, уже на столе, кроме чашек, сахарницы да вазочки с вареньем ничего не осталось, когда в прихожей раздался звонок. Все недоумевающее переглянулись. Не ранний был час. Никого не ждали. Кто это мог быть?
– Может быть, твой вернулся? – с нажимом на «твой» высказала матери свою догадку Аня.
И всем, и Лиде тоже, показалось, что это единственно правильное предположение. Таким, как Евгений Анатольевич, бывает нужно и дважды, и трижды разбить себе нос, прежде чем они окончательно поймут, что перед ними стена.
– Сидите, я сама, – встала Нина Елизаровна.
Лида с Аней услышали щелк замка, дверь открылась, но вместо одного мужского голоса, как они ожидали, раздались два, и эти голоса заставили их тут же подхватиться со своих мест и броситься в прихожую.
Там уже, переступив порог и прикрыв за собой дверь, стояли Миша и Андрей Павлович. Причем Миша впереди, а Андрей Павлович позади, поддерживая Мишу за локти, словно бы он прикрывался им как щитом.
– Ах, женщины, ах, женщины! – увидев Лиду с Аней, вместо приветствия, с обычной своей веселой. напористостью, проговорил Андрей Павлович. – Что же это вы молодого человека на улице морозите? Нехорошо. Подкатываю к подъезду, никто не ждет, не встречает, вдруг – ба! знакомые все лица! Нехорошо.
– Мишка! Ты возле дома здесь был? – удивленно воскликнула Аня. – Что ты здесь делал?
Миша будто не услышал ее вопроса.
– А мне сказали, что ты себя плохо сегодня чувствуешь…
Он, как и Андрей Павлович, не поздоровался ни с нею, ни с Лидой, но в отличие от Андрея Павловича, как-то уж слишком, пожалуй что, лихорадочно оживленного, он, наоборот, был словно бы заторможен, напряженно, неестественно деревянен.
– А кто это тебе сказал, что плохо себя чувствую? – враз встревожась, спросила Аня.
– Это я сказала, – вмешалась в их разговор Лида. – Миша звонил по телефону, хотел тебя увидеть, и я сказала, что ты сегодня не можешь. И Миша вроде бы понял. – Произнося эту последнюю фразу, она перевела взгляд на него. – Вы напрасно поднялись, Миша. Бывают обстоятельства… без причины я бы вас не просила.
Миша, слушая ее, как бы согласно кивал.
– Так конечно… ну да… вот именно что причина… – вставлял он в паузы между ее словами.
– Слушай, Мишк, я ничего не понимаю! – снова воскликнула Аня. – Ты тут, возле дома, что ли, ходил?
Нина Елизаровна, все это время с недоумением переводившая взгляд с Ани на Лиду, с Лиды на Мишу, решила, что подошла пора изменить ситуацию:
– Вы очень вовремя пришли, Андрей. Очень вовремя, Миша. – Голос ее был так же жизнерадостен и полон сил, как во время телефонного разговора с подругой. – Мы тут как раз чай пьем. Припозднились с ужином, и вот только что. Лидочка, пойдем приготовим там все. Анечка, а ты раздевай гостей и проводи на кухню.
Лида дернулась было перебить Нину Елизаровну, хотела что-то сказать, взглянула на нее, взглянула на Андрея Павловича – и остановилась, решила, видимо, пусть будет, как предложила мать. Нина Елизаровна еще рассыпалась в светских любезностях, а она уже ушла на кухню.
– Мишк! Так ты чего тут? – спросила Аня, едва Нина Елизаровна вслед за Лидой оставила прихожую. – Так неожиданно!
Миша между тем не торопился раздеваться.
– А ты ничего, вроде здоровая… – как-то странно оглядывая ее, сказал он.
– А с какой стати я должна больной быть? – Анино удивление из-за свойственной ей вообще вызывающей манеры говорить прозвучало пожалуй что агрессивно.
– А чего тогда сестра твоя говорит: плохо себя чувствует?
– Плохо себя чувствовать – разве обязательно больной быть? Можно быть не в духе, расстроенной…
– Это с чего это ты расстроенная?
– Мишк! Ты чего? – напряженный, затаенно-недоброжелательный тон Миши был непонятен Ане и пугал ее. – Какая тебя цеце укусила?
Но Миша будто не слышал ее.
– А я ее берег… деликатничал, – все так же странно, словно какой неодушевленный предмет, оглядывая Аню, проговорил он. – Чистенькая такая девочка… снежок прямо такой беленький…
– Молодой человек, молодой человек! – Андрей Павлович, пока Аня с Мишей вели этот непонятный разговор, не особо прислушиваясь к нему, разделся, причесался перед зеркалом и вот тут-то, отправляя расческу в карман, уловил смысл последних Мишиных слов – во всей их ясности. – Я вас привел, я, так сказать, ответствен – блюдите приличия! Приличия не роскошь и не средство передвижения, а основа человеческих отношений. А, каково? – Андрей Павлович коротко посмеялся. – Дарю вам, между прочим, великодушно свою максиму. Пользуйтесь!
Миша не обратил на его речь ни малейшего внимания, словно Андрей Павлович и не открывал рта. А может быть, он и в самом деле пропустил ее всю мимо ушей. Никого и ничего, кроме Ани, для него сейчас не существовало.
– Я тебя увидеть хотел… – сказал он с тяжелой протяжностью. – Ух обвела!.. Вокруг пальца, как щенка! Колотун меня бьет… ух обвела! За чистенькую шилась, профура!
Аня, ошеломленная случившимся с Мишей преображением, смотрела на него остановившимся взглядом и не в силах была произнести ни слова.
– Э, молодой человек! Да ты не феномен, ты с душком! Я думал, ты феномен, а ты, оказывается, просто шпана! – Андрей Павлович взял Мишу за рукава алой его куртки и рывком развернул к себе. – Ну-ка пошел отсюда, вымой рот, потом она, – кивнул он на Аню, – посмотрит, стоит ли с тобой дальше говорить!
Миша вырвался из его рук, едва не въехав Андрею Павловичу локтем в зубы.
– А ты молчи, потаскун! – закричал он. – С душком я!.. Видел я тебя голеньким, как ты тут с другой профурой снюхивался… слюной весь истек!
– Я? Снюхивался? – Андрей Павлович потерялся.
А из Миши выплескивало – больше в нем ничего не держалось:
– Это не дом, это бардак… Все, – снова повернулся он к Ане, – все мне про тебя известно… все, до копеечки!
У Ани, наконец, прорезался дар речи.
– Миша! Ты что? – с ужасом глядя на него, залепетала она. – Я ничего не понимаю… Миша, как ты можешь так… обо мне?
Одна за другой, встревоженные всем этим шумом, в прихожую торопливым шагом вышли Нина Елизаровна с Лидой.
Нина Елизаровна обежала всех быстрым взглядом.
– Что здесь происходит? – спросила она у Ани.
– Что такое, Андрей? – спросила Лида. Она слышала его голос, а потом Миша закричал, и ей показалось, что виновник этого шума – Андрей Павлович.
– Что такое?! – громко, с развязностью ответил за всех Миша. И посмотрел на Нину Елизаровну. – Знаете про свою дочечку? Чем она занимается? С мужиками за деньги спит! В милиции на учете стоит! Я ее здесь в прошлый раз с билетами в театр жду, а ее снова в милицию замели – голая по подъезду бегала, в цене не сговорились, проучить ее вытолкнули…
Аня стояла, слушала его, вконец онемевшая, к ужасу в ее глазах добавилось отчаяние.
Нина Елизаровна с Лидой попытались остановить Мишу:
– Что вы плетете?! Что за бред! Где вы набрались такого?
Но Миша разошелся – его не остановить было.
– Что, не верите?! – повысил он голос. – Да мне ее подруга Светка, с которой они там вместе были, все рассказала. Светка только не корчит из себя, а ваша чистенькую из себя…
Ане стало ясно, откуда взялась вся эта напраслина, и ей разом сделалось легче, она бросилась к Мише:
– Это неправда! Это все неправда! Это не так, Миша! Я тебе все объясню, Миша!..
Но Миша оттолкнул ее от себя и с размаху, насколько то позволяла теснота прихожей, и раз, и другой хлестнул Аню по щекам.
– Вот тебе… за… вокруг пальца!
И прежде чем кто-то успел осознать происшедшее, протолкнулся мимо Андрея Павловича к двери, рванул ее и выскочил наружу. Впрочем, когда он открывал замок, Андрей Павлович сделал было движение, чтобы схватить его, но почему-то остановился.
Аня, машинально закрывшая после Мишиных пощечин лицо руками, какое-то мгновение после того, как он убежал, стояла недвижно, потом ноги у нее подкосились, она упала на колени, и ее затрясло в рыданиях.
– И это еще!.. И это! – вырывалось у нее сквозь рыдания. – Почему? Светка!.. Ой, какая подлость, какая подлость… как бессовестно…
Лида с Ниной Елизаровной подняли ее и под руки повели в комнату.
– Я! За деньги!.. На учете в милиции… Мама, Лидочка, с ума сойти! И он поверил!..
– Он подонок! – гневным, звенящим голосом сказала Нина Елизаровна. – Бить женщину! Не жалей о нем.
– И подл, и труслив еще. Как заяц убегал. Сделал гнусность – и побежал. Как заяц. Надо благодарить Светку. – Лида говорила мягко и утешающе, но вместе с тем в голосе ее была укрепляющая сила.
На Аню, однако, ничего еще подействовать сейчас не могло.
– Что ты понимаешь, что ты понимаешь!.. – рыдая, ответила она Лиде. – Светка оговорила… довела его! Он такой нежный был, такой непохожий, сам меня останавливал…
Андрей Павлович подсел к Ане на диван. Глазами он показал Лиде с Ниной Елизаровной: помолчите, не вмешивайтесь!
– Не надо ни о чем жалеть, Анечка, – сказал он. – Все к лучшему случилось. Я в тот день, когда ты джинсами менялась, час тут сидел, с ним разговаривал. Он жлоб, дегенерат… и как он о тебе пошло говорил… я. тебе даже передать не берусь. Как о товаре, о тебе говорил!;
– Неправда! – закричала Аня. – Врете! Не может быть. Это вы специально сейчас все!..
Она снова закрыла лицо руками, затрясла головой, и Андрей Павлович осторожным, бережным движением отнял ее руки от лица и взял в свои.
– Специально. Правильно, Анечка. Все правильно. Ты молодец, ты умница, ты все понимаешь. Но неправды тут нет. Просто когда и сказать, как не сейчас. Не стоит он тебя, мизинца твоего не стоит…
Он говорил это, гладил ее мокрые от слез руки, и Аня понемногу начала успокаиваться.
Но чем больше успокаивалась Аня, тем ближе подступали слезы у Лиды; она крепилась, крепилась, кусая губы, – не выдержала в какой-то миг, слезы полились у нее ручьем, и она быстрым шагом, едва не бегом, пошла из комнаты.
Краем глаза Андрей Павлович уловил какое-то движение рядом, поднял голову, увидел, что это уходит Лида, и увидел, что плечи ее вздрагивают и она вытирает на ходу щеки ладонями. Лицо его как смялось: тревога, страх, стыд – все прорезалось на нем, он вскочил с дивана, оставив Аню, бросился вслед за Лидой из комнаты.
– Какая подлость, ой, какая подлость… – прерывисто вздыхая, но уже не плача, проговорила Аня.
Андрей Павлович заскочил следом за Лидой на кухню, закрыл дверь и обнял ее сзади за плечи:
– Лида! Лидочка! Лидуня!.. Милая моя Лидочка, что с тобой?
– Не надо, Андрей. Оставь! – с трудом, сквозь стиснутые зубы ответила Лида.
– Но что, что такое, Лида? Что случилось? Почему ты не хочешь, ехать, не хочешь меня видеть, почему?
– Андрей!.. Андрей! – Лида все пыталась осилить слезы. – Ах, Андрей!..
– Лидуля! – Андрей Павлович повернул ее к себе лицом и, вглядываясь в ее переполненные влагой глаза, стал гладить по щекам. – Милая моя! Ну что, что случилось, скажи мне. Чтобы я знал, чтобы я понял… Ведь мы вместе, ты не одна, я всегда с тобой…
Лида отняла его руки от своего лица.
– Это я всегда с тобой…
Мгновение Андрей Павлович молчал. Потом заговорил с горячечной, исступленной силой:
– Ты устала?! Милая моя, радость моя, ты устала? Я знаю, я понимаю… я плох, я дурен… так, как у нас, это нечестно по отношению к тебе… но как по-другому? Ты даешь мне силу, ты для меня, как Гея, я, как Антей… я изможден, жить неможется – припадаю к тебе и оживаю, вновь становлюсь человеком. Прости меня, милая моя, радость моя!.. Никто не знает мой ад, этот огонь, на котором поджариваешься… я хожу на работу, играю из себя бодрячка, весельчака, кажусь, наверно, другим этаким везушником, сам порой начинаю себя чувствовать таким… но потому лишь и могу быть таким, что есть ты! Я не могу без тебя, мне нельзя без тебя… зачем мне это кавказское побережье, если без тебя?!
Он называл себя бодрячком, везушником – кем и действительно казался обычно, – но сейчас в нем ничего не осталось от этого обычного, сейчас это был смятый, потерянный человек, и в выспренности его речи не проглядывало никакой позы – одна оглушенность, судорожная попытка спрятаться за слова, спастись ими, заслониться…
Лида отступила от Андрея Павловича и промокнула рукой мокрые глаза. Она осилила слезы, и они больше не текли у нее.
– Я никогда, Андрей, ничем не попрекала тебя, – сказала она, не глядя ему в лицо. – Никогда, ни разу, ты ведь знаешь. Зачем же объяснять мне все это? Я любила тебя и потому принимала все как есть. Да я бы не смогла любить тебя, если б ты бросил сына. Может быть, я потому тебя и любила, что ты такой. Ведь никогда я не требовала, не просила даже, чтобы ты оставил семью? Это так подло было бы, если бы ты их оставил. Вы оба виноваты, что сын ваш так болен, и крест вам нести обоим. Я никогда не чувствовала в себе права помочь тебе снять его и переложить только на ее плечи. Я бы себя последней гадиной чувствовала, если бы вдруг попыталась сделать это…
– Но что произошло, Лида?! – перебил ее Андрей Павлович. – Что случилось? Вчера ты не могла, потому что спектакль у отца. Я понимаю, я поменял билеты… но что тебе мешает сегодня?!